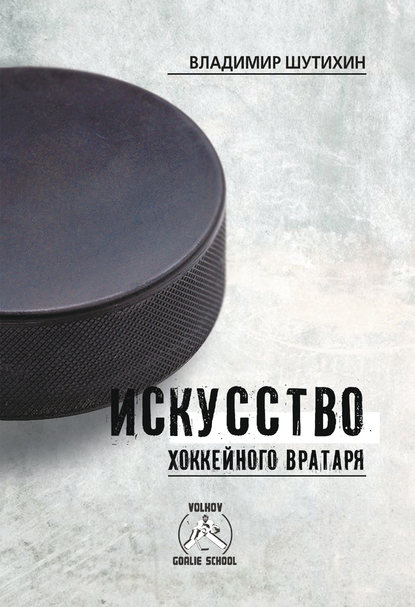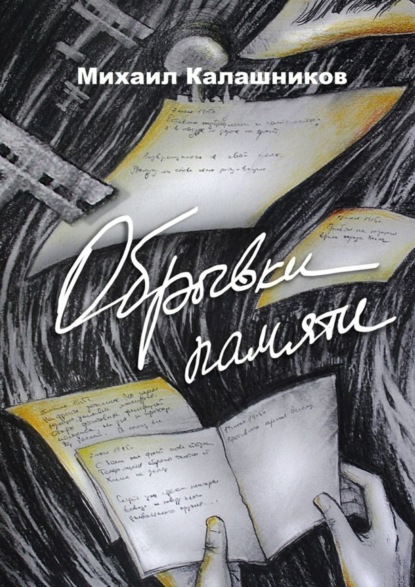- -
- 100%
- +
Её щёки пылали таким румянцем, что казалось, будто она вот-вот вспыхнет. В её глазах читалась какая-то странная смесь стыда, решимости, ожидания и страха.
Ну, вот как с ней говорить? Мне нужно название предмета, а она выливает на меня целое море слов. Как из них нужное выковырять? И чего она краснеет? Вот как этих женщин понять?
Хорошо, рыба закипела и попыталась убежать. Оюме ойкнула и бросилась к очагу догонять рыбу.
Принесла мне миску с бульоном и куском рыбы. Себе не принесла.
Я сказал: "Оюме" и указал на свою миску. "Хай", ответила девушка и вернулась со второй миской, на дне которой плескалась столовая ложка жидкости. Я повторил строже: "О-ю-ме"! И ткнул пальцем в горшок потом в её миску и показал двумя руками на свою, как тот негр в роликах делал. Типа "вот такое должно получиться".
Вернулась. Бульона прибавилось, а рыбы она себе не положила. Нет, девочка, так ты сиськи мне на радость не отрастишь. Взял палочки и переложил ей свой кусок рыбы.
Она ойкнула ещё раз, бросилась к горшку и принесла мне новый кусок рыбы. Потом попыталась усесться в уголке, но я показал на место за столиком напротив меня. Мол, сиди тут, как человек.
– Итадакимас, – прошептала девушка.
– Итадакимас, – отозвался я. Оюме чуть не подавилась от неожиданности, широко раскрыв на меня глаза. Опять я что-то не то сказал? Или не так?
Девушка ела быстро, но очень аккуратно, не уронив ни крошки еды. Каждую косточку она тщательно обсосала. Бульон выпила весь до капли.
Я возился со своей порцией гораздо дольше, разбираясь с костями. Никогда не любил рыбу именно за это. Вот, если рыба шпрота, или тушёная в томате, где все косточки мягонькие, это да. Так что она там вчера говорила после еды?
– Гочисо сама деста.
– Готисо сама дэста, – отозвалась девушка.
– Аригато, Оюме-тян, – напряг я все свои лингвистические возможности.
Девушка замерла, словно её поразило громом. Глаза у нее стали почти европейские по размеру. Это был не просто испуг. Это был шок, смешанный с каким-то смущённым, диким и совершенно непонятным для меня восторгом. Её губы дрогнули, пытаясь сформировать улыбку, но вместо этого она снова ударилась лбом о пол, что-то быстро и несвязно бормоча. Ну что я опять не так сделал? Мысленно плюнул и пошёл на улицу. Эта рыба скоро закончится. Надо больше рыбов. Взял свою острогу и побрёл на речку, оставив ее разбираться в ее эмоциях.
Солнце уже начинало клониться к закату, пик жары прошёл, но я не снимал соломенную конусообразную шляпу, которую нашёл в сарае. Итак, что нового я узнал "Итадакимас" это что-то типа "приятного аппетита", а "готисо сама дэста" – "спасибо, очень вкусно". Про стол так выяснить и не удалось. А на окончание "тян" она сперва обрадовалась, а потом испугалась. Почему? Да кто её разберёт. Блин, проще Звезду Смерти из Лего без инструкции собрать!
Я уже порядком сместился вверх по течению, когда с берега раздался грубый пропитый голос,
– Оро ка, миро миро. Донна бака моно га оре-тати но сакана тори ягаттэ я гару нда. Саттэ кои, вакэмонку тё симэро я [10].
Они что, сговорились все? Я же ничего не понимаю в вашей тарабарщине! Хотя, если судить по тону и вон по тем двум личностям в потрёпанной одежде и с откровенно криминальными повадками, которые идут в мою сторону, сейчас меня будут бить. А, учитывая регион, может быть, даже, ногами. И угадайте с трёх раз, кто это у нас такой бесстрашный снова из дому без мечей ушёл? И удирать мне нельзя. Они, наверняка, припрутся в деревню. И Оюме оприходуют. Их-то ни возраст, ни размер не смутят.
Игнорирую их, продолжаю делать вид, что высматриваю в воде рыбу. Горлм-горлм.
– Э, кикитэ ка, цуно наси яги. Сакана, ёкося, ё [11]! – Раздаётся от самой кромки воды.
Киваю, разворачиваюсь на голос и втыкаю свою острогу в лицо левого грабителя. Он поближе стоит. Венчик бамбуковых зазубренных шипов с противным хрустом пробивает тому глаза и щёки и намертво застревает. Он верещит, держась за лицо, как кошка, которой наступили на лапу, высоко и пронзительно. Выхватываю у воющего разбойника из-за пояса меч и отмахиваюсь от второго, который только-только начал поднимать для удара свою тяжелую дубину. Сталь со свистом рассекает воздух. С влажным чавкающим звуком его кишки, сизые и пульсирующие, комком гигантских червей вываливаются на траву. Он непонимающе смотрит на эту шевелящуюся кучу у его ног, потом падает на колени и двумя руками, с тупым упорством, пытается запихнуть их в себя. Кишки выскальзывают из его окровавленных пальцев и не хотят запихиваться обратно в живот. Обхожу их и направляюсь к главарю. У того выпучиваются глаза от моего роста и от того, как быстро он остался без подчинённых.
– Ронин сама, – заорал разбойник дурным голосом, валясь ниц, – Гомен кудасай! Косай иташимас! Коно бакамоно о юрушито кудасай! [12]
Я посмотрел на лежащего передо мной разбойника, от которого пахло пареной репой, перебрал свой словарный запас, не нашёл ничего подходящего и молча рубанул его по шее. Тем же самым движением, какое сделал уже, много тысяч раз, копая могилы это мотыгой, или заступом, или кто он там? Удар вышел отменный, похоже, сенсей был прав. Тело дёрнулось в короткой агонии последний раз и затихло.
Опустил меч и оглядел поле боя. Впервые за последние дни я был благодарен тому факту, что в моей жизни были похороны полусотни несвежих трупов. Насмотрелся всякого про богатый внутренний мир людей. И сейчас я не испытывал ничего, кроме удовлетворения от того, что не получил ни одного удара. И ещё пустоты, какая бывает после успешного завершения тяжелой неизбежной работы. А, ведь, случись такое дня четыре назад, обрыгал бы всю эту поляну. Как тогда, когда обнаружил труп в луже, плавающий в весёлой компании своих кишок. А сейчас – даже позывов нет.
Потом, я подошёл к орущему разбойнику с острогой в лице и осуждающе сказал:
– Ну вот, что ты за человек такой? Распугал своим ором всю рыбу. Испортил мне рыболовную снасть. Мне ж её из тебя не выдернуть. Где мне теперь новую сухую бамбучину брать? Я эту-то почти час делал! Всю рыбалку вы мне испортили, гады. А у меня там девка не кормленая…
Короче, задвинул ему речугу минут на пять и размахиванием руками. Видимо, нервы, всё-таки, дали о себе знать. А потом со злостью воткнул его катану ему же в живот по самую цубу. И мне полегчало и он, глядишь, быстрее помрёт. Подобрал свои пять рыбин, что я успел загарпунить. Они, умнички такие, так и ждали меня на той ветке, на которую я их жабрами насадил, никуда не убежали. Дрессированные, наверное. И пошлёпал по воде на свой берег к тому месту, где штаны свои оставил.
Над моими штанами во всей своей красе стояла бледная, как полотно, Оюме-тян с ножом для чистки рыбы в руке. И смотрела на меня совершенно безумными глазами, в которых плескался пережитый ужас. Её полотенце, которым она повязывала голову, куда то пропало, волосы растрепались. Кимоно, тоже было запахнуто не идеально.
– Что случилось, маленькая? – Поинтересовался я как можно беззаботное, стараясь скрыть дрожь в голосе. Адреналин схлынул и в голову стали закрадываться мысли, что людей убивать, в общем-то нехорошо и воспитанные мальчики так не делают. Рефлексия, так её растак.
– Ронин-сама… – Шепчет девушка кланяясь. Отвороты кимоно при этом раздвигаются на груди, демонстрируя отсутствие изменений, я же говорил, надо больше рыбов. – Ано… Ано хито-тачи ва…мо коно моно, но токоро ни…конай н дес ё не.? Мо дайёбу нан дэс ё не?[13]
Ничего не понял, но очень интересно. Снова глажу её по макушке. Бормочу свою мантру "Оюме – Бурадо" и тычу пальцем в рыбу.
– Сакана дэс, – представляет мне животинку Оюме и снова почему-то краснеет. Вот бы понять, что у неё там в голове творится, но, к сожалению, мой телепатический шлем в ремонте, а мастерскую это построят теперь ещё очень и очень не скоро.
– Вот-вот, держи этих саканав…саканей… С меня добыча с тебя обработка. А мне про новую снасть надо думать, – говорю я девушке, стараясь, чтобы голос звучал привычно и спокойно, и направляюсь домой.
– Ронин-сама.? Коно моно вакари канимас ё… – раздаётся за спиной уже знакомая, хоть и непонятная фраза.
– Ну а кому сейчас легко, – развожу я руками, – я тебя, маленькая, тоже нифига не понимаю. Идём, ужинать пора. А то уже и есть хочется, и солнце садится.
За ужином я всё-таки добился своего. Стол – это "цукуэ", палочки для еды –"хаси" или "о хаси", матрас для спанья – "футон". А ещё на ужин к рису были какие-то корешки, которые Оюме потушила в горшке, называемом "тюко". А кимоно на Оюме вовсе не кимоно, а "косоде", как она пояснила, показывая на рукава. Причём тут рукава, я так и не понял.
Как мне всё это впихнуть в голову так, чтобы она не лопнула? И это я еще писать-читать не учусь. Ой, мама, роди меня обратно. Желательно, в цивилизацию, с интернетом и словарями. Или, хотя бы, с магией. Только, чтобы у меня сильное колдунство было, а не как сейчас.
Девушка расстелили рядом два футона, и мы улеглись спать. Оюме, уже засыпая, пробормотала сонным голосом,
– Наму Амида Буцу[14]
– Аминь, – подытожил я, глядя в потолок, где шевелились тени от углей в очаге и перебирая в голове события сегодняшнего дня… Уж больно эти её слава на молитву были похожи.
Комментарии:
[1] Моосивкэ годзаимасэн – Простите мой неприглядный вид.
[2] Ронин-сама! Гойсё сама дэс! Аригато годзаимас! Дзэтто итасимас! – Господин ронин! Это великая милость! Благодарю вас! Приготовлю незамедлительно!
[3] Сугой сакана дэсу нэ… Асо, дзёзу ни о сараи ни икимасу! Тядзу о мо каэтэ кимасу! – Замечательная рыба…Тогда пойду к колодцу почищу! Вернусь, принеся воду
[4] Ронин-сама, сакамэ га ёку дэкиру мадэ, сё сио мати кудасаи-э – Господин ронин, надо немного подождать, пока рыба приготовится.
[5] Моси ронин-сама га о нодзоми нара, коно мусумэ то асамэтэ мо ёроси. Коно мусумэ ва дзюмби га дэкитэиру. Карей ва киёйкой дэс. – Если господин ронин хочет, он может позабавиться с этой девочкой. Эта девочка подготовилась. Она чистая.
[6] О ваби мо сиагэмасу, ронин-сама. Мо сивакэнай коно орока-на мусумэ-но сита ни ва, гомэй о тадасику хё:гэн дэкимасэн дэ – Простите, господин ронин, глупый язык этой девочки не может правильно произнести ваше благородное имя
[7] Сорэ ва цукуэ то мосимас, ронин-сама! – это называется "стол", господин ронин!
[8] Хай – очень ёмкое слово. Означает "да", но является очень контекстозависимым и может выражать согласие с мнением собеседника, концентрацию внимания на речи собеседника (да-да, я внимательно Вас слушаю), принятие приказа (есть/слушаюсь) , понимание сути распоряжения или приказа (усё поня́л, ща всё будет), и т.д, и т.п.
[9] Ронин-сама, коно мусумэ о цукуэ дэ о-тори ни наримас ка? – Господин ронин, Вы хотите взять эту девочку на столе?
[10] Оро: ка, миро миро. Донна бака моно га оре-тати но сакана тори ягаттэ я гару нда. Саттэ кои, вакэмонку тёсимэро я. – Эй, братва, гляньте-ка, какой-то дурак нам рыбку ловит. Идите-ка, объясните ему, что надо делиться.
[11] Э, кикитэ ка, цуно наси яги. Сакана, ёкося, ё – Эй, козёл безрогий. Рыбу отдал!
[12] Ронин-сама, гомен кудасай! Косай иташимас! Коно бакамоно о юрушито кудасай – Господин ронин, простите пожалуйста! Я ошибся! Простите этого дурака!
[13] Ронин-сама… Ано… Ано хито-тачи ва…мо коно моно, но токоро ни…конай н дес ё не.? Мо дайёбу нан дэс ё не? – Господин ронин… Эти… Эти люди… Они уже не придут к ней? Всё ведь уже… хорошо?
[14] Наму Амида Буцу – Воздаю хвалу Будде Амитабхе – одна из самых важных молитвенных фраз в японском буддизме.
Глава 4
Проснулся от того, что Оюме уткнулась мне в подмышку и закинула на меня руку и ногу. Не то, чтобы я был сильно против, вот, только, косодэ её опять без пояса и она от него снова почти отдельно. Её твёрдый сосок упирается мне в бок, скользя по коже при дыхании вызывая в голове вполне определённые мысли. Вот, странное дело, сисек у неё нет, а соски крупные и твёрдые. Хорошо, хоть, это всё под одеялом и я не вижу её тела.
Так, стоп, фу, брысь, отставить похотливые мысли. Надо думать о хлебе насущном. Кстати, полмешка уже далеко не полмешка. Надо бы прошерстить деревню. Как-никак, мы – единственные наследники её безвременно почивших жителей.
Оюме ворочается по сне и её рука сползает с моей груди на живот. Не-не-не, так дело не пойдет. Так мне придётся на реку бежать и стирать мою повязку. Интересно, что Оюме такой набедренной повязки не носит[1]. Я это чувствую вот прямо сейчас. Она упиралась в меня своими тёплыми, пушистыми кучеряшками. Прямо в бедро.
Ну вот, сглазил. Повязку придётся стирать…
Аккуратно выползаю из-под её конечностей и, подхватив штаны и трусы убегаю отмываться – отстирываться.
Когда я вернулся с реки, Оюме, чем-то очень смущённая, уже хлопотала по хозяйству, готовя нам завтрак. Неизменный бурый рис и какие-то овощи или корешки с огорода.
– Оюме-тян, окликнул я её и она опять испуганно вздрогнула. – Надо бы нам с тобой сходить в деревню, посмотреть там насчёт продуктов. А то, мы тут скоро всё подъедим.
– Ронин-сама? Коно моно вакари канимас ё… – привычно откликается она кланяясь. Пытаюсь жестами объяснить ей, что после завтрака я собираюсь пойти в деревню и предлагаю ей пойти со мной.
– Хай, – откликается она. Похоже, что "хай" означает "да".
Чем ближе мы подходим к деревне, тем беспокойнее выглядит Оюме. Она оглядывается по сторонам, будто кого-то или что-то ищет. Хорошенько пошевелив мозгами, понимаю, что она высматривает мёртвых односельчан. Кладу ей руку на плечо.
–Оюме-тян, тут никого нет. Они все там. – Показываю в сторону холма, где я рыл могилы. – Я их там похоронил.
Девушка вздрагивает и умоляюще смотрит на меня глазами кота из "Шрека",
– Ронин-сама, ити-ни иттэ мо ии дэсу ка? О-вакари ни наритэй но дэс [2].
Ну, тут и ёжику понятно, что она хочет попрощаться с родными.
Поднимаемся к свежим могилам. Девушка кланяется им, всем сразу, всхлипывает, – Тита-сама, хаха-сама, мина-сама… о-цукарэсама дэсита. Наму Амида Буцу [3].
Я внимательно слушаю, но из знакомого распознал только "сама" и "намуамидабуцу".
– Сёдзёбу дэсу. – Продолжает шептать Оюме сквозь слёзы – Аната-но мусумэ ва, цуёй ронин-сама ни мимориматтэ итадакимас[4].
Узнаю "ронин-сама", то ли Оюме жалуется родителям на меня, то ли знакомит их с потенциальным зятем.
– Канодзэ ва аната-но мусумэ о дарэ ни мо идзимэсасэнай. Дэмо… Наму Амида-буцу… канодзэ га, ватаси о онна ни ситэ курэру ё: ни…[5] – совсем тихо шепчет девушка, заливаясь краской.
Ну, тут я ничего кроме "намуамидабуцу" не разобрал.
Она кланяется могилам последний раз, вытирает лицо и мы спускаемся обратно в деревню.
– Коно мусумэ ва, ронин-сама га со-синдзю-но микурата о ясасику о-кай-сита кото о, коко-дэ о-рэй-мо:сиагэмасу [6] – кланяется она мне.
Я уловил слово, которое повторялось несколько раз за последнее время и переспрашиваю
– Мусуме?
–Мусумэ, – Оюме кладёт ладонь себе на грудь. Потом протягивает её ко мне, но не решается прикоснуться, – Отоко.
Итак, "отоко" – это, скорее всего, "мужчина". А "мусумэ" – это или "женщина", или" девушка"
А потом Оюме, покраснев, показала одну ладонь и сказала: "мусумэ", вторую: "отоко", сложила ладони, положив "отоко" на "мусуме" и хорошенько их потёрла. Показала мне ту ладонь, которая "мусумэ" и сказала "онна"
Вот теперь ясно. "Мусумэ" – это девушка. И чтобы стать женщиной – "онна" ей нужно как следует потереться об мужчину. И Оюме ещё мусумэ. Вот, не было печали. Похоже, что тот отоко, об которого она хочет потереться, это я. И судя по её смущённым, но полным решимости взглядам, она считает эту идею не пугающей, а весьма перспективной Вообще-то от этого дети бывают. А я в этой деревне ни роддома, ни женской консультации не видел. Да, даже если они тут и есть, в них теперь острый кадровый голод.
Начинаем обшаривать дома. При виде бурых пятен в некоторых из них Оюме вздрагивает, но от поисков не отказывается. Грабители изрядно всё переворошили, но их интересовали в первую очередь ценности. Во вторую – продукты долгого хранения. Но, видимо, они не смогли организовать правильного выноса ценностей, когда хозяева сами всё отдают, только бы их не трогали. Так что, наша добыча была весьма богатой. Мы раздобыли несколько мешков риса, мешок пшена, мешок каких-то бобов, плошку с солью, два больших горшка с маринованными овощами, и ещё всякого по мелочи.
У одного из домов Оюме остановилась. Дом выглядел беднее, чем соседние.
– Коно иэ… ватаси но дэс.[7]
– О дзямма шимас, – пробормотал я переступая порог. Мне пришлось пригнуться, чтобы пройти через низкую дверь и не стукнуться о притолоку.
Оюме мне благодарно улыбнулась. Оглядываюсь в сыром полумраке. Дома без жильцов отсыревают очень быстро. Похоже, тут даже не грабили. Только всех наружу выпинали. Отсюда я утащил мужика разрубленного от плеча до пояса и два маленьких детских тельца с размозженными головами. Вздрагиваю от воспоминаний.
– Мо:сивакэ аримасэн, ронин-сама… тити-ва дзё:суки дэста. Ути-ва, то-тэмо бимбо: дэста [8]… – шепчет Оюме. По щеке у неё ползёт слезинка.
Обстановка крайне бедная. Заметно, что тут пытались поддерживать порядок, но особо гулять было не на что. Не иначе, папенька Оюме любил заложить за воротник. Тогда понятно, чего она такая тощая, отец, видимо, всё пропивал. Вот, только, нож у него в руке был со следами крови. Кого-то он успел пырнуть перед смертью.
Оюме скрылась в глубине дома и вернулась с узелком, который она печально поглаживала. Я потрепал её по макушке и мы пошли на солнечный свет.
Кроме еды мы собрали всю одежду, какую нашли. Не делая при этом разницы между нарядной и повседневной. Что не сгодится для но́ски, пойдёт на заплатки или тряпки. Не в нашем положении привередничать. А ещё Оюме где-то в закромах родины нашла несколько рулонов ткани. Кажется их "штуками" у нас называли.
Перетаскивали всё это добро на нашу базу за несколько переходов, используя ручную тележку. Видимо, именно её следы я видел на той дороге. А, может, другой такой же. Теперь понятно, почему я следов от копыт не обнаружил.
Наш дом превратился в смесь продуктового склада, склада готового платья и склада инструментов. Во времена моего детства тот магазин в соседней деревне старушки называли словом "лабаз". Маленькому мне в нём нравилось. Там тоже было всё. Задолго до гипермаркетов в нём можно было купить хлеб, конфеты, консервы, крупы, гвозди, спички, хомут, керосин и ещё тысячу нужных вещей. Вот и наше жилище теперь такой лабаз. Постоянно обо что-то спотыкаюсь. То об рис, то о бобы, то о тюк с чем-то мягким.
Оюме растеряла всю свою грусть и с деловым видом очень озадаченной пчёлки мечется из угла в угол, что-то перетаскивая и укладывая в только ей понятном порядке.
Во всяком случае, едой мы теперь обеспечены на год, если не больше. А дальше? Будет день, будет и пища.
Пока Оюме проводила сортировку и инвентаризацию, я сходил к моим вчерашним разбойникам. Меня внезапно посетила гениальная мысль, что у них могут быть денежки. Логических обоснований ей я не находил, но просто осязал увесистые кошельки с золотыми монетами. На одной стороне бородатый дядька в профиль, а на другой – угловатый стилизованный дракон. Вот и пошёл. Ну и обломался по полной программе. Нашёл у миньёнов по горстке монеток с дыркой, а у главаря – связка таких же монеток на верёвочке и небольшой серебряный слиточек, длиной с указательный палец.
Вернулся домой, выложил добычу перед Оюме, объясняй, мол.
– Мон, – тыкает она пальцем в монетку, потом приносит миску варёного риса и снова тыкает в монетку.
Понятно. За такую вот денежку можно получить одну миску риса, то есть, один раз слегка поесть.
Из россыпи набирает пятьдесят монеток и нанизывает их на верёвочку,
– Нидзюмон.
– Годзюмон, – возражаю я, вспоминая японский счёт.
– Годзю мон ару но ни, коно-цуна ва нидзюмон то иимасу[9] – Разводит руками девушка.
Потом берёт большую связку, быстро пересчитывает кругляшки, как костяшки чёток, и уверенно заявляет – Хякумон.
Ну с этим понятно, это у нас стольник.
Показывает на хякумон, потом показывает три пальца и трясёт за рукав своё косодэ. Ничего себе, тут у них цены. Три сотни за простую одёжку.
Прикидываю, у нас порция риса обошлась бы примерно в пятьдесят рублей. Это мон. А косодэ, выходит, пятнадцать штук стоит? То ли жратва дешевая, то ли одежда дорогая.
Показывает на хякумон, потом все десять пальцев и говорит, – Кан.
Потом на серебряный слиточек и повторяет: "кан".
То есть, вот такая серебрушка – это тысяча порций риса. Это я удачно сходил к моим разбойничкам.
Мы сидели на полу среди мешков и тюков, и Оюме, воодушевлённая моим интересом, устроила настоящий урок местной финансовой грамоты. Она раскладывала перед нами монеты, веревочки-нидзюмон, показывала на разные предметы в доме и называла их примерную стоимость. Я ловил каждое слово, пытаясь уловить логику в этом странном мире, где связка из пятидесяти монет называется «двадцать», а маленький кусочек серебра равен тысяче порций еды.
Эти бронзовые кружочки с дырками были для Оюме не просто металлом. Они были возможностью. Возможностью купить новую одежду, сменить прохудившуюся крышу, приобрести хорошие инструменты. Купить новую жизнь. Для Оюме, выросшей в бедности, где каждая монета была на счету, наш «лабаз» и найденные деньги казались воплощением неслыханной удачи.
Солнце уже клонилось к закату, отбрасывая длинные тени от груды нашего добра. Урок экономики подошёл к концу. Оюме аккуратно собрала все монеты, разложила их по маленьким холщовым мешочкам и спрятала в укромном уголке, который она, видимо, уже определила для наших сокровищ.
Я заметил, как изменились её движения. В них появилась уверенность, какая-то солидность, что ли. Уже не нищая замарашка на берегу реки, от отчаяния и голода показывающая чужому ронину "товар лицом", а… Кто?
Хозяйка дома? Вряд ли. Слишком дерзко для неё
Женщина хозяина дома? Наверное. Женщина. Онна. А, ведь, однажды мне придётся переступить через все те нравственные запреты последних полутора веков и сделать её женщиной, своей женщиной.
Почему полутора? Потому что до этого детей не было. Были маленькие взрослые с ограниченными возможностями.
Вечером мы ели густую похлёбку из той самой рыбы, что я поймал вчера, и с добавлением наших новых запасов – сушёных грибов и кореньев. Еда была простой, но сытной и невероятно вкусной после долгого дня. И она была с солью! Я чувствовал странное удовлетворение. Да, вокруг был хаос, да, мы жили среди призраков целой деревни, но сегодня мы сделали важный шаг – мы обеспечили себе будущее. По крайней мере, ближайшее.
Оюме, закончив убирать со стола, присела рядом со мной и принялась штопать одно из своих старых косодэ. Зачем? Ведь у нас есть несколько мешков этих одёжек. Это мне они не налезают, а Оюме обеспечена одеждой на два перерождения вперёд. Тишина в хижине была тёплой и уютной, её нарушал только треск поленьев в очаге и ровное дыхание девушки. Я наблюдал за её работой – тонкие пальцы ловко орудовали иглой, её лицо в свете огня было сосредоточенным и спокойным. И тут я понял. Потому что так устроен её мир. В её мире всё было просто: есть работа – её нужно делать, есть долг – его нужно отдавать, есть мужчина, который о тебе заботится – ему нужно служить.
Вспомнил анекдот, как чукча вёз беременную жену в посёлок рожать.
Нда. "А мне думай, как жить дальше, однако". А, может, не зря было сказано: " живите днём сегодняшним"? А про завтрашние проблемы пускай голова завтра болит? Или я так совсем перестану думать? А надо ли тратить нервы на то, чего пока что нет и, может быть, никогда не будет? Я вам не доктор Стрендж, просматривать миллионы линий вероятности.
У нас есть еда. У нас есть крыша. У нас есть с кем поговорить, пусть мы и не понимаем друг друга. Мы настоящие богачи, хоть по меркам моего мира, хоть этого.
Оюме закончила штопку, перекусила нитку и посмотрела на меня,
– Ронин-сама, аната-но тамэ ни косодэ то хакама о нуттэ мо ии дэсу ка?[10]
Она посмотрела на меня с какой-то надеждой. Вот чего она от меня хочет, а? Косодэ… Новую одежду, что ли, хочет сшить? Или для меня. Фиг его разберёт. У меня ещё от их денежной системы голова гудит.