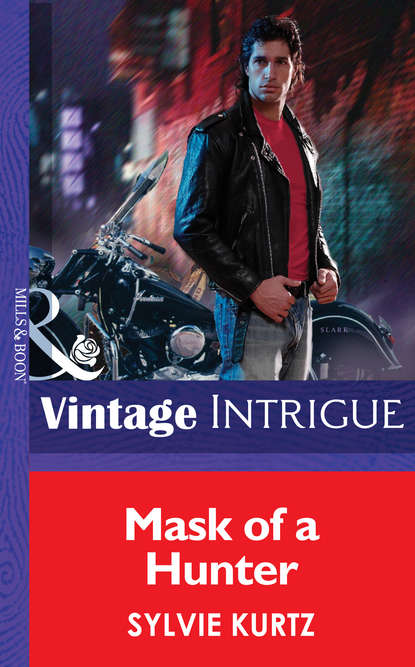- -
- 100%
- +
На всякий случай киваю головой,
– Хай.
Улыбается, кланяется,
– Коно мусумэ ва, хайру ни нуимунэ га дэкимасу. Ронин-сама, китто о-ёрокосу ни нару то омоймас! [11]
Копается в своём заветном уголке, достаёт верёвочку с узелками, начинает снимать с меня мерку. – Сейчас мы будем вашего мальчика измерять, – пробормотал я усмехаясь.
Я посмотрел на её худенькие пальцы, держащие мерную верёвочку, на её полный энтузиазма взгляд. Она хотела быть полезной. Хотела сделать что-то важное для меня, для своего «ронина». Не удержался и снова потрепал её по макушке.
Сегодня ложась спать, Оюме сменила свой дневной косоде на другой, из наших трофеев. Переодеваться она убежала в дальний уголок, куда я нет-нет, да бросал взгляд. Поясок она снова не завязала. И, засыпая, пробормотала, Наму Амида Буцу… Амин… Комментарии [1] Набедренную повязку в виде фундоси (длинная полоса ткани, особым образом обматывающаяся вокруг бёдер) или мокко (короткая полоса ткани, пропускаемая между ног и крепящаяся на поясе) носили только мужчины. Женщины не носили ничего похожего. Только обычную одежду ("кимоно" – означает "одежда"). [2] Ронин-сама, ити-ни иттэ мо ии дэсу ка? О-вакари ни наритэй но дэс – Ронин-сама, можно мне сходить туда? Я хочу попрощаться (произнести слова прощания). [3] Тита-сама, хаха-сама, мина-сама… о-цукарэсама дэсита. Наму Амида Буцу.[3] —Отец, мать, соседи… вы хорошо потрудились. Слава Будде Амитабхе. "Вы хорошо потрудились" – традиционное выражение уважения к усопшим. Мина-сан/мина-сама – безличное обращение сразу ко всем слушателям. Например, для артиста заполненный зал – это мина-сама. [4] Сёдзёбу дэсу. Аната-но мусумэ ва, цуёй ронин-сама ни мимориматтэ итадакимас – Все в порядке. За вашей дочкой присматривает сильный господин ронин. [5] Канодзэ ва аната-но мусумэ о дарэ ни мо идзимэсасэнай. Дэмо… Наму Амида-буцу… канодзэ га, ватаси о онна ни ситэ курэру ё: ни… – Он не позволит никому обижать вашу дочь. Но… Молюсь Амиде Будде… чтобы он сделал меня [своей] женщиной… [6] Коно мусумэ ва, ронин-сама га со-синдзю-но микурата о ясасику о-кай-сита кото о, коко-дэ о-рэй-мо:сиагэмасу – Эта девочка выражает здесь свою благодарность за то, что господин ронин с такой заботой похоронил тела её родных. [7] Коно иэ… ватаси но дэс. – Это… мой дом [8] Мо:сивакэ аримасэн, ронин-сама… тити-ва дзё:суки дэста. Ути-ва, то-тэмо бимбо: дэста… – Мне нет прощения, господин ронин… Отец любил выпить. Мы жили очень бедно. "Мне нет прощения" – универсальная форма начала извинения. [9] Годзю-мон ару но ни, коно-цуна ва 'нидзю-мон то иимасу – Хотя здесь пятьдесят мон, эта верёвка называется "двадцать мон". [10] Ронин-сама, аната-но тамэ ни косодэ то хакама о нуттэ мо ии дэсу ка? – Господин ронин, можно мне для вас сшить косодэ и хакама? [11] Коно мусумэ ва, хайру ни нуимунэ га дэкимасу. Ронин-сама, китто о-ёрокосу ни нару то омоймас. – Эта девочка умеет хорошо шить. Я думаю, господин ронин обязательно обрадуется.
Глава 5
Я проснулся от того, что Оюме снова закинула на меня руку и ногу. Не то чтобы это было неприятно – совсем наоборот. Просто интересно, она таким образом специально меня провоцирует на "потереться"? У неё, с её-то худобой, поди, и месячных ещё никогда не было. Все эти мысли о том, чтобы перевести её из статуса «мусумэ» в «онна», казались преждевременными. Её тело ещё просто не готово. А что, если пока просто её гладить? По этим выступающим позвонкам, по острым лопаткам… И без устали кормить. Кормить белковой пищей, чтобы хоть какая-то жировая прослойка появилась. Блин, ну а какие ещё мысли должны лезть в голову здравомыслящему мужчине, когда к тебе прижимается голое девичье тело, утыкаясь в тебя твёрдыми сосками и тёплым, пушистым лобком?
Её рука, до этого лежавшая намоем животе, сползает на мою набедренную повязку и останавливается в опасной близости от бугра.
– Оюме, – окликаю её шепотом, – а-та-та! Фу! Брысь!
Она что-то мычит, не просыпаясь, и крепче прижимается, будто пытаясь спрятаться от моего ворчания. – Нну… Бурадо-сааама… – бормочет она и трётся щекой о мою грудь. – аната аттакаи нэ…[1]
Вот ведь как интересно. Наяву, когда она в сознании и контролирует себя, я для неё строгий и уважаемый «ронин-сама». А в этом полусонном, размягченном состоянии, когда спадают все барьеры, я становлюсь просто «Бурадо-сама». Знать бы, кто я там для нее в её грёзах? Отец, брат, любовник?
Она прижимается ещё плотнее и обхватывает мою ногу своими ногами и вжимается в нее животом и лобком. Мда. Вряд ли родственник. К родственникам так не прижимаются.
А, может, ей просто холодно? Жирового слоя-то нет, вот и мёрзнет, ищет тепла, как ящерица на камне. Честно говоря, если после зажировки она перестанет так делать, мне будет этого не хватать. Эта её наивная, доверчивая близость стала частью моего утра. Обнимаю её одной рукой, плотнее прижимая к себе. Грейся, маленькая.
Ну вот, её рука всё-таки наткнулась на бугор…
Она вздрагивает во сне, её пальцы непроизвольно шевелятся, медленно поглаживая вздыбленную ткань повязки. Она издаёт тихий, сонный вздох – не испуганный, а скорее удивлённый и любопытный. – Окии… Хосии…[2]
И ещё сильнее прижимается лобком к моему бедру и несколько раз вжимается в него. Ну, хоть либидо у неё функционирует нормально. Это радует… Наверное. По крайней мере, проблем в будущем, судя по всему, не предвидится.
Оюме причмокнула, как довольный котёнок, и затихла, её дыхание снова стало глубоким и ровным. А мне что прикажете делать? Руку-то она так и не убрала. Так и держит, и этот её сонный, неосознанный захват сводит меня с ума. Лежу, смотрю в потолок и пытаюсь думать о чём-то отстранённом. О погоде. О рыбалке. О том, как бы усовершенствовать хижину. Но все мысли упрямо возвращаются к тёплому комочку у моего бока.
Через какое-то время, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь щели в стенах, она просыпается окончательно. Её голова лежит на моей груди, и я отчётливо вижу, как волна краски заливает её шею и щёки. Она замирает, осознав и нашу близость, и то, где лежит её рука. Пытается отстраниться, смущённо бормоча, утыкаясь лицом в мою грудь:
– Мо…Мо:сивакэ годзаимасэн, ронин-сама! [3]
Но отстраниться ей не удаётся. Я плотно прижимаю её к себе левой рукой. А правой успокаивающе глажу по голове. Пока она спала, я пришёл к определённым выводам. Женщиной её всё равно рано или поздно придётся делать. Причём, скорее рано, чем поздно. В этом мире, в этой глуши, друг у друга есть только мы. Бороться с естественным ходом вещей – глупо и бесперспективно. Но подходить к этому моменту мы будем с умом и постепенно. Я дам ей окрепнуть, набрать вес, чтобы с её здоровьем всё было в порядке. Ну, а дети… Что-нибудь придумаем. Я тут, похоже, надолго, если не навсегда. Так отчего бы и не воспользоваться подарком судьбы в виде вот этой вот смущённой гражданки.
Оюме постепенно успокаивается под моими поглаживаниями. Её плечи перестают вздрагивать. Моя рука спускается пониже, скользит по её шее, ощущает каждый позвонок на её спине. Иих, все косточки наперечёт. На ощупь – совсем ребёнок. Ничего, мы тебя откормим. Сделаем из тебя женщину в полном смысле этого слова.
Через несколько минут я отпускаю её. Она садится, мордашка пунцовая, но косоде даже и не пытается запахнуть. Видимо, наше утро окончательно стёрло последние границы стеснения. Чего уж теперь в стесняшки играть, когда всё и так обо всём понятно?
– С добрым утром, Оюме-тян, – улыбаюсь я, потягиваясь, давая ей понять, что ничего страшного не произошло.
– Охаё годзаимас, Бурадо-сама, – смущённо, но уже без паники отзывается девушка.
Переодеваться в дальний угол, как вчера вечером, она не пошла. Решительно осталась стоять посередине комнаты, справедливо рассудив, что я там уже всё равно всё видел. Правда, перед тем, как скинуть ночное косодэ, она повернулась ко мне спиной – видимо, это был последний рубеж её скромности. И, как обычно, вся покраснела, но движения её были удивительно грациозны. Она очень аппетитно нагибалась, чтобы подобрать своё дневное косодэ, и при этом украдкой, через плечо, бросала в мою сторону самые что ни на есть лукавые взгляды, проверяя, внимательно ли я за ней наблюдаю. Видимо, закрепляла достигнутый утром успех.
Потом она подошла к небольшому, аккуратно сделанному кукольному домику, стоявшему на полке – видимо, это был какой-то местный алтарь предков или домашних богов. Заменила в маленькой мисочке, стоявшей рядом с домиком, рис на новый, аккуратно разровняв зёрнышки.
– Наму Амида Буцу. Амин, – тихо прошептала она, почтительно поклонившись домику и хлопнув один раз в ладоши.
Видимо, это какой-то местный религиозный обряд подношения. Но вот этот «амин» она впервые вставила в свою молитву только вчера вечером, явно переняв у меня. Странно всё это. Или это она так показывает, что молится и за себя, и за меня? Вроде бы мелочь, а приятно.
За завтраком внимательно следил, чтобы Оюме поела, как следует. А то она все норовит положить себе меньше, чем воробью. То ли стесняется меня объедать, то ли привычка, оставшаяся от прежней нищей жизни, была сильнее её. Я критически осмотрел её порцию, покачал головой, и решительно доложил ей ещё каши. Девушка старалась есть очень медленно, как бы демонстрируя мне, что она сыта и ест через силу. Но, съела всё до последнего зёрнышка, оставив идеально чистую миску.
Потом оставил её, сыто отдувающуюся и счастливую, на хозяйстве, а сам пошёл к реке думать про новую рыболовную снасть. Старая-то так и осталась торчать в разбойнике. Мне нужно было что-нибудь эдакое, с пассивным доходом. Чтобы не бегать за каждой рыбиной с копьём, как первобытный охотник, тратя уйму времени и сил. А чтобы они, рыбы эти, сами приходили и в очередь на съедение становились.
Ловушка для рыбы! Корзина с крышкой в виде усечённого конуса, направленного внутрь. Рыбка туда заплывает, привлечённая приманкой или просто любопытством, "а что это за дырочка тут у нас такая интересная", а выплыть обратно уже не может, запутывается. Даже не обязательно корзина, можно подобие трубы, торец которой закрыт. Как она там называется? Вирша? Нет, вирши – это стихи, это совсем из другой оперы. Верша? Да, точно, верша. Или морда. «Бамбуковая морда для Бурадоно», – с усмешкой подумал я. Самое то деревянному мне.
Работа закипела. Я нашёл подходящий бамбук, расщепил его на длинные, упругие полосы. Плелось тяжело, пальцы быстро уставали и натирались до красноты, но процесс был медитативным и приносил странное удовлетворение. Ловушка получилась солидная, хоть и кривоватая. Зато, почти в половину моего роста. Я нашёл бренные останки от прошлых добыч – рыбьи головы и кишки, – сложил их внутрь в качестве приманки. Привязал к ловушке несколько камней для балласта и аккуратно уложил её на дно реки на небольшой, тихой заводи. На сегодня у нас рыба ещё была, так что это эксперимент на будущее. Инвестиции в будущее, так сказать.
Вовремя справился. Подняв глаза, я увидел, как по тропинке от хижины спускается Оюме, вероятно, чтобы позвать меня на обед. Увидев меня у воды, она помахала рукой, и на её лице появилась улыбка. – Ронин-сама, гохан га самэмасу ё. До:дзо, о-агэ кудасаи[4], – зовёт она меня.
Я только фыркнул про себя. Ну да, ну да. Как за письку хватать, так «Бурадо-сама», а как кушинькать звать, так сразу «ронин-сама» и формальный тон. Двуличная маленькая лисичка.
На обед был какой-то густой суп-пюре из кореньев, рис и уже знакомые кусочки рыбы. Я снова внимательно следил за Оюме, и, заметив, что она снова стесняется брать рыбу, мне пришлось собственной рукой переложить ей в миску самый крупный и жирный кусок. Она вспыхнула, но протестовать не стала, лишь тихо прошептала: «Аригато годзаимас, Бурадо-сама». – Жуй, жуй, глотай, – сказал я ей, – набирай массу. Манул Тимофей начал зажировку и ты не отставай.
После обеда пошёл на луговину за домом. Помахал катаной. Рубящий вертикальный, диагональные. Режущие горизонтальные восходящие диагональные. Двумя руками, одной рукой.
Японское фехтование, это вам не киношное европейское, вызывающее зубовный скрежет у правоверных реконструкторов от бьющих друг об друга мечей, высекающих снопы искр. При европейском качестве стали, выживший после этого много дней перетачивал бы меч. И, в итоге, ходил бы, как дурак, со шпагой. Тут, в Японии, мечом меча не останавливают. Качество стали тут такое, что если так порубиться, то меч можно на помойку выкидывать. Ни для чего другого он годен не будет. И вообще, меч – штука дорогая. Дешманская катана асигару стоила от четырёх тысяч мон до двенадцати. Самурайские от двадцати до сорока тысяч мон. Стоимость катаны даймё начиналась от восьмидесяти тысяч мон и не заканчивалась нигде, как границы России.
Нет, это мне не Оюме рассказала. Это у меня какое-то старое документальное видео в памяти всплыло. Я, помню, ещё поразился, что за меч можно восемьдесят лет спокойно питаться. Да тут столько и не живут, поди. Так что мечом о меч бить могут себе позволить только мажоры. Нам, быдлам, такие вольности не допустимы. Поэтому удары, уходы с линии атаки и всякое внезапное выхватывание. Ну и физнагрузки на нужные группы мышц. Надо будет сделать всякие вращающиеся и качающиеся мишени а-ля Ведьмак. Чтобы я её стукнул, а она меня в ответ. А стукать я её буду шестом или бокеном. Кстати, последний ещё сделать надо. Пошёл в сарай, нашёл пилу и отправился в лес. Спилил какое-то деревцо в руку толщиной. Принёс домой, вечером обстругаю.
За ужином Оюме положила себе почти столько же, сколько и мне и сжавшись посмотрела на меня, не заругаюсь ли я на такое обжорство. Я лишь погрозил ей пальцем, как строгий воспитатель, и… положил в её миску ещё две ложки риса и маринованных овощей.
Вечером, после ужина, в хижине воцарилась почти идиллическая картина. Я сидел у огня и ножом обстругивал будущий бокен, снимая длинную, тонкую стружку. За моей спиной, на своём месте, устроилась Оюме. Она усердно шила, и тихий шелест ткани, сливался с шуршанием стружки. В воздухе пахло дымом, деревом и теплом наших тел. Я ловил себя на мысли, что мне нравится эта тихая совместная работа. Было в ней что-то умиротворяющее и объединяющее. Это был тот самый «дом», которого мне так не хватало в моей прошлой, суетливой жизни. Дом, где тебе рады просто потому что ты есть.
«Надо бы ещё макивары сделать, для отработки ударов кулаком, – размышлял я, водя большим пальцем по почти готовой деревянной поверхности бокена. – Этот навык тоже может пригодиться». Мир здесь был жестоким, и полагаться только на меч было бы верхом наивности.
Тишину вдруг нарушил какой-то скребущий звук в дверь. Мы прислушались. За дверью послышалось негромкое, вопросительное: «Мррр-мяу?»
Оюме, сидевшая со своим шитьём, замерла с иглой в воздухе. Её глаза расширились, но не от страха, а от невероятного, распирающего изнутри узнавания. Она бросила взгляд на меня, полный какого-то дикого ожидания, и бросилась к двери.
Я последовал за ней, насторожившись. На пороге, в сумерках, сидела кошка. Тощая, с впалыми боками и взъерошенной рыжей шерстью, глядевшая на нас жёлтыми глазами. Увидев Оюме, она издала долгий, трогательный звук, нечто среднее между мурлыканьем и мяуканьем, и принялась тереться о косяк двери, задевая её боком. – Тамма-тян! – вскрикнула Оюме, и её голос дрогнул от сдерживаемых слёз. Она рухнула на колени и осторожно, почти с благоговением, протянула руку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.