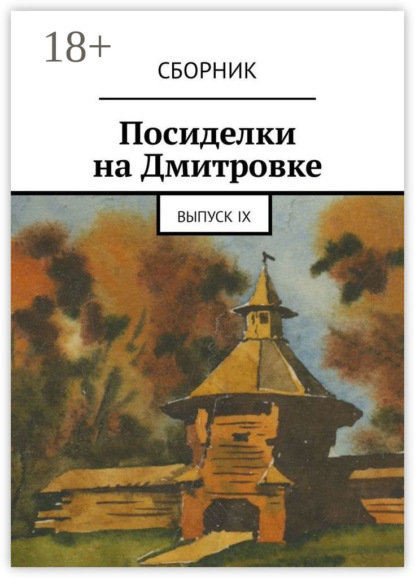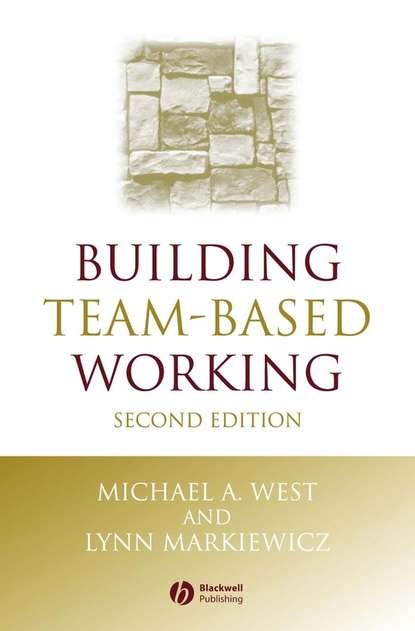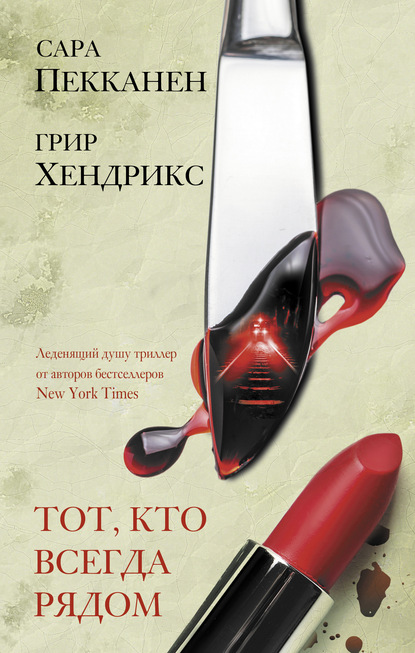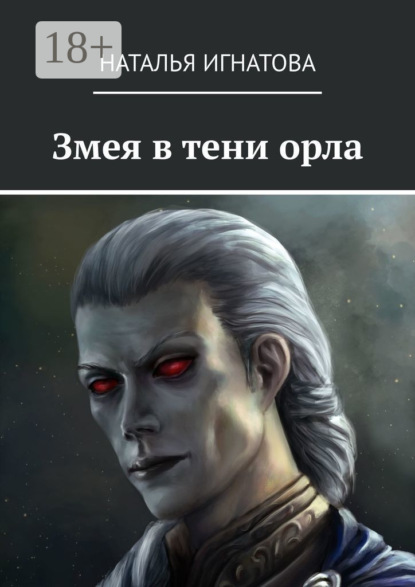- -
- 100%
- +
– Такой был хороший разговор. Но я очень разволновался и сказал, что никогда не писал книг. Главный редактор успокоил: он даст мне толковых помощников. И я решил рассказать в этой книге обо всем, что было со мною до того, как я пришел в это самое искусство, как трудны были мои первые шаги. Долго думал о названии. Наконец, нашел. Название несло в себе особый смысл. «Бремя надежд». Редактор Ильина, очень милая женщина, а одобрила было, а потом засомневалась: «Иннокентий Михайлович, ну почему так мрачно? Ведь ваша судьба сложилась замечательно. Вы же верили в добро, и эта вера помогала вам преодолевать трудности». «Но… позвольте, – пытаюсь я ей возразить, – не странным ли покажется, что добрые надежды для меня были бременем?» «Ну вот, – обрадовалась милая женщина, – вы сами услышали этот диссонанс. Давайте изменим всего лишь одну букву, возьмем следующую по соседству». «Как? Не бремя, а время» – догадываюсь я и молчу. Редактор страстно убеждает меня назвать книгу «Время добрых надежд», которое созвучно… которое несет в себе… Да к тому же и редакционный совет будет настаивать на этом варианте.
Перешли к тексту. Редактор деликатно просит меня убрать некоторые резкие, как ей кажется, фразы из описания моих скитаний. Но тут я упираюсь, как бык, и в пылу спора говорю, что уж пусть я уступлю в названии, но здесь сокращать ничего не позволю.
Пройдет много лет. Постепенно, исподволь Иннокентий Михайлович будет готовить к своему 75-летию дополненное издание этой книги. Прежде всего он откажется от названия. Включит в книгу большую главу о своем друге Андрее Попове и два прекрасных очерка, объединенных общим названием «Ненавижу войну». Но эту книгу ему увидеть будет не суждено. Родные, близкие люди бережно выполнят все заветы автора. И теперь книга живет под коротким емким именем «Быть!».
Однако вернемся в хореографическое училище, где Маша Смоктуновская держит экзамен по актерскому мастерству, а мы с ее отцом ждем, когда закончится короткая передышка, и разговариваем о книге «Время добрых надежд», в которой он отстоял возможность рассказать о долгих горьких лишениях, изведанных им в пору, когда слава к нему еще не пришла.
– Иннокентий Михайлович, сколько раз ваша жизнь и ваша актерская судьба висели буквально на волоске. Но вдруг какая-то незначительная случайность, и вы живы, и большая удача падает, будто с неба. Кажется, что вас вела рука Провидения.
– Это абсолютно так. Я твердо уверовал, что меня хранит какой-то неведомый талисман. Ну, посудите сами. Идет колонна военнопленных. Это прифронтовая зона. Немецкой охраны мало, но она хорошо вооружена. Некоторые горячие головы пытаются рвануть. И… автоматная очередь. Остановка. Привал. Я все делаю очень тихо, плавно. Долго лежу, не шевелясь. Вы знаете, каких нервов стоит выдержать вот такую паузу? Жду, когда колонна тронется. Ушли, а я все лежу. Пошел, когда стемнело. Утром надо где-то скрыться. Притаился под мостом. Голодный, не спавший. Сознание плывет. Вдруг вижу – прямо на меня идет немец, из тех, кто охраняет мост. Еще секунда, и он увидит меня. Но в это мгновенье он спотыкается, падает, встает, и, пока он отряхивает свою одежду, занят собой, я выпадаю из поля его зрения. И я спасен.
Или вот весной 1945 года. Уже ясно, что война идет к концу. Мне только что исполнилось 20 лет. Как всем хотелось жить! Но начались тяжелые бои. Немцы с воздуха так нас молотили, что от бомбежек гибло больше людей, чем в боях. Сколько раз было, что окапываемся взводом, а поднимаются двое-трое. И какие были ребята!
А потом в Москве. Эти унизительные хождения из театра в театр. Мое терпение было на пределе. Сам себе дал слово, что, если к тридцати годам не стану настоящим артистом, брошу все к чертовой матери и сменю профессию. Я был в таком отчаянии и так близок к роковому поступку! Но именно в этот момент судьба послала мне Соломку. У меня появилось сразу два якоря спасения – верный друг и теплый дом. Моя жена – человек редких достоинств. В семейной жизни я не подарок. Бываю капризен, подвержен депрессии. Она же – терпеливая, мудрая, преданная и несокрушимая.
Господи! Сколько было самых тончайших ниточек, на которых держалась моя судьба. Достаточно дунуть – и дамоклов меч отсек бы меня от больших ролей. В фильме Александра Иванова «Солдаты» я оказался единственным из артистов, кто воевал. И в моем лейтенанте Фарбере, очкарике, сугубо штатском человеке, я хотел выразить то, что испытал на войне. А глаза моего Фарбера совершенно случайно увидел Товстоногов, на которого они посмотрели взглядом князя Мышкина. Не было бы спектакля «Идиот» – вряд ли Григорий Козинцев доверил бы мне воплотить мечту всей его жизни – Гамлета. Не окажись Эльдар Рязанов таким упрямым и настырным, не было бы моего Юры Деточкина в фильме «Берегись автомобиля». Даже курьезные, смешные случаи катили бильярдный шар в мою лузу. Ведь как я познакомился с великим режиссером Михаилом Роммом? Я, нелепый, зажатый, уже не провинциал, но еще и не москвич, жду, когда Михаил Ильич зайдет в группу фильма «Убийство на улице Данте», который он тогда снимал. Мы друг друга в лицо не знали. Он входит, окруженный людьми, осматривает комнату, всем говорит «здравствуйте». Мне бы надо двинуться прямо к нему, представиться, но я неловок, застенчив, мнусь. Ромм обращается к ассистенту: «Ко мне должен прийти такой артист… Смоктуновский… Пафнутий, кажется…» Ассистент указывает на меня и говорит, что, наверное, он уже здесь, вот он. Момент был потрясающий. Пауза. Михаил Ильич медленно поворачивается, и у него вот такое лицо. (Смоктуновский проигрывает всю сцену за всех.) Комизм ситуации идет мне на пользу. Ромм, чтобы сгладить неловкость, улыбается, встречает меня очень доброжелательно, и это остается потом на всю жизнь, а в работе над фильмом «Девять дней одного года» мы с ним крепко подружились.
Мое путешествие по лабиринту судьбы – это предмет научного исследования.
* * *
Андрею Алексеевичу Попову к его 60 годам трудно стало возглавлять огромную труппу театра Советской армии, много играть на сцене, сниматься в кино, вести актерский курс в ГИТИСе. И он решил сложить с себя обязанности главного режиссера. Новый руководитель ЦАТСА Ростислав Горяев приложил все усилия к тому, чтобы Попов вообще покинул свой родной дом. Спектакли с его участием сняты с репертуара, никаких новых постановок. И Андрей Алексеевич, благороднейший, неконфликтный человек, принял приглашение МХАТа, где обрел преданнейшего друга – Иннокентия Смоктуновского. Для обоих это была не только дружба, а выстраданное испытаниями духовное родство.
Как только выяснялось, что после спектакля не надо куда-то спешить, Андруша (так звал Попова Смоктуновский) и Кеша заказывали в администрации одну машину на двоих, цветы раздаривали женщинам подсобных цехов, по букету укладывали в машину для жен. Шофера просили, чтобы он ехал на Суворовский бульвар к дому Иннокентия Михайловича и там их ждал. А сами выходили на Тверскую, останавливались у памятника Пушкину, потом переходили на почти безлюдный Тверской бульвар и медленно шли к Никитской. О чем беседовали? О прочитанном двухтомнике Михаила Чехова, о книге Питера Брука «Пустое пространство», о пьесах Булгакова, о работах режиссеров, актеров в театре и кино. Дойдя до ожидавшей их машины, посетовав на такой короткий путь, обнявшись, расставались. Смоктуновский был уже у дома, а Попова шофер вез на Смоленскую набережную.
* * *
Весна 1983 года. Художественному театру предстоит поездка в Чехословакию. И два друга мечтают о том, как славно они будут жить на гастролях. У обоих нет больших ролей. В «Чайке» Попов играет Сорина, Смоктуновский – доктора Дорна. Они будут бродить по каштановым и липовым аллеям просторных пражских бульваров. Сидеть за чашечкой кофе в маленьких уютных ресторанчиках и, наконец-то, наговорятся всласть. А то все спешка, все на бегу. Но Андрей Алексеевич недомогает, на гастроли не едет. Ложится в госпиталь на обследование, как он говорит, на капремонт. Несколько дней спустя после операции Попов умирает. Весть о его смерти приходит в Брно во время спектакля. Ценой невероятных усилий играют артисты. Последние слова, которые произносит Дорн-Смоктуновский, для них полны иного значения: «Уведите куда-нибудь… Ирину… Ирину Николаевну… дело в том, что Константин Гаврилович… застрелился!»
Иннокентий Михайлович прощался с другом издалека. Но теперь, в день рождения Попова – 12 апреля и в день его смерти – 10 июня Смоктуновский, если он в Москве, всегда приходит к Ирине Владимировне, где собираются друзья Андрея Попова.
* * *
Идут годы. Возраст берет свое. Легкие волнистые волосы Иннокентия Михайловича становятся пепельно-серебристыми, дантист мастер-класса придал его детской улыбке светскую блистательность, но удивительные глаза артиста остались теми же детски наивными, такой же осталась и походка, слегка развинченная с «загребающими» ступнями.
Неожиданная встреча. Самое начало 90-х. Весна. Еще прохладно, но день солнечный. Еду на троллейбусе от центра по Тверской. Вдруг вижу Иннокентия Михайловича, который выходит из Камергерского на Тверскую. Мы виделись совсем недавно, в день памяти Андрея Попова, и Смоктуновский рассказывал о том, что сейчас репетирует очень интересную пьесу «Возможная встреча», где он играет Себастьяна Баха, а Олег Ефремов – Генделя. Иннокентий Михайлович в черном длинном пальто, в темной кепчонке, немного сдвинутой на затылок. На лице улыбка блаженного. Идет своей походкой шалтай-болтая, длинные руки раскачиваются не в такт ногам. Никто на него не обращает внимания. Выхожу на остановке у книжного магазина. Жду. Когда он подходит, беру его за легкое крылышко.
– Куда путь держите?
– К Александру Сергеевичу, – улыбаясь, отвечает Смоктуновский. – Сейчас на центральном радиовещании записываю Пушкина. Работа очень большая. Они говорят, что создают нетленку. А на меня свалилось огромное счастье. Ведь мне только довелось в Норильском театре сыграть Моцарта, а на телевидении Сальери. Теперь я весь погружен в Пушкина и благодарю Бога, что Он наградил меня такой работой! Ведь только подумать: «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Медный всадник»! Так волнуюсь, что ночи не сплю.
На углу Тверской и Страстного бульвара мы попрощались. Я знала, что Смоктуновскому с Пушкиным надо беседовать наедине.
* * *
Каждый год Липецкий академический драматический театр имени Льва Толстого проводит театральные встречи. Сюда приезжают ученые-филологи, театроведы, артисты. Приглашаются и театры. МХАТ погостил всего лишь один день, дав пьесу Чехова «Вишневый сад», и отбыл в Москву. Олег Ефремов и Иннокентий Смоктуновский остались, чтобы посетить музей Льва Толстого в Астапово. Конец февраля. Накануне шел снег. Намело сугробы. Машины не могут подъехать к музею. Идем. Спрашиваю:
– Иннокентий Михайлович, вам никогда не приходилось играть в пьесах Льва Толстого?
– М-м-м, – стонет. – Не сыпьте мне соль на рану. Играл в очень слабом фильме Венгерова «Живой труп». Играл эпизод. Того самого человека, который приносит Протасову пистолет. Я постарался что-то сделать… Фильм сильно ругали. Меня похвалили. Потом телевидение сняло фильм «Песни цыган» по «Живому трупу». Тут я играл Федю Протасова. Работой своей остался недоволен. А вот то, о чем я мечтал, не получилось. Очень… Очень хотел сыграть Пьера Безухова у Бондарчука, а он настаивал на Андрее Болконском. По времени работа совпадала со съемками «Гамлета». Надо было решаться. Если бы Бондарчук уступил мне Пьера Безухова, я бы отказался от Гамлета.
В Липецке мы жили в одной гостинице, и, хотя программа была очень плотной, Смоктуновский выкроил время для интервью. Вот оно.
– Иннокентий Михайлович, когда читаешь вашу книгу, обращаешь внимание на то, что в юности у вас были беспорядочные метания от одного дела к другому. Не окончили среднюю школу – поступили в фельдшерско-акушерское училище, немного поучились – ушли в школу киномехаников. Отчего так?
– От великой нужды. Был мир, и было все нормально в семье. Отец – человек необыкновенный. Рыжий. Огромного роста. Веселый. Его мужики любили звать побалагурить. Иди, мол, Петрович-Смоктунович, расскажи что-нибудь, чтоб душа растаяла. Как война началась, он сразу ушел на фронт. Большой отряд добровольцев я провожал до парохода. Смотрел на отца – высоченного, широкого в плечах и думал: какая точная мишень для стрелка…
У нас, сибиряков, спокон веку заведено мужику быть хозяином. Остались мы с братом Володей. Ученик в школе – это не профессия. Я думал поскорее выучиться на фельдшера. Это всегда кусок хлеба. Но в училище давали студенческие карточки, а в школе киномехаников – рабочие. Вот я туда и переметнулся. Я уже вам говорил, что меня вело Провидение. Именно в школе киномехаников, крутя пленки, я получил первые уроки актерского мастерства. Я вдруг почувствовал, что внутри меня бродит непонятная сила. Как бродит нефть под землей, а выхода ей нет. Уже тогда, правда, еще смутно, забрезжила мечта стать артистом, потому что я абсолютно четко видел себя на экране, а не за кинопередвижкой.
– Скажите, бродячий артист Кеша Смоктунович и народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Иннокентий Смоктуновский – это два разных человека или живут один в другом?
– Время очень изменило меня. Я был очень добрым и доверчивым, очень открытым. Именно за эти качества мне больше всего досталось шишек.
Да, меня вело Провидение, но вело по таким острым камням, по битому стеклу – и в ужасную жару, и в дикий холод. Мне все в жизни давалось тяжело. Поэтому я стал человеком закрытым. Научился наступать на горло собственной песне. А Кеша… он живет во мне. Только тихо. Выходит на свет Божий дома, тогда, когда ко мне ластятся дети и собаки или когда на поляне горит костерок.
– А ваше представление о счастье со временем изменилось?
– Нет. Только раньше много что входило в понятие «счастье». Конечно, прежде всего, это ценности духовные. Но когда-то для меня непременным условием благополучия было иметь свой дом, кресло, письменный стол, библиотеку, телефон, что же говорить об интересных больших работах в театре и кино – конечно же! Теперь у меня все это есть, я к этому привык, и стало обыденностью. А вот моя семья, мои дети, наше духовное родство осталось непреложным в понятии чувствовать себя счастливым человеком.
– Вы подаете милостыню?
– Да. Всегда. У меня очень высокая интуиция. Я сразу чувствую, действительно ли этот человек нуждается или представляется нищим. В первом случае я помогаю из сочувствия, а во втором случае, как своему коллеге, – за игру.
– Если у вас очень развита интуиция, как же вы обращаетесь с экстрасенсами?
– Им со мной неинтересно – так же, как и мне с ними. Но вот сколько я ни пытался, я не мог докопаться до первоосновы, как, из какого вещества рождаются взгляд, жест, интонация, походка человека, которого я воплощаю собой? Убежден, что у актера не пять органов чувств, а гораздо больше. К примеру, глаза Иннокентия Смоктуновского, московского гражданина, проживающего на Суворовском бульваре… Им свойственно, как и каждому, выражать одобрение, осуждение, зависть, гнев. Но глаза артиста Смоктуновского могут гораздо большее – они живут, страдают, смеются, думают, наконец, как князь Мышкин, ученый Куликов, Принц датский, недотепа Деточкин, сугубо штатский интеллигент на войне Фарбер.
– Кстати, о Фарбере. Есть у меня один маленький сюжет. Могу его подарить вам.
– Это очень любопытно. Я весь внимание.
– Недавно мне довелось слышать замечательного просветителя, по образованию историка, но в душе артиста. Это Михаил Иванович Абрамов. Он прочитал блистательную лекцию о Шаляпине. После мы беседовали с ним о магической природе таланта. Как смог полуграмотный, полунищий казанский мальчишка стать непревзойденным гениальным артистом – самородком, покорившим все оперные сцены мира? Проходит полвека, и Россия снова являет чудо – Иннокентия Смоктуновского… «Этот, вообще из сибирской глухомани, врывается, как тунгусский метеорит, и дает разгадки таких непостижимых образов, как Мышкин, Гамлет, Иванов!» – восторгался Михаил Иванович…
Когда он смотрел фильм «Солдаты», то лейтенант Фарбер его особенно взволновал. Он силился вспомнить, где его видел? Именно его, неловкого, нестроевого очкарика, но страстного защитника справедливости. И вспомнил. Московский университет эвакуировался в Ашхабад. С жильем и питанием трудности. Кусочек черного хлеба выдавали в одном месте, а миску жидкого супа в другом. Вдруг с супом начались задержки. Студентам приходилось ждать у закрытых дверей. В голодном нетерпении съедали хлеб, а потом хлебали пустой суп. Наконец, терпение ребят кончилось. Из толпы вышел худой, сутуловатый студент и громким картавящим голосом обратился к тем, кто находился за закрытыми дверями. Он требовал, стыдил, грозил. Толпа его поддержала. Справедливость была восстановлена, однако в те годы за подобное выступление можно было жестоко поплатиться. Этим пламенным оратором был студент физико-математического факультета Андрей Сахаров. Прототип Фарбера.
– Спасибо. Очень меня порадовали. При встрече с Андреем Дмитриевичем непременно расскажу ему об этом.
Последняя моя встреча с Иннокентием Михайловичем была 6 мая 1993 года на 60-летии Владимира Яковлевича Лакшина. Смоктуновский не только преклонялся перед энциклопедическими знаниями Лакшина, он его обожал как человека. Всегда обращался к нему за помощью при работе над чеховскими образами, над персонажами Островского. И благоговел перед ним, как перед умнейшим собеседником.
Я знала, что среди приглашенных гостей будут Смоктуновский, Олег Ефремов, Никита Михалков. В это время на «Радио России» в литературной передаче о творчестве инвалидов «Твоя победа» мы объявили конкурс, и его лауреатам пообещали в награду фотографии известных артистов с их автографами. Все знаменитости с охотой расписались на своих фотографиях. А когда я рассказала Иннокентию Михайловичу об очень талантливых участниках этой передачи, он взял стопочку своих фотографий и на каждой не только поставил подпись (замечательный летящий бросок «Ин. Смоктуновский»), но и приписал теплые слова привета и добрые пожелания. Представляете, с какой радостью принимали наши подарки победители!
Владимиру Яковлевичу Лакшину оставалось жить всего лишь восемьдесят дней. Иннокентию Михайловичу – год.
Сейчас они навечно расположились рядом на Новодевичьем кладбище. Белая глыба природного мрамора. В середине высечен портрет артиста с задумчивым лицом князя Мышкина, а может, чеховского Иванова? У подножья памятника – квадратик земли и две мраморные ступени, на одной из которых выбиты слова: «Дальнейшее – молчанье».
Последние слова умирающего Гамлета.
© Алла Зубова, 2018Лев Золотайкин
Мечты сбываются
Я не историк, а маленький мальчик, который в 1945 году пошел в школу. То есть 9 мая кончилась война, и 1 сентября было уже мирное время. Перестали звучать ежедневные сводки о потерях и победах, но мы еще продолжали играть в войну и стрелять из деревянных ружей.
Сегодняшняя Москва – это двенадцать миллионов зарегистрированных жителей, а фактически, учитывая бесчисленные махинации с проживанием, цифра доходит до двадцати миллионов. Это количество подтверждается самым надежным показателем – объемом потребляемых продуктов.
Москва невероятно расширилась, закатав в асфальт и застроив многоэтажками окрестные деревни.
А раньше я с Трубной улицы, где мы жили, мог сесть в трамвай и довольно быстро оказаться на окраине, или, уж совсем быстро, доехать на метро до Сокольников, где начиналась лыжня в лес, который, правда, из-за протоптанных дорожек и стоящих кое-где лавочек назывался лесопарком.
Тут же, очень кстати, стоял сарай, в котором напрокат выдавали лыжи.
А на другом краю Москвы, там, где теперь стоит памятник Гагарину, начиналось Калужское шоссе, по которому можно было доехать до нашей деревни. Так что каждую весну моя энергичная тетушка или кто-то из маминых братьев договаривался с шофером и мы, подпрыгивая на узлах и чемоданах в кузове грузовичка, отправлялись в родное Трубино.
В общем, оглядываясь на те годы, я вижу Москву маленькой, обжитой и уютной. А если в цифрах, то это около четырех миллионов жителей и примерно сто пятьдесят тысяч автомобилей в 1960 году, а до того еще меньше.
И уж, конечно, большинство населения, очень привычно и естественно, жило в коммуналках. Например, в нашей квартире за четырьмя дверями обитало шесть семей. В начале коридора находились две смежные комнаты, в которых размещались три родные сестры моего отца, у двух из них были мужья плюс каждая имела по одному ребенку.
Дальше шла наша комната, а за ней маленький закуток, в котором топилась общая с соседкой печка и нагревала у нас стенку, выложенную изразцами. Такая же стенка была и у соседки, жившей с матерью и Борисом, которого наши женщины определяли, как «приходящего» мужа. В те времена тунеядство считалось преступлением, и наш участковый милиционер следил за тем, чтобы люди не бездельничали. Но Борис умел находить такие работы, которые позволяли ему подолгу валяться на диване. А еще эта соседка, которая в кухонных скандалах не забывала подчеркивать, что она научный работник зоопарка, приносила со службы попугаев, и Борис сбывал их на птичьем рынке.
Наконец, в последней, крохотной комнате проживали муж, жена и две дочери. Родители были очень крупные, а муж еще и приходил с работы в крепком подпитии, так что ругань и пение мужа неслись из комнаты до ночи, и девочки, со старшей мы были ровесниками, домой не спешили.
По вечерам выходила во двор наша небольшая компания – пятеро ребят, моя соседка и еще две девочки. Гитары не было, песен не пели, но ведь смеялись и не расходились до темноты. А по выходным часто играли в «казаки—разбойники», и носились по проходным дворам и Цветному бульвару.
Потом мы постепенно разошлись по школьным компаниям, и я уже больше времени проводил со своими друзьями Генкой и Гайяром в их татарских дворах на Трубной и Мещанской улицах.
Все окрестности, веером от Трубной площади, были нами освоены. В парке Марьиной рощи иногда проходили уроки физкультуры и разные соревнования по бегу и прыжкам. Напротив Моссовета, перед бывшим институтом марксизма-ленинизма, и сейчас еще льется из стенки вода в небольшой бассейн. А тогда мы в нем купались, и трусы отжимали как раз в подъезде института.
А зимой все переулки со Сретенки на Трубную улицу были сплошной ледяной горкой, по которой катились санки и разные самоделки из арматуры и кусков жести. Конечно, мы бегали на катки, самыми ближними были сад ЦДСА и «Динамо» на Петровке. Везде давали коньки напрокат, иметь собственные «гаги» или «канады» было не по карману. И вот мы привязывали к валенкам свои «снегурки». Шиком было зацепиться проволочным крюком за задний борт грузовика и проехаться по Трубной улице.
Я рано, еще до школы, научился читать и привязался к книгам. Даже появилась привычка садиться есть обязательно с книгой. Мама и бабушка недовольно ворчали, но я упрямо косил глаза в раскрытые страницы. А еще стало постоянным занятием – обходить по выходным все близлежащие книжные магазины. И не обязательно что-то покупать, а просто посмотреть, что нового появилось. Книг в ту пору выходило мало, и ассортимент их мог не меняться неделями, но справедливости ради, нужно сказать, что издательства осознавали бедность населения и большими тиражами выпускали простенько оформленные сочинения русских классиков, книги о спорте и о разных исторических и географических событиях. Журналы «Огонёк» и «Крокодил» издавали массовыми тиражами популярные серии карманных книжек. Таким же ширпотребом занималось и издательство «Физкультура и спорт». Как-то на Сретенке я купил маленького формата, но толстенькую книжку Дмитрия Урнова «Железный посыл». Ничего лучшего о лошадях, жокеях и скачках я больше не встречал. Она у меня стала, как допинг: нет настроения – почитаю про лошадей. И помогало. Много позже мне попался журнал «Америка», а в нем большая подборка материалов с цветными фотографиями о герое моей любимой книжки – жокее Насибове. Он был всемирной звездой, выигрывал мировые скачки, привозил на родину престижные награды, а дома продолжал скромно жить в коммунальной квартире. В книге была забавная сценка: Насибов, держа диету, по утрам на кухне вкушал свой завтрак – яичко всмятку; а его здоровенный сосед, сидя напротив и глядя на него с сочувствием, хлебал перед уходом на работу наваристый борщ.
Возвращаясь к моим прогулкам по книжным магазинам, нужно заметить, что их вокруг было довольно много:
– на Сретенке – букинистический и книжный (потом стал «Спортивной книгой») магазины;
– за памятником Первопечатнику – букинистическая лавка;
– в здании гостиницы «Метрополь» – букинистический магазин;
– на Кузнецком мосту – книжный магазин, «Лавка писателей» и «Театральная книга»;