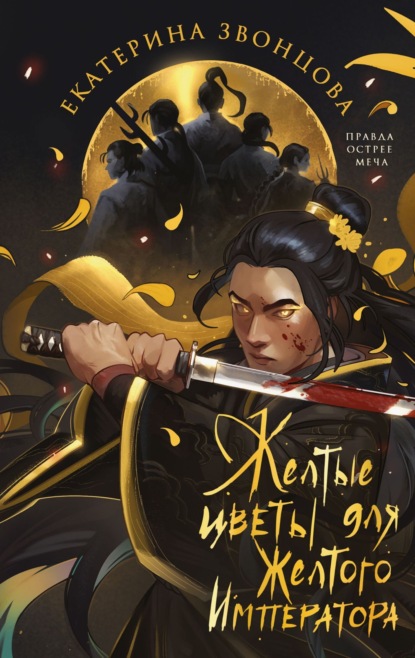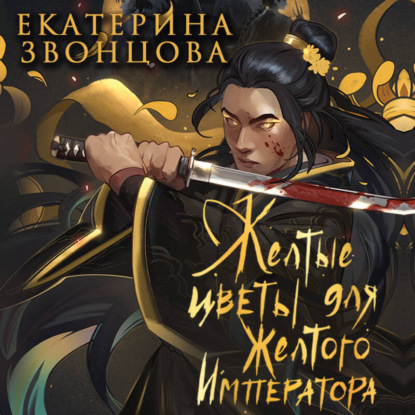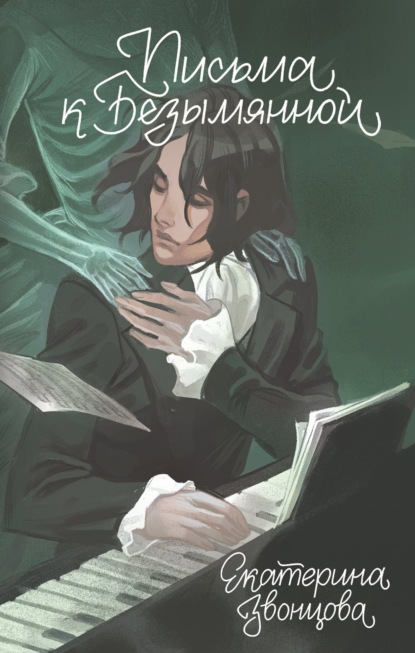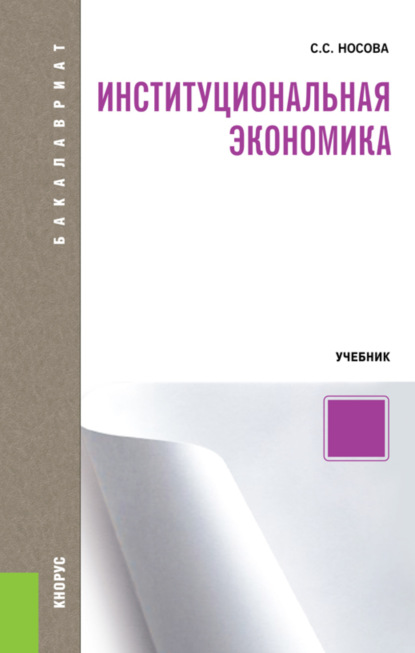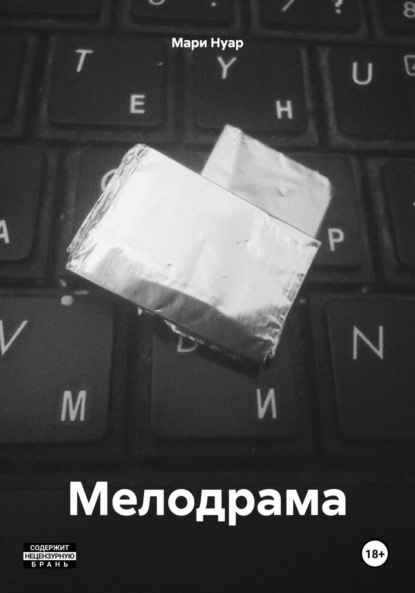- -
- 100%
- +

© Звонцова Е., текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *Мы знаем, что Зло существует, и знаем, сколь уязвимы к его козням. Снова и снова оно добирается до нас, овладевает нашим Домом, заражает наши души, умы и тела, обращая нас во врагов рода людского и в собственных врагов. Всё правда, но правда и то, что никто ничего никогда не вершит без дозволения Господа, а значит, и Самое Великое Зло, терзая нас, лишь исполняет некий Его высший план. Не тому ли доказательство – три искушения Христа в пустыне?..
Ге́рард ван Сви́тен. Трактат о тёмных силах
Пролог. 31 марта 1755 года. Вена
«Никто. Ничего. Никогда».
Вызолотив слова, пламя свечи моргает в дымчатом сумраке и замирает сияющим росчерком. Маленький меч во тьме, маленький часовой на стене притихшего бастиона. Неколебимый до нового сквозняка.
«Никто. Ничего. Никогда», – отдаётся в голове воем Дикого Войска[1].
Ветры, шальные ветры вернулись в Вену.
Не помню марта, чтобы эти бессовестные псы-призраки не теряли хозяев в заснеженных горах, не прокрадывались в поисках ночлега к нам в дымоходы и не находили дорогу в комнаты, по углам которых так удобно сворачиваться колкими зябкими клубками. Едва их почуяв, оживляется огонёк-часовой, пляшет без страха – он, как дитя, в восторге от незваных лохматых гостей. Его можно понять, ему скучны мой чинный кабинет, и скрип пера, и тёмные переливы чернил, и слова, слова, слова.
«Никто. Ничего. Никогда».
Не грусти, дружок, и не тянись так доверчиво к псам. Скоро я закончу – и погашу фитиль. Ненастной ночи в наследство отойдет всё, что уже лежит в свежих могилах, осталось лишь присыпать их землёй веских, витиеватых последних фраз.
Я устал. Мне нужен сон, но Морфей отворачивается всё брезгливее, всё насмешливее прячет за спину руку с благословенным красным цветком. Огарок почти истаял, свет уже выхватывает только верх листа, строчки очевидно кривы. Но epistula, тем более adversaria non erubescit: черновик стерпит всё. Спина затекла, скрипящее перо уже действует на нервы даже мне самому, не то что непоседливому пламенному компаньону. Когда измождён ум, любой резкий звук вонзается в него сродни игле. Я малодушно уворачиваюсь, ловя секунды тишины: то проклятое перо ныряет в чернильницу, то его плешивым концом я чешу нос, то вглядываюсь в омут зеркала на дальней стене. Двойник, ссутулившийся в отражённой черноте, – слишком плечистый, с хищным носом усталой птицы, рыже-седой, как побитый жизнью лис, – смотрит в ответ, но сквозь меня, в могилы, присыпанные словами.
Мы не ладим в последнее время. Разозлили Януса и не можем собраться воедино.
Придётся взять новый лист, чтобы уместить всего-то два завершающих предложения. Но ничего, кому важна растрата казённой бумаги? Главное – расквитаться сегодня, мне больше нечего сказать, я выполнил задачу, и даже Господь, с которым я не всегда в ладах, признал это. Разве нет? Первый из тех, к кому мои мысли отныне обращены неустанно, подтвердил бы теплой улыбкой, полной печали; второй бы желчно бросил: «Помилуйте, любезный доктор, Ему всегда мало!»; ну а третий, вероятно, посоветовал бы мне опрокинуть сливовой настойки, вонзить зубы в рульку, выспаться и думать забыть о вредном для здоровья Атлантовом долге – удержать всё небо до единой звезды на своих плечах.
Императрица – единственная, перед кем мне теперь отвечать, – поддержала бы и гуманность первого, и весёлую желчь второго, и земную заботу третьего, знаю. Наши вкусы на людей всегда совпадали, иначе едва ли я пробыл бы Её другом и союзником столько лет. И пробуду ещё немало, хотя в собственных глазах я теперь предпоследний, кому можно доверять, и последний, с кем стоит дружить. Полуживой чужак в зеркале считает так же, но властные окрики Асклепия, шипение змей на его посохе всё ещё заставляют меня сражаться.
Потому что никто ничего никогда, верить в это – проще. И я пишу:
«Таким образом, все верования в вампиров, все «доказательства» их существования, вся приписанная им гибельная мощь суть не более чем пагубное заблуждение наших добрых соседей – и след пропасти, нравственной и научной, что лежит между нами. Она преодолима, но от кровавых пропастей и хищных бездн, что люди создают своими руками, есть в мире только одно лекарство – мосты. Построим же их. И тогда же возблагодарим Господа: вампиры едва ли будут ходить по земле…»
Всё. Недели работы, холодное путешествие… они получили письменный итог.
Теперь прочь, прочь, прочь.
Листы – к краю стола, подальше, и пусть недовольно шуршат от подобного обращения. Спина ноет, пальцы ломит. Подняться, потянуться, вдохнуть глубже – радость: сколько же я просидел сегодня? С полудня, а уже крадётся полночь. Полночь… Наверняка натопленные Густавом или Типси комнаты выстыли. Даже в ходе часов – насмешливая укоризна: мои ленивые, вечно отстающие механические друзья, привезённые ещё из Лейдена и плохо пережившие то путешествие, не понимают, куда же я спешу. Золочёный ангел, венчающий циферблат, смотрит с сочувствием, и я быстро отвожу глаза: Господь всемогущий, этой безвкусице не меньше двадцати лет, но теперь я вижу в худом тонкоруком создании знакомый образ, призрака, который уже…
Никто.
И ничего, никогда более мне не скажет.
Часы бьют полночь. Что-то стучит в окно. Сердце – хотя подобное неповадно старым сердцам вроде моего – ухает вниз. Тук. Тук. Тук.
Знаю: жители осаждённого города быстро начинают различать, из каких именно орудий стреляют по их стенам, сколь далеко. Уехавшие продолжают на новом месте запоминать убежища, копить еду в избытке, собирать и ставить под рукой тревожные пожитки. Так и я. В каком-то смысле.
Тук. Тук. Тук.
Тихо. Тихо. Тихо.
Просто качаются ветки лип, стряхивая дождь. Их много здесь – степенных деревьев, дом у самого Шёнбрунна: Императрица всегда желает лицезреть мою постную физиономию поблизости. Я прожил тут немало, вот-вот дождусь внуков – и год за годом липовый стук в окна казался мне безобидным, естественно-мелодичным. А теперь? Я лезу за воротник, и вот уже пальцы смыкаются на тонком серебряном кресте – чужом.
Тук. Тук. Тук.
Как тихо. Как мирно.
Только дышится трудно, никак не усмирится сердце, ноет нога, по которой продолжают расползаться чёрные пятна. Мысли о выстывших комнатах и спящей прислуге потеряли значимость. Я слишком хорошо понимаю себя – и, пожалуй, псов, призрачных и живых, одинаково бесприютных, тех, что воют на улицах. Удивляюсь, что рассудок вообще пока при мне. Когда-то, убеждая академических и практикующих коллег, что наши доблестные герои – солдаты и офицеры – несут свой, не похожий ни на что груз душевных болезней, а значит, тут нужны свои подходы к лечению и свои лекарства, я сказал: «Страшнее не погибнуть в бою, а вернуться из него не собой»[2], – и меня услышали.
Теперь я знаю это сам. Разительно, как иные наши суждения опережают наш же опыт.
Но кое в чём я уверен – и уверенность крепнет, стоит коснуться листов на столе. Каким бы диким ни было писать и говорить то, что написано и сказано, я прав. Это повязка на глаза – и оружие одновременно. Записи лягут Императрице на стол, будут скопированы и распространены по библиотекам, выдержки – по газетам. Я брошу луч истины на тёмные сказки. Принесу мир и покой, всё как мне и приказали. Я дорого их купил, я ничего в этой жизни не покупал так дорого и ни в одну плату, даже когда предметами торга были гордость, успех и честь, не впивался так крепко, прежде чем отдать. Мне жаль. Мне очень, очень жаль.
Одна тайна так и останется тайной, так вернее. В моём фундаментальном труде есть главы, не предназначенные для лишних глаз. А ещё много гипотетических рекомендаций, о том, например, как же всё-таки победить Детей Ночи – тех самых воскресших разбойников и блудниц, которых, разумеется, не существует, – если вдруг столкнёшься с ними в сумерках, будь то сумерки мира или сумерки души. Я сдобрил иронией каждую деталь. Венцев это позабавит, но в памяти засядет крепко. Учёное сообщество сочтёт, что я старею и становлюсь падок на фольклор, эту новомодную забаву поэтов и музыкантов. Имеющие уши – услышат. А я…
Я ношу чужой крест. Свою тетрадь в окованном уголками переплёте, давнее хранилище каждодневных впечатлений, я запираю в столе, более всего опасаясь, что кто-то прочтёт тринадцать последних записей. А сейчас – вынимаю из резного ящика обёрнутый в чёрную парчу арбалет с осиновыми стрелами.
Тук. Тук. Тук. Тихо. Тихо. Тихо.
Сегодня я никого не убью, верю, что больше не убью никого никогда.
Я солдат Асклепия, только его.
Я победил. Но я должен помнить.
1/13. Окрестности Брно 11 февраля, прибл. полночь
Что ж, подведем итог, и уместить его можно в одно слово – «какофония». Иначе начало моего путешествия и не опишешь.
Карета дребезжала, скрип, лязг и стук не прекращались ни на секунду, ввинчивались в виски. Я устал, даже не успев особо удалиться от Вены, – не говоря о каких-то полезных делах! Дрёмой забыться не мог: непременно ударился бы обо что-нибудь головой при очередном прыжке на ухабе. Меня не занимало ни чтение, хотя для него пока хватало света, ни разглядывание природы, хотя после каменной столицы она казалась небывало живописной. Красночерепичные крыши, лазурно-озорные речки, сонные леса и невысокие горы Нижней Австрии. Сокровища, хитро выглядывающие из бескрайней шкатулки: рубины, малахиты, опалы, синие шёлковые ленты. Собрать бы да подарить домашним.
Но даже потеряться в туманной синеве, смешанной с зеленью, и навоображать чудесных элегий, которые мог бы написать тут кто-то менее душноумный, мешали механические шумы. Дорогу, ещё недавно подмороженную, не вовремя развезло. Неудачно вообще сложилось разительно многое, хотя бы то, что, вопреки планам, я выехал один: герр Вабст и герр Га́ссер[3] в последний момент погрязли в незавершённых делах и перенесли отбытие. Хотя подозреваю, правда может быть и в нежелании лишний раз делить карету со мной, особенно если кто-то из этого достопочтенного duo опять прихватит в совместное наше странствие какую-нибудь дикую книгу, которую я на днях запретил[4].
Настроение моё не испортилось бесповоротно, но не было и подъёма, что приходил прежде, стоило ветру перемен лихо мне свистнуть. Путешествия и встречи в прошлом горячили мне кровь – даже сейчас, на склоне лет, она не остыла достаточно, чтобы я обратился равнодушной к новизне жабой. Врачи Вены не зря говорят, как важны перемены для тела и духа, и пусть они повторяют это за мной, как хор учёных воронов, это правда: приросший к месту – что седалищем, что умом – неумолимо каменеет и зарастает мхом. Я поныне гадаю, что было бы со мной, не собери я знания от Амстердама до Брюсселя и не найди затем приют в Австрии[5]. А уж как завидую храбрым путешественникам, которых сам же отправляю за необыкновенными травами, тварями и ядами в Новый Свет…
Так или иначе, в послеполуденные часы омерзительной дороги я хандрил. Утешал лишь факт: в целом впереди любопытное путешествие – в забытый богом край на западе Моравии. Я и раньше догадывался, что по укладу места эти столь же далеки от столицы, сколь близки, например, к трансильванским территориям, полвека назад нам отошедшим. Последние события укоренили меня в этом убеждении, да и весь двор заставили признать: Моравия наша давно, но нрав её непредсказуем.
Удивительно, сколь двояким оказался трофей прошлого – тенистые чащи, вёрткие реки, нежные виноградники и протяжённые хребты, изглоданные пещерами. Двуликие люди, двуликие нравы, вечный поединок мракобесия и света… впрочем, уверен, что с нашим мракобесием я разберусь, не затратив и пары недель. Может, когда два моих недотёпы всё же присоединятся ко мне, им уже нечего будет делать! Заодно напомню, что полвека… хорошо, полвека плюс одна двадцатая от века! – ещё не возраст, в котором почтенного мужа – тем более собственного преподавателя! – можно списать со счетов.
Однако, кажется, в последнее время тема возраста слишком меня тревожит, ловлю её в записях не впервые (sic!). Ладно, за этим в том числе я их и веду, не так ли? Сродни самодиагностике, разве что отслеживаю не частоту вдохов-выдохов или ударов пульса, но частоту навязчивых, пустых, зловредных мыслей.
Тем не менее как-то так я и размышлял, а постепенно и вовсе забыл про пейзажи за окном: решив не расточать времени, принялся собирать воедино всё, что знал как о конечном пункте, так и о цели моего предприятия. Припомнил и подстегнувшие его обстоятельства, они заслуживали повторного обмозгования. Верно решил: маяться я перестал. Ну а в нынешнюю запись уже выношу плоды тех размышлений, пока они свежи. Полагаю, они пригодятся мне, когда поток новых впечатлений и знакомств их заслонит.
Что ж. Каменная Горка – полугородок-полудеревня, одно из многих таких моравских поселений, важное разве что одним: стоит на самой границе с Богемией, дальше только хребты и чащи. Население – едва три сотни жителей. Провинция из тех, где не происходит ничего из ряда вон, – ну может, кто-то напьется так, что распугает у соседей всех свиней и гусей. Разве не так я подумал, впервые услышав название? И не усомнился ли в слухе, когда Её Величество, потерев кончиками пальцев широкий крепкий лоб, задумчиво произнесла:
– Всё началось с того, что там исчезли все собаки и кошки. А несколько последних недель жители не выходят из домов ночью, иные же теперь спят в городской часовне. Кто-то появляется с приходом темноты, кто-то чужой, кто… пьёт их кровь? Верно я услышала, мой друг? А что скажете на эту фантасмагорию вы, дорогой мой герр Умная Голова?
Я засмеялся. Императорская чета – тоже, засмеялись и присутствовавшие придворные. Беседовали мы в предрождественские дни, на утренней аудиенции, под пробивающимся в залу солнцем, за крепким кофе, этим модным османским веянием. В такие минуты о чём только не толкуют праздные умы. Золочёные своды, свет и начищенные паркеты цивилизации в чём-то опасны: располагают потешаться над страхом, даже его воспринимая как некое пикантное дополнение к кремовым пирожным и ленивому флирту. Так что услышанным мало кто впечатлился.
Весть о странностях в ещё неизвестном мне городке привёз наш старый знакомец, приглашённый на празднества, – Йо́хан Густав Ми́школьц, тамошний наместник, бывший в Вене проездом. Странности эти его скорее раздражали, чем тревожили. Чего ещё, говорил он брезгливо, ожидать от краёв, заселённых на значительную часть славянами, – о, как сплёвывал он это безобидное слово! Мол, своих детей они, за неимением ума и вкуса, так запугали сказками о вампирах, что начали бояться сами, вот и результат.
Слово «вампиры» – и диалектное upir – прозвучали не впервые. Мы тут же начали вспоминать моравские, сербские, румынские и прочие байки, с ним связанные: например, о многомесячных трупах женщин, что якобы вставали ночами, а поутру перепуганные горожане вскрывали гробы и не обнаруживали и тени тления, лишь румянец да нежную улыбку. Или вот о красавцах-разбойниках: сегодня одного такого лихача повесили, а завтра он уже лезет в окно к очаровательной большеглазой девице и зовёт разделить с ним вечность через нежный поцелуй. Или истории хлеще: как в некоторых поселениях и поныне мертвецам, молодым и старым, если смерть их сколь-нибудь подозрительна, «на прощание» вбивают в грудь осиновый, рябиновый или боярышниковый кол, кому и рубят голову, а иным тот самый кол вгоняют в зад! Тема была неаппетитная, Его Величество, предпочитающий «к столу» анекдоты, не преминул это отметить, но Императрица с присущей ей прямотой шутливо укорила его:
– Как можете вы воротить нос, если речь о ваших подданных? Вгоняющих друг другу колья в зады! А нетленные красавицы-кровопийцы в гробах? Кто защитит их честь от посягательств иных мужчин, а честь мужчин от них кто защитит? – Посерьёзнев, она прибавила: – Это скверные суеверия, которые усиливают страх смерти и одновременно подрывают всякое уважение к ней. Герр Ми́школьц, а как же вы это пресекаете?
Мишкольц – высокий ширококостный малый с грубым, изъеденным давней оспой лицом – раздулся от важности и, потрясая кулаком, отчитался:
– Как надо! Запрещаю вскрывать могилы, Ваше Величество, теперь-то спуску не даём! Кладбище под охраной постоянно. Так будет, пока люди не поуспокоятся!
И что за акцент?.. Вечно он напирает на звук «а»; такое кваканье усугубляет его сходство с крупной лягушкой. Не думать об этом никогда не получалось, особенно учитывая необъяснимую любовь Мишкольца к зелёным камзолам и изумрудным кольцам. Вот и тогда я про себя усмехнулся, вдобавок зная, что последует за подобным «рапортом».
– Здраво. – Императрица расправила плечи. Скромное ожерелье на её шее заблестело снежным серебром, взгляд похолодел. – Но довольно ли?
Среди десятка её тонов этот яснее всего говорил, что вопрос риторический и ответ на него – «Я так не считаю». Сдвигая грязно-русые брови, Мишкольц поскрёб подбородок.
– О-ох, разумеется, медики ещё не дают подозрительным разговорам расползаться. Но по-хорошему… – кулак его раздражённо хрустнул, – всем бы дикарям отведать палки! Причащаться Дарами и увечить трупы ближних своих, да как это? В нашем-то веке! Когда же до них доберётся хвалёное Просвещение, а? Или вопрос к вам, барон? Не успеваете?
Вот кваканье и настигло меня, и все сразу прервали сторонние беседы; многие повернулись. Пока Императрица дипломатично – но как же шкодливо! – улыбалась, я молча смотрел на Мишкольца и в который раз тщетно перебарывал укоренившееся нерасположение. Понимаю, статус обязывает быть терпимым, возраст – тоже. Неспроста же при дворе меня прозвали Горой. Я горжусь тем, что у меня редки склоки: я порядочно от них устал, и все попытки задеть меня разбиваются о гранит этой усталости. Куда скорее я растрачу силы и чувства на тех, кто ищет моей помощи, чем на тех, кто ищет моей вражды.
– Столько обещаний посеяли, плодов три года ждём! – не отставал Мишкольц.
Вяло, не желая ввязываться в пустопорожнюю дискуссию, я ответил:
– Именно, посеял. Но как вам, надеюсь, ясно, всходы требуют времени. Недостаточно принять законы, чтобы люди начали им следовать, или, например, издать книги, чтобы их начали читать. Свет знаний, справедливости, терпимости и прочего ещё не добрался даже до иных закоулков Вены. Как вы предлагаете ему столь скоро достичь Моравии, гор?
– А отчего бы вам не поехать и не попросвещать нас самому? – Мишкольца, как обычно, беспокоили мой особняк, жалование, недавно полученный титул и сам факт: я живу здесь, а не в глуши. – Повоевали со всадником Мора[6], повоюйте и с вампирами! Нет их – докажите, ну а если вдруг есть… – Тут я, клянусь, подавился! – …вылечите и сделайте обратно приличными людьми! Отчего нет? Или вон щенка пошлите! – Он напустился на худого веснушчатого доктора Гассера. Тот, явно желая провалиться сквозь землю, заёрзал на стуле. К своим тридцати он так и не приобрёл светскую броню и порой болезненно реагирует на выпады, особенно прилюдные и столь громогласные.
– Возможно, оттого, что нести свет, какой-либо, в провинции – всё-таки обязанность их наместников? – одёрнул Мишкольца я. – То есть, например, ваша? Умная голова – хорошо, но она ничто без рук.
«А меж тем вы, если я верно помню, и лазаретов в своих землях построили вдвое меньше, чем выделялось средств!» – но этого я не сказал и даже не спросил, появилась ли какая-никакая больница в злосчастной Каменной Горке. Отвлекся, глянул на Императрицу, немо укорил: она, забыв о рационе и решив воспользоваться атакой на меня, коварно потянулась за третьим – третьим за утро! – пирожным с жирными кремовыми цветами. Рука печально опустилась: тут мне пришлось побыть воистину тираном. Я опять посмотрел на Мишкольца, и на ум пришла новая метафора, достаточно тонкая, чтобы не затевать немедля скандал на тему «Куда вы дели деньги?», но намекнуть на его возможность:
– В столице мы зажигаем свечи науки и цивилизации. От вас требуется, чтобы той же Моравии доставались не только огарки.
Многие, включая Гассера, одобрительно зашептались и захихикали. Я намекнул и на дорогие перстни, и на отъевшегося кучера, и на породистых лошадей и большой экипаж с золочёными дверцами. Мишкольц, к его чести, не вспылил, лишь улыбнулся углом рта, но окраску улыбки я определить не сумел. Возможно, в ней и сквозила жажда убийства.
– О, я над этим тружусь неустанно, не сомневайтесь! И уж плоды моих-то трудов заметны без всяких там оптических приборов. Люди одеты, обуты, работают, здоровы, покорны, чтят ме… то есть на… государыню… вас!
– И процветают, ну разве что гурманствуя кровью, – иронично оборвала его Императрица, сделав вид, что ничего не заметила.
Он кивнул, приосанился, хмыкнул. И уж ему-то я мешать не стал, когда он завладел сразу несколькими пирожными с поднесённого блюда, лишь пожалел, что он не подхватил их длинным лягушачьим языком, как комаров. Мы замолчали, точнее, он, всё столь же распалённый, заговорил с кем-то другим, давая мне передохнуть.
До сих пор раздражаюсь, вспоминая ту беседу. Я ведь знаю Мишкольца давно, за вульгарщину невзлюбил с первой встречи, а рассуждения о Просвещении – неуклюжая попытка выставить меня бездельником – просто смешны. Ей-богу, будто оно – срочный курьер, которому, чтоб поскорее добрался до нужных мест, можно отсыпать плетей. Притом науки, даже медицину, Мишкольц презирает, оставаясь реакционером и едва ли не сторонником кровопускания при любой болезни. С его существованием меня примиряют лишь военные заслуги: ни от османов, ни от пруссаков он не бежал никогда, наместничество получил не по родству, а по праву доблести. Страха в Мишкольце нет, было бы ещё что-то, кроме смелости. С другой стороны, раз за разом вижу: пустоту, что оставляет пройденная война, каждый заполняет по-разному. Разнузданность, излишества, чёрная меланхолия, жестокость, такое вот неуважение к чужому труду – всё встречается.
Так или иначе, я возрадовался, когда три года назад Мишкольц отправился управлять областью в Моравии, наводить там порядок. Казалось, он с его хваткой действительно мог справиться. Но, увы, неплохие военные – часто посредственные политики, хотя, казалось бы, кому повелевать умами в мире, как не тем, кто властвует над ними в бою? Мишкольцу не хватает и глубины, и сердечности. Едва услышав его тон, я уверился: порядок, наводимый такой рукой, вряд ли найдет отклик у моравов, которым мы и так не слишком понятны – совершеннейшие чужаки, чистоплюйные оккупанты, пострашнее вампиров. Перестраивающие их церкви, забирающие их урожаи и горные сокровища, засылающие своих людей править ими… Излечивать бедняг от дикарства нужно не часовыми на погостах и явно не палкой. Для начала не помешает хотя бы пореже использовать слово «дикари».
– …или вот наш священник, Бе́сик Рушке́вич. И что в его голове? Разве не легче ему оттого, что кладбище сторожат солдаты? Нет же, твердит: опасно. Опасно? Да наш гарнизон – золото, да наши мальчики…
Я опять прислушался. Мишкольц жаловался, Императрица любезно внимала.
– А ещё я всё пытаюсь убедить его не пускать никого ночью в часовню. Это невозможное послабление, глупость! Каменная Горка – крохотный городок, и не так трудно дойти до собственного дома!
– А что же, тот священник упорствует?
– Ещё как! Ну скажите мне, спрашиваю, кто им повредит? При мне перевешали лесных разбойников, зверьё в город редко забредает. А он смотрит исподлобья своими синими глазищами и отвечает: «Вампиры!» То есть и он туда же! А ведь он, говорят, тайный сын самого… – Мишкольц назвал громкую фамилию. Император присвистнул; Императрица покачала головой; я, слегка знакомый с этим генералом словацкого происхождения, тоже впечатлился. – Герр Рушке́вич получал богословское образование в Праге и посещал там занятия по столь любимой бароном медицине! Клянусь, это один из самых светлых умов города. Но! Я бы и его палкой-то…
– Так, мой друг. – Императрица улыбнулась, отставляя чашку и сцепляя пухлые пальцы в замок. Взгляд потеплел, от строгости она перешла к любезным советам, однако я знал: не последовать им – смерти подобно, политической так точно. – Вы всё же излишне резки, и к нему, и к горожанам.
– Я?! – квакнул Мишкольц. – Но они…
Императрица с напором продолжила:
– Славяне мы или австрийцы, но оно живёт во всех нас – тяготение к страшным сказкам, древним легендам. – Она кинула взгляд на меня: – Барон подтвердит: судя по количеству одних только книг жутковатого содержания, иногда мы даже любим, чтобы нас пугали.