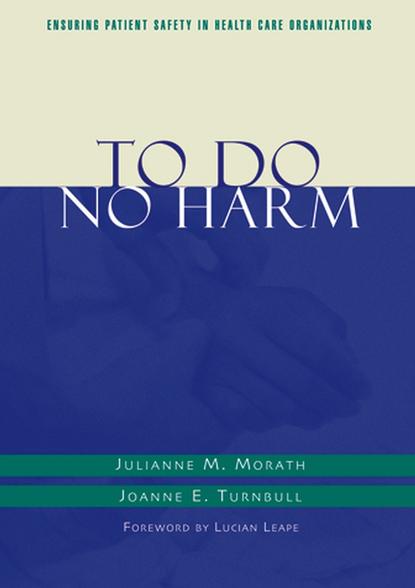- -
- 100%
- +
– Да-да, некоторые я даже не запрещаю! – засмеялся я. – Но, конечно, всё хорошо в меру: пока читаешь книгу в тёплом доме, а не бежишь раскапывать могилы… Вы же, герр Мишкольц, ситуацию явно запустили, и вы имеете дело с вещью поопаснее светской литературы: с суевериями, которыми моравы веками объясняли свои беды.
«А если суеверия усилились, значит, и бед прибавилось, – повисло в воздухе между нами. – Ну и кто из нас бездельник?» Язык я всё же прикусил, но поздно.
– Таки всыплю, – пробормотал Мишкольц угрюмо, – всем, включая…
– Остановитесь! – опять вмешалась Императрица. – Ему сколько, говорите? Нет и двадцати пяти? В таком возрасте мы легко заражаемся даже не суждениями, а эмоциями, а тут ещё и эмоции паствы… Суеверия кажутся весомее, если попадается правильный рассказчик. Но вы говорили, герр Рушкевич хорошо исполняет обязанности, златоглас в проповедях и чуток к исповедям. – В тон прокралась неявная, но угроза. – Подумайте трижды, много ли таких в регионах? Подбирать туда духовников очень тяжело, спасибо иезуитским соблазнам[7]. Сгладить суеверия куда как проще.
Она опять посмотрела на меня, и я тоже вступился за неизвестного юношу:
– Fortis imaginatio generat casum[8]. Насколько такая развалина, как я, помнит, юность весьма уязвима для подобных химер. Но не вижу ничего скверного в том, что они дают этому вашему… Бесику? – какое же неблагозвучное имя, я еле выговорил, – герру Рушкевичу проявлять терпимость. Вампиры или нет, но пусть горожане иногда спят у Бога под присмотром. Церковь – порог, который не грех и переступить лишний раз.
Мишкольц презрительно раздул ноздри, провёл по буклям перепудренного парика.
– Ваше мягкосердечие, барон, не доведёт нас до добра. Разброд, шатание!
Конечно же, Императрице он подобного не сказал. Она тихонько хмыкнула и всё же умыкнула лишнее пирожное. Я не уследил.
С Мишкольцем мы больше не спорили, разговор перешел на другое: на неизменно взволнованную Францию, на последние события при русском дворе, на кровавые столкновения поселенцев и аборигенов в колониях Нового Света – там пророчили скорую войну. Затем все мы забавлялись с очередным автоматоном Вокансона[9] – славный француз, кажется, устал наконец от своих вечных уток и ещё более дерзко посягнул на дело Господа, сотворив человека. Усаженный за клавесин, автоматон его – изящный, нарядный, напудренный, пугающе похожий на сгрудившуюся вокруг публику вроде меня – сносно играл довольно сложные мелодии, а в ответ на аплодисменты вощёные губы даже расплывались в улыбке, впрочем, скорее всего, он среагировал бы так на любой резкий звук, не мог механизм подаренной Императрице игрушки быть настолько тонким! Наблюдая за автоматоном, я поражался: пока в одном уголке нашей громадной Империи настаёт эра подобных изобретений, в другом продолжают верить в каких-то чудовищ!
Спустя час Мишкольц, которому предстояли ещё какие-то дела, покинул нас. Вскоре ушёл и я, помнится, работать в библиотеку, где меня ждало несколько наконец переведённых с арабского трудов о кожных недугах. Поразительно, но чтение трактата о проказе и о том, как достойно прожил с ней короткую жизнь юный король Иерусалима Балдуин IV, быстро вернуло мне отличное расположение духа. Трагедии порой могут вдохновлять лучше самых жизнеутверждающих историй.
Увлёкшись, я забыл о пустой утренней беседе и только под вечер, уже когда камердинер запирал за мной дверь и осведомлялся по поводу ужина, вспомнил опять.
«Кто-то появляется с приходом темноты». Темнота как раз сгущалась.
Готфрид упоённо играл на клавесине некую грузную, унылую импровизацию, и я поспешил обойти гостиную стороной. Сколько же можно… Мой старший сын, при всём уме, совершенно не хочет понимать, что музыкальный дар не ниспослан ему Господом, если Господь и правда посылает нам – хотя бы единицам – нечто подобное. А без этой печати Гения нужно вшестеро больше усилий, денег, учёбы у мэтров – всего, для чего Готфрид слишком занят, жаден, горд. Жаль его, но, раз так, верю, что рано или поздно он смирится и утвердится наконец на основном поприще[10], где вполне успешен, а музыку оставит ненавязчивым увлечением, скрашивающим вечера. Non omnia possumus omnes[11], дурная тяга всякое любимое дело пытаться за уши перетянуть в дело жизни и источник триумфов, но молодости она простительна. Очередная химера, изживаемая опытом.
– Отец?..
Я вздохнул и, пойманный, помедлил в дверном проёме.
– Здравствуй. Не хотел тебя отвлекать.
Готфрид, выпрямившись, размял пальцы, длинные, плотные, белые, с отполированными ногтями, на которые я бездумно уставился. Мои дети никогда не знали тяжёлой физической работы. Порой я радуюсь, что, променяв свободу в бесперспективном Лейдене на роль придворного в полной возможностей Вене, облегчил путь домочадцев, но порой – например, в такие минуты – сожалею. Приземлённый рутинный труд отрезвляет. Что бы ни говорили о небожительстве тех, чьё поприще – искусство, по-моему, лучше им хотя бы иногда брать в руки медицинские щипцы, ружьё, лопату или топор.
– Как тебе сочинение? – без обиняков спросил Готфрид, и вытянутое, напряжённое лицо его оживилось. Собственная музыка давно осталась единственной темой, говоря на которую, он забывает и правила хорошего тона, и привычную угрюмость.
– Я почти ничего не слышал, прости, – откликнулся я, и он тут же померк. – Но… м-м-м… услышанное недурно. – За окном, кажется, нашлась и подсказка, чтобы поддержать беседу хоть чуть-чуть. – Тебя вдохновила наша зимняя слякотная хмарь?
– Бабочки! – возмутился Готфрид. – Серебряные бабочки из нового французского романа, который ты недавно принёс! Где юная модистка ищет на улицах Парижа отца…
Книгу я помнил – еле отбил у бдительных иезуитов, углядевших в сюжете и дьявольщину, и оскорбления святых, и слишком привлекательный образ проститутки. Живой, местами до оторопи чувственный, но не без божественной искры текст. Ни капли вязкой грузности из этой импровизации; мелькнула даже грешная мысль: возможно, придворный автоматон, умей он сочинять, создал бы фантазию на тему «Изольды восстающей» лучше. Тему я скорее закрыл и, кивнув, осторожно поинтересовался:
– Кстати, скажи, а почему ты не на рождественском приёме у Кауницев-Ритбергов?[12] Тебе же присылали приглашение. Твоё назначение на миссию в Брюссель во многом зависит от того, как ты себя зарекомендуешь, да и та очаровательная племянница Венцеля…
– Знаю, – оборвал он, досадливо сверкнув глазами. – Но мне захотелось сочинять. Прямо сейчас – знаешь, это никогда не может потерпеть, это как поток. Возможно, я загляну туда… Так всё-таки как тебе, поподробнее? – Речь его чуть убыстрилась. – Правда ничего? Хочешь, я сыграю с начала?
– Ничего, конечно. – Я улыбнулся, но невольно попятился. – Прости, но я устал. Мне не помешает тишина. Но ты играй, играй, упражняйся, сколько нужно… а я пойду.
И я правда поскорее пошёл, терзаемый и досадой, и угрызениями совести.
«…Это же твоё время, тебе решать, на что его тратить; это твоя жизнь, тебе выбирать, какие твои иллюзии – любви, таланта или успеха – однажды рухнут и швырнут тебя на землю, поранив обломками». Я, как всегда, промолчал. Иногда мне вообще кажется, что к моему скепсису по поводу увлечения Готфрида примешивается зависть: погружённый в работу, непрерывно кому-то нужный, сам-то я праздных занятий не имею, хотя в далёком юношестве и играл чуть-чуть на виоле, и рисовал – хотя бы приглянувшиеся растения в университетском ботаническом саду. Но у меня это никогда не было серьёзным делом – скорее чем-то оздоровительным для сердца, сродни прогулкам и пробежкам. То же отношение я пробовал воспитать в детях. Ох, Готфрид, остаётся надеяться, что успехи служебные заменят ему успехи музыкальные и он будет счастливее, чем сейчас, когда раз за разом провожает меня – да и всех, кто опрометчиво соглашается послушать его музыку, а потом не чает сбежать, – обиженным, горящим, но уже обречённо-понимающим взглядом?
Определённо, это тоже не даёт мне покоя, иначе почему не имеющий отношения к вампирам разговор с сыном только что оказался мною задокументирован? Пора вернуться к делам и темам несемейным.
За привычными мыслями о Готфриде мелькнула другая, косвенно связанная с утренней аудиенцией. Что-то в кваканье Мишкольца мне запомнилось, засело в мозгу. Ах да, кошки и собаки… Всё началось с того, что в том городке не осталось кошек и собак, так? Видимо, вспомнились потому, что сочинительство сына непременно бы их распугало. Так или иначе, смутно встревоженный непонятно чем, я в ту ночь плохо спал, много думал о всяких потусторонних глупостях и наутро постарался скорее уйти в земные дела.
Следующие несколько недель разговоры о вампирах не прокрадывались под своды Хофбурга. По крайней мере, Императрица, видимо, понимая, что мне смешны эти пересуды, избегала их, и я был благодарен. Нам хватало тем для обсуждения, начиная от очередных церковных нападок на мой анатомический театр[13] и заканчивая полным нежеланием Её Величества в угоду собственному желудку хоть ненадолго, на полмесяца, поумерить пыл насчёт жирных супов и отбивных! Наша с этой невыносимой эпикурейкой война, длящаяся десятый год, похоже, бесконечна. Насколько послушен её муж, настолько непобедима она, тайком лакомящаяся то засахаренными цветами, то пирогом на пиве – а потом с сетованиями пытающаяся преодолеть следствия этих излишеств постными бульонами.
Мне напомнили о Каменной Горке только в первые дни февраля, и то было странное напоминание. В конце утренней аудиенции, отведя меня в сторону от прочих собравшихся в зале, Её Величество спросила вроде бы небрежно:
– Что, доктор, не забыли, как герр Мишкольц пугал нас сказками своих владений?
– Вне всякого сомнения, – подтвердил я, отрывая взгляд от носков туфель и стараясь не выдать желчной иронии. – Как он, ещё воюет с вампирами и священниками?
Императрица кивнула, задумчиво опуская на подоконник свои по локоть обнажённые полные руки. Она выглядела рассеянной, и я не мог не отметить скверной перемены в цвете её лица, которая не укрылась даже под слоем белил и румян. Она тревожилась. О чём?
– С той беседы я получала от него письма трижды, – продолжила она. – Люди в Каменной Горке за время его отъезда вскрыли несколько могил и сожгли, обезглавив, ещё девять трупов сограждан. Якобы те восстали, вернулись и, если бы не это… аутодафе, в вампиров обратились бы все местные покойники: заразились бы через кладбищенскую землю. Солдатам не удалось остановить надругательство… И это не всё.
Я невольно присвистнул – подцепил этот мальчишеский звук изумления у её супруга. Императрица слегка улыбнулась. «Хотя бы вы в недурном расположении духа, – читалось на её лице. – Но это ненадолго».
– Была вспышка смертей среди молодых горожан. – Она понизила голос. – Такое, конечно, случается, но для столь короткого срока цифры великоваты, намного больше, чем прежде и чем в среднем по области. К одному из писем герр Мишкольц приложил заключения местных врачей: он пожелал дать мне понять, что ситуация объяснима и под контролем, однако меня насторожили те бумаги. Я хочу, чтобы вы изучили их. Сможете забрать их в приёмной, они ждут вас у герра Крейцера. Настоятельно прошу не затягивать.
Распоряжение, да ещё категоричное, меня удивило. Что я мог понять о тех, кого не наблюдал при жизни, не анатомировал после смерти? Откровенно говоря, мысль тратить на это рассчитанное по крупицам время меня не прельщала. Я постарался прощупать почву:
– А чем именно отчёты насторожили вас? Молодые люди точно так же, как старые, умирают от инфекций, жабы в груди, отравлений, пьянства…
Она непреклонно покачала головой:
– Увидите сами. Пока прибавлю одно: последнее письмо мною получено две недели назад; я немедля на него ответила. Больше Мишкольц не давал о себе знать, хотя срочный гарнизонный курьер с почтой успел доставить другую корреспонденцию из тех мест. Это беспокоит меня не меньше, чем бумаги медиков. В Моравии определённо происходит что-то, что от нас утаивают. Я этого не потерплю, от утайки до беды один шаг.
Я рассеянно вгляделся в голые деревья шёнбруннского парка. Моя интуиция ничего не подсказывала, хотя пара прозаичных вариантов развития событий просилась сама.
– Вы думаете, наш… – я тактично опустил прозвище «Лягушачий Вояка», – …друг пострадал в результате бунта? Те территории не слишком спокойные, но я уверен, что гарнизон, стоящий там, достаточно заботится о неприкосновенности власти.
– О гражданских волнениях уже знали бы в соседних областях, такие вести обычно не запаздывают. Откровенно говоря… – Императрица бросила взгляд на щебечущих фрейлин в противоположном конце залы: они поедали конфеты, пустив по кругу большую нарядную коробку. – …я не совсем понимаю, что именно так беспокоит меня во всех этих деталях, но они не понравились мне, ещё когда герр Мишкольц сказал о солдатах на кладбище и о священнике. А ведь… – она натянуто усмехнулась, – …стоило больше переживать о растраченных деньгах, нет?
Она была права. Дети Ночи будоражат, даже у венской публики экзотическая тема уже популярна, однако редко выходит за пределы газет и приёмов. Самым страшным в этих мифах для меня остаются изуродованные трупы невинных, якобы на кого-то напавших, разорённые захоронения – рассадники заразы – и чудовищное поверье: укусили тебя – для исцеления поешь земли с могилы вампира[14]. Прежде казалось, всё это преодолимо, сойдёт постепенно на нет, как и некоторые другие региональные дикости вроде охоты на ведьм[15], а вот за возведением больниц, доступностью образования и поведением регионального духовенства действительно стоит следить строже.
Но то, что я скоро увидел в бумагах, обеспокоило и меня.
Во всех медицинских отчётах, присланных Мишкольцем, стояли вариации одного диагноза. Истощение. Малокровие. Слабость. Про пару покойных подтвердилось: они ели землю с «подозрительных» могил, пока солдаты их не выдворили. Ещё в двух случаях я открыто встретил самоизобретённый кем-то термин vampertione infecta[16]. Отчётов оказалось около дюжины за две недели – необычная статистика, над которой я ломал голову несколько дней. Моравия, конечно, не самый богатый, но и не голодающий край.
Прошло ещё немного, и по двору разнеслась будоражащая новость: Мишкольц не просто оставил без внимания новые вопросы и распоряжения Императрицы – он исчез. Никто из чинов области не мог ничего по этому поводу разъяснить, все отделывались обещаниями «немедля дать знать, как герр вернётся». То, что Императрица высказала мне осторожной догадкой, пришлось подтвердить официально: что-то там в горах случилось – или вот-вот случится. Каменная Горка замолчала.
И вот я отправляюсь туда. Должен попытаться разыскать Мишкольца – при мне специальное распоряжение о содействии на имя командующего гарнизона, Брехта Вукасо́вича. Впрочем, это побочная цель: Её Величество, как и я, не сомневается, что наш старый знакомец рано или поздно объявится – и скорее рано, едва узнав, что я в городе. Главная же цель обширнее, расплывчатее и сложнее.
– Посмотрите внимательно, что там происходит и какие настроения, мой друг. Не жалейте ни глаз, ни времени, ни уверений, ни, если понадобится, обещаний. И, может, когда-нибудь это поможет нам погасить огонь невежества.
– А если вдруг огонь невежества окажется огнем преисподней?
Я спросил это полушутя: на миг, забавы ради, представил нас дамой и рыцарем, героями какого-нибудь очередного оторванного от реальности литературного шедевра. Но Императрица нахмурилась, подумала и ответила серьёзно:
– Я не стану учить вас впустую. В таком случае поступите так, как велят вам честь и долг. – Её губы всё же дрогнули в подзуживающей, несолидной улыбке. – Прихватите с собой… чего там вампиры боятся… Перец? Лаванду?
– Чеснок, Ваше Величество.
– Чеснок. И пару кошек.
Так она меня и напутствовала, а вскоре мы расстались.
…Карета продолжала громыхать по колдобинам. Я уже с бо́льшим интересом посматривал в окно, хотя ровная голубизна воды давно не радовала глаз: реки сменились буреломами и грязно-серыми предгорьями. Небо поблёкло, дождь настойчиво залупил по крыше. Февраль, тучный и промозглый, плакал во всей унылой красе.
Откинувшись на сиденье, я стал думать о сыне, не знающем подоплёку моей поездки. Готфрид вряд ли мог бы заподозрить, что я оставил завещание, в котором на равные доли разделил имущество и поручил им с Лизхен – как старшим детям – заботу о Ламбертине[17], малышке Мари и Гилберте. Мой душеприказчик с большим скепсисом заверил бумагу, бросив: «Полагаю, вы переживёте меня, Ваше Превосходительство». Зато он пообещал, что моя благоверная об этом не узнает. Для неё, как и для Лизхен, в её-то интересном положении, поездка – не более чем сановный визит с просветительскими целями. И пусть.
Конечно, я оставил завещание просто так, prо fоrmа: единственное, что грозит мне в путешествии, – отвратительные дороги, крутые ущелья и отсутствие нормального освещения. Ну и, может, уже по прибытии гнев горожан, которым не понравятся мои эксгумации и исследования – эти действа входят в мои планы. Два варианта смерти – от сломанной шеи или сожжения на костре, оба маловероятны. Нет, определённо, Готфрид не получит возможность беспрепятственно, без моего ворчания, музицировать с друзьями каждый день… хм, прочие домочадцы в этом вопросе излишне снисходительны. Я же… я отдохну от стонов клавесина и шума столицы. Воздух в горах чудотворнейший.
…В свете свечи, в придорожном трактире на выезде из Брно, я заканчиваю эти строки и отхожу к короткому сну, необходимому не столько мне, сколько кучеру и лошадям. Завтра моё путешествие продолжится.
2/13. На пути к Белым Карпатам 12 февраля, семь или восемь часов пополудни
Жизнь давно научила меня: если дню суждено стать неординарным, он будет таким с первых или почти с первых минут. Так и случилось. Происшествие, наверное, не назвать подлинно необычным, но у меня оно почему-то не идёт из головы.
Ещё под утро ко мне спустилось сновидение – мир в нём был густо-синим, а небо пронизывали острые звёздные взгляды. Дул ветер; скрипели двери на широких петлях, а под видневшимися в проёме сводами церкви, на крыльце которой я замер, кто-то стоял. Лицо – осунувшееся, окровавленное, почти неразличимое, как и вся фигура: девичья, мужская? Она дрожала и плыла, не понять. Но, кажется, человек ободряюще улыбался мне – тёмная улыбка напоминала шрам. И отчего-то я подумал… нет, неважно, что я подумал там, в дурмане дрёмы. Я не решусь этого написать хотя бы потому, что толковать это невозможно.
Ещё дальше, за спиной того, кто всё глядел и глядел на меня, светлел круглый витраж – лик Христа. В терновый венец вплетались красные розы, они ослепительно сияли. Их я видел, видел ясно, как ничто другое, и так же ясно понимал: должен помочь. Тому, кто передо мной. Тому, кто улыбается так, словно в помощи нуждаюсь я, хотя ранен он.
Я не сделал и шага: всё вокруг нас запылало, а земля под моими ногами взревела, будто во чреве её очнулся Левиафан. Мир… сдвинулся. Розы брызнули сверкающими осколками, а двери захлопнулись. От оглушительного звука я и проснулся: оказалось, во дворе кухарка уронила чан, который несла из кладовых. Из окна я вскоре наблюдал, как, ругаясь, она собирает вывалившиеся овощи и отгоняет бродящих поблизости любопытных, рассветно-розоватых поросят. Они задорно хрюкали, пока в голове моей звенел разбитый витраж.
В чувство меня привёл воздух: он пах чудно, его не отравила даже примесь помойного амбре. И всё же отходы здесь явно сливали куда попало – нарушая мои санитарные предписания! Я усилием воли запретил себе разбираться с этим сейчас и вообще не стал задерживаться у окна, хотя вид на вызолоченные солнцем Орлицкие хребты и сверкающую еловыми изумрудами чащу ласкал взгляд. Горы совсем не как в Австрии – ниже, темнее, таинственнее. Интересно, какими окажутся Моравские Ворота – и конечная точка моего пути за ними?
Я стал собираться. Невозможность нормально побриться из-за того, что накануне я не распорядился нагреть к утру воду, несколько удручила. Разбойничья щетина не была частью моего повседневного облика, но пришлось с ней примириться. Зато я вспомнил о приятном нюансе провинциальных путешествий, а именно о том, что парик – более не обязательная дань моде, а деталь, выделяющая богатого приезжего; деталь ненужная, способствующая к тому же разведению лишних насекомых, кусачих и плодовитых. Я лишь тщательно прошёлся гребнем по отросшим за последнее время волосам, а раздражающий предмет туалета запрятал подальше. Я всё чаще пренебрегаю им и дома, возвращая себе лейденскую волю и юность хоть так, – Императрица знает мою нелюбовь к напудренным буклям и прощает её. В общем, если парик и пригодится, то в Каменной Горке, где богачи наверняка подражают столичным нравам. Неизбежно, hоnоris саusа[18], зазовут на приём, и я стану узником душной залы со скучными прошлогодними беседами и бог весть каких лет музыкой. Надеюсь, экзекуция эта будет разовой, не более.
Еда оказалась великолепной: тонкие блинчики, называющиеся забавным словом «палачинки» и поданные с кисловатым сливовым джемом, серый и золотистый зерновой хлеб, нежная ветчина из птицы, впечатляющие сыр и творог. Нашёлся даже недурной, хотя и грубого помола кофе. Завтракают здесь по-немецки плотно, но без вредных излишеств вроде солений и жирных колбас, что не может не радовать.
Вскоре мы тронулись в путь. Карета забралась повыше, горы с любопытством обступили её, и теперь вчерашняя тряска показалась нежным качанием колыбели. К тому же опять зарядил дождь, за которым не удалось увидеть Орлицкие хребты такими, какими они улыбались мне из окна. Жемчужные водопады стали мутными пятнами, насыщенная зелень – тёмными сгустками, заброшенные рыцарские замки – горбатыми великанами.
Клонило в сон, но, едва я прикрывал глаза, как снова видел горящую церковь. И почему она запомнилась? Мне снится множество вещей, совершенно невероятных. Я бывал и пиратом испанских морей, и буридановым ослом, и неким летающим созданием с Луны, в лучших традициях смелых сочинений мсье де Бержерака. Теперь же вроде бы тривиальный кошмар никак меня не отпускал. Тот раненый человек…
Нет, не может быть. Я его даже не разглядел.
От тягостных мыслей меня освободила перемена погоды. Клочковатые тучи исчезли столь же быстро, сколь появились, солнце опять заиграло на верхушках деревьев, кидая на массивные ветви пригоршни сверкающих самоцветов. Оно напоминало: до весны недалеко, а в этих краях весна наступает даже раньше. Я стал высматривать наконец вожделенные замки и водопады, резные пики гор и таинственные провалы пещер. Картины настраивали на благодушный лад, а творца вдохновили бы на рисование, лирику и музыку не хуже, чем вчерашняя синь Нижней Австрии. Я же с моим приземлённым умом мог лишь представить, сколь целительное действие пейзажи оказали бы на моих беспокойных пациентов. Красота и гармония лечат не хуже пилюль, микстур и припарок; иногда лучшее, что можно сделать с искалеченной душой, – увезти её в золото и зелень, морскую лазурь и цветочную пестроту.
Я подумал о том, что не взял ни кошек, ни чеснока, и усмехнулся: какая неосмотрительность! Более того, на мне не было креста – неизменного спутника большинства моих знакомых, даже видных учёных мужей. Всё чаще думаю и об этом: сколько во мне было христианского рвения в юности – и сколько я видел того, что его поколебало. Видел, как Господь зло смеялся, и как равнодушно отворачивался, и как заносил над агнцами кнут и опускал, опускал… Не стоило мне, рано загоревшемуся профессией, еретически судить о Нём по себе: как о Враче, но Враче Великом, единственном, кто вправду может блюсти все наши клятвы. Но увы. Это всё ещё со мной. Не так давно я по примеру иных протестантов – коих прежде осуждал! – даже перестал отягощать шею святым символом, более не чувствуя его частью себя. Так честнее, а дальше посмотрим. Думаю, Он – надеюсь, Он всё же есть, просто клятвы у Него свои, – поймёт меня, как никто.
Один час перетёк в другой, в третий. Края в основном были безлюдными или едва заселёнными, города и деревеньки – крохотными, с лепящимися друг к дружке лачугами. Но целых три раза безлюдье нарушалось очаровательными поселениями, успевшими стать курортными – благодаря бьющим в окрестностях термальным ключам. Запах стоял знатный – серный, тяжёлый, животворный. Когда мы ненадолго остановились – мне захотелось попробовать воду, – я обратил внимание, что даже широкая носатая физиономия моего кучера Януша сильно перекосилась. К источнику он не приблизился и отведать «полезной для печени» водицы наотрез отказался, пробасив, что «жижа эта смердит, как испражнения дракона», а печень он лучше полечит на постоялом дворе можжевеловой настойкой или сливовицей – традиционной в этих краях вариацией бренди.
Сами поселения, когда-то наверняка запущенные, как всё вокруг, прихорошились, вымостили или заровняли дороги: хоть где-то наши деньги пустили в дело! Путь вился вверх-вниз, постройки располагались ярусами, я мог иногда увидеть приютившийся у спуска между двумя ущельями хорошенький дом или нависающий над излучиной горного потока мрачный костёл. Попадалась и неплохо одетая публика: всё больше старики, чахоточные девушки с гувернантками и бледные, осунувшиеся офицеры.