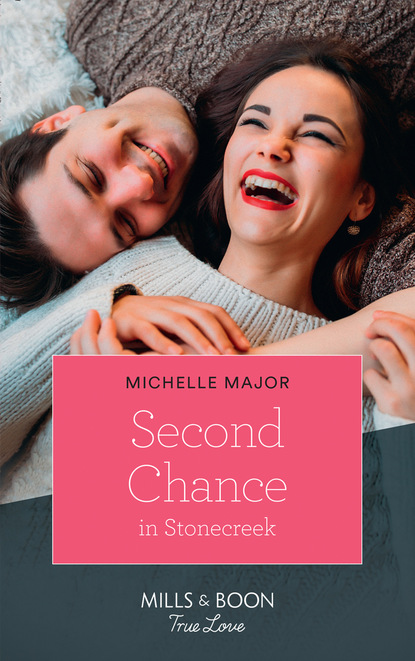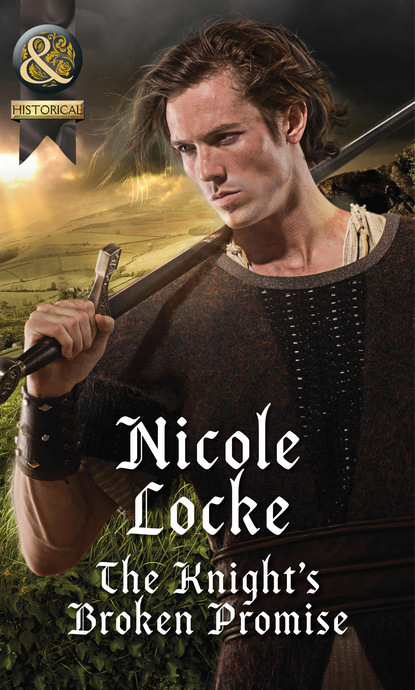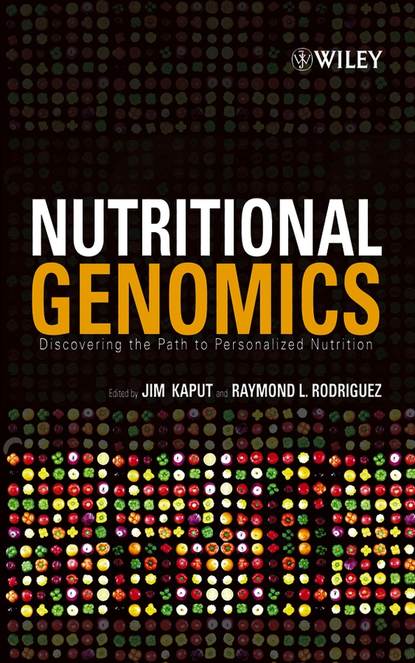«Три кашалота». Кровь червячных нор. Детектив-фэнтези. Книга 8
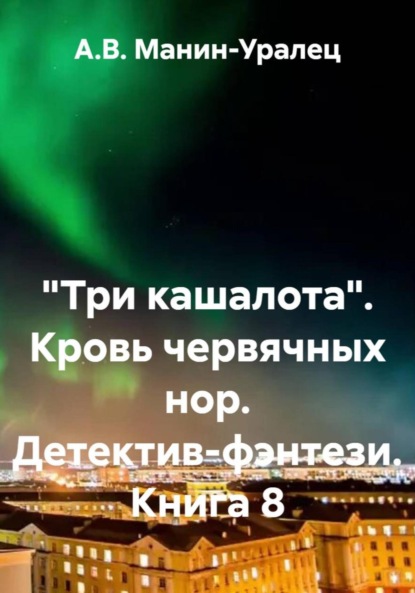
- -
- 100%
- +
Сметанчикова слегка покраснела. Она считала, что сделала очень хороший доклад и не заслужила даже мимолетной насмешки.
– Но не только о стрекозах, товарищ полковник, еще и о монетах! – добавил капитан отдела «Опокриф» Андрей Страдов.
– Да, и о монетах… – тут же подхватила Вержбицкая. – Что интересно, количество желающих испытать на себе чудесное действие подземелья в условиях шахт все время растет. Люди едут и из Москвы. А ведь слетать в Норильск туда и обратно – по деньгам равноценно поездке в Турцию на отдых в хорошем четырех – или пятизвездочном отеле.
– Ладно. Какие будут еще соображения? – почти машинально обратился ко всем сразу Бреев. – Какие данные по аффинажной фабрике? – В голосе генерала послышалось, что и фабрика также волнует его сейчас меньше всего.
– На фабрике производится обслуживание небольших частных фирм, добывающих золото в разных концах страны. На тугоплавкую платину ее мощности не рассчитаны. Но вот что выясняется, – в растяжку сказала Сметанчикова, вглядываясь, как в лупу, в экран смартфона с эмблемой «Трех кашалотов», – фирму «Платина», которая не была допущена до дел в Норильске, возглавляет некто по фамилии Моргиналов. Это близко к Моргану, согласитесь, товарищ генерал. А Морганов сейчас в базе данных расплодилось, как тех же стрекоз в палеозойской эре.
– Если бы! Личинки размножаются в воде, а эти шустро бегают по нашей земле, как тараканы! – выдал Сбарский.
– Никак нет, товарищ майор, – парировала Сметанчикова, – личинки стрекоз меганеврид вели не водный, а наземный образ жизни.
– Ну, тогда другое дело! Ловить преступников в ластах и с аквалангом это как-то не по мне.
– И слава богу! Ведь те стрекозы были еще какими хищниками!.. – сказала Вержбицкая, поддержав коллегу. – Кстати, стрекоза изображена на клейме фабрики, и стрекозы изображены на одной из стен рядом с пеликанами. Пеликан, как известно, символ самопожертвования, но птица, все же, болотная, как и стрекозы. Какая-то связь в этом есть. Чего только стоит надпись: «На бортах и почве и кровле личинки стрекоз».
– Это легче простого! – сказала Сметанчикова. – Те же северяне говорят: борт, а не стена; почва, а не пол; и кровля, а не крыша или потолок.
– Нам надо проверить дно болота! – резюмировал Бреев. – Полковник Халтурин, это под вашу ответственность!
– Есть!
– И проверьте почву под аффинажной фабрикой. Древний храм, не исключено, стоял над золотоносными песками. Бецкий наверняка уже все перекопал. Но если это так, он обязан вернуть государству полагающуюся часть.
– Хорошо бы, товарищ генерал. Легче работать, когда часть плана уже в кармане! – сказал Страдов.
IV
– Вы что-то хотели сказать о монетах, товарищ капитан? – спросил Бреев.
Страдов встал и вытянулся чуть ли не по струнке. Одной рукой он переворачивал странички доклада.
– Поступило сообщение, что количество обладателей золотого дублона в кармане растет. Родилась версия, что эти монеты могут выполнять рекламную акцию. Они есть почти у каждого, кто сейчас обращается в суды и заявляет о своих правах на какую-либо недвижимость. Не знаю, клан Морганов или какой-то иной претендует на свое влияние в России, но то, что от имени Штатов – я уверен на все сто! Вот, например, некий Брашер, по паспорту русский, заявил, что его прадед во время войны на Эльбе встречался с американским лейтенантом, и тот подарил ему в знак дружбы дублон Брашера. И вот теперь он желает поменять национальность – с «русского» на «американца». И у него есть адвокат, который докажет все его заявленные права в любом суде!
– Так в паспорте нет графы о национальности!
– Он требует, чтобы эту графу вернули, пока еще обсуждаются поправки в конституцию.
– Грамотный больно!
– Подстава! На аукционе настоящий такой дублон был продан с молотка чуть ли не за полмиллиона долларов.
– Но ведь и этот из золота. И все в нем как надо. На одной стороне монеты – лучи солнца, выглядывающего из-за гор; изображение копирует ранний вариант большой печати штата Нью-Йорк, преобразованной впоследствии в герб. В нижней части поля имеется надпись ювелира «Брашер». Центральное изображение отделено цепочкой точек от надписи в три слова, из которых последнее «Ексельшиор», что означает «Все выше!» – ставшее впоследствии официальным девизом штата. Другая сторона содержит в центре изображение орла с разворотом головы влево. Выпуск 1787 года. Тогда монета считалась пробной и номинала не имела, но автор оставить на крыле орла свой надчекан не забыл… Дублоны выпускались разными по весу, в разных странах. На том, например, который оказался в кармане упавшего в болото батюшки, вместо орла изображена изогнувшаяся и кусающая палец стрекоза.
– Очевидно, те злоумышленники, – делал вывод Сбарский, – которые наводняют нашу страну подобными дублонами, может, даже и тоннами, пытаются внушить нам, что их нашествие – это как нашествие насекомых. Мол, да, пока они не страшны, но не оставят без внимания ни одного пальца, которым им погрозили, чтобы потом внести в санкционные списки и высосать из него всю кровь.
– Худая версия, майор! – буркнул Халтурин. – Тогда бы уж они сделали символом именно комара, а не стрекозу!
– Ага, товарищ полковник, только не мужика, а бабу!
– Какую еще бабу?
– Ну, комариху, ведь кусает только она… так устроен ее аппарат – прокалывать кожу и пить кровь.
– У гнуса комара плохо развита челюсть! – добавила Сметанчикова.
– А-а!
– Вот еще сообщение. В московскую психиатрическую клинику привезен еще один субъект с дублоном в кармане. Но этот, как и пострадавшая Виталина Маргиналова, заявился в полицию, когда пришел в себя от какого-то кошмара. На него было повешено убийство. Он был осужден, отбывал срок, но вдруг очнулся на воле, выполнял, по его выражению, какие-то гнусные поручения, пил чью-то кровь, теперь желает отмыться. Как и пострадавшая Маргиналова, назвал виновником своих несчастий прокурора Модеста Широкова-Сыроедина; он-де осудил бедолагу по заранее сфабрикованному делу.
– Если все так, а факты говорят сами за себя, надо прощупать этого Сыроедина! – жестко сказал Халтурин. – Похоже, он один из тех, с помощью кого исчезают люди, чтобы стать «мертвыми душами», а затем выполнять волю хозяев. Тут уж кротовья нора – так нора. Нырнул одним, честным человеком, а, с другой стороны, вышел другим, обработанным, и этого даже не заметил!..
У прокурора при обыске нашли килограммы золотого песка и плавильню для изготовления золотых монет с изображением стрекозы.
V
Когда капитану Крыншину сообщили, что пострадавшая Виталина Маргиналова просит посетить ее в больнице, он был немало удивлен. Еще больше он был удивлен, когда молодая женщина с большими черными глазами, утомленным, но очень приятным выражением на бледном лице попросила отвезти ее домой. Удивление усилилось еще больше, когда дома она показывала ему то, что больше походило на его собственный фоторобот. Это была старинная, местами сильно потертая гравюра. Виталина сообщила, что он, Крыншин, ее дальний родственник, что у них общий предок – в прошлом золотопромышленник Лука Саломатин, который женился на баронессе Наталии Осетровой. И, вот, наконец, они встретились, Виталина и Вадим. И она счастлива.
Виталина рассказала, как приехала из Астрахани в Москву после окончания металлургического техникума, стала лаборанткой на аффинажной фабрике, потом была переведена в архив, нашла там документы, обличающие мошеннические схемы, и прокурор Широков-Сыроедин отправил ее в тюрьму. Вскоре она стала получать письма от какого-то юноши, который клялся, что полюбил ее с первого взгляда, присылал фотографии. Но она почувствовала, что становится пешкой в чьей-то новой игре и честно написала ему об этом. О том, что не станет лжесвидетельствовать, и чего в архиве не видела, того не видела. Хотя, на самом деле, ее сильно поразил тот факт, как был переплавлен найденный древний медный гроб с большим содержанием золота. Это случилось в тридцатые годы прошлого века на аффинажной фабрике на Кавказе, но запись об этом как-то случайно затерялась в общей документации. Не так давно ее вдруг освободили, и какая-то женщина потребовала, чтобы она, все же, показала, где найти этот документ. Наверное, на первом допросе она все-таки проговорилась или ее чем-то опоили. Она показала, где найти этот документ, а та женщина помогла написать письмо какому-то генералу Брееву, чтобы он приехал на Кавказ разобраться на месте, ибо есть подтверждения о наличии золотых запасов в Абхазии.
– Эта женщина очень опасная преступница, и она уничтожена! – сказал Крыншин. – Она организовала попытку крушения самолета генерала, устроив в горах Эльбруса огромную голограмму-хрономираж с видом древнего града Приэльбрусья Русколани, но ее план был вовремя разгадан, и прах убийцы разлетелся вместе с осколками ракеты «воздух-земля», пущенной по ней из самолета.
Но то, что Крыншин тут же услышал в ответ, заставило его содрогнуться. Он только что написал заявление об увольнении, оно лежало у него в столе, но теперь ему, видно, придется задержаться! «Неубиваемая!.. – прошипел он себе. – Я готов поверить во что угодно, даже что я сам из этих, чтоб их… ну, всяких, там, дворян, что Бреев стал Акелой и промахнулся?!..»
– Да, она приходила ко мне в больницу, назвалась Булатовой, – продолжала девушка, – сказала, что это она вывела меня из анабиоза – так они называют всех из армии «мертвых душ», своих послушных рабов. Но дала мне понять, что со мной может случиться все что угодно, если я не укажу, где хранятся срезанные при строительстве порта в Абхазии девяносто лет назад два золотоносных холма. Я на самом деле знаю, и теперь со спокойной душой говорю об этом тебе, своему брату, дяде или племяннику… неважно… мы этого можем никогда не узнать. Но о тебе я знаю давно, больше пяти лет, как приехала в Москву, когда ты вдруг женился, а я решила жить своей жизнью, не докучая своими проблемами.
– Дворянская гордыня! – сказал Крыншин, желая придать своему голосу больше небрежности, но на этот раз получилось не очень. Он вдруг ощутил, что должен быть достойным голубой крови. Если Лука Саломатин был из древней боярской семьи, то он, Крыншин, может быть, из Рюриковичей!..
– Бр-р! – Он тряхнул головой.
– Что с тобой? – Виталина видела, что он дурашничает, и, быстро подойдя к нему, прижалась своей грудью к его голове.
– Дорогой мой, брат! – выдохнула она. – Как же я счастлива. Ведь я почти совсем одна!
– Да, и мне тебя надо спасти! – сказал Крыншин, с удовольствием обняв ее за талию, обхватив за спину и чмокнув в плечо.
Оба рассмеялись.
– Ты знаешь, я тоже счастлив! – сказал он. – Только если ты встретилась со мной, это еще не значит, что злодейка, – а ее имя, действительно, Лилия Булатова, – не проследила каждый твой шаг. А с твоим и мой заодно! Что в этом документе?
– Фамилия человека, с ведома которого был переплавлен золотой гроб старца, а также спрятано золото в кавказских горах – Тамиашвили. Оба холма, а это десятки вагонов, свозили в Москву, чтобы извлечь из них золотой амальгамы весом до десяти тонн. А в сопроводительном документе было указано: «Прежде все ссыпать на месте старой водонапорной башни». И еще…
– Что еще?
– Это золото не кавказского происхождения. Оно было привезено в абхазский порт в 1887 году неким капитаном Морганом, чтобы передать Тамиашвили для выплавки золота и чеканки монет с надписью «Дублон Брашера: 100 лет» для дешевой распродажи во всех столицах и провинциях России. Эта женщина, ну, Булатова, сказала мне, что этот моряк, ну, капитан Морган, – мой предок, а сам он – потомок знаменитого пирата Генри Моргана.
VI
Когда спустя час, после доклада лично генералу Брееву, Крыншин покидал его кабинет, у него в ушах еще звучал его голос, показавшийся более резким, чем обычно. Бреев скрывал свои чувства, но опечален не был. При известии о выжившей Булатовой, – а она успела-таки спрятаться в какой-то норе, – показалось, он даже с облегчением вздохнул. Это был гигант, Антей, Геракл, Илья Муромец. Он уже готов был вступить с ней в новую схватку. Хотя совсем недавно на него было совершено покушение, в виду чудесного града Русколани с распахнувшимися гигантскими воротами, за которыми его и еще нескольких пассажиров ожидали, ощетинившись, лишь голые скалы, чтобы оставить на себе отпечатки пиктограмм катастрофы.
Потому ввиду этой развернувшейся драмы наряду со всеми тревожными сводками не слишком убедительной показалась напускная строгость генерала, когда под конец он и произнес то, что все еще звенело в ушах:
– В нашем деле главное не поиск преступников, а поиск драгоценных металлов и кладов! Ради выполнения этой задачи для каждого из вас оборудовано индивидуальное рабочее место! Надеюсь, все из вас его хорошо помнят! А теперь идите и работайте!
– «И никто из вас не вправе забывать, что задача аналитика больше сидеть и думать! Думать! Думать! О золоте! О сокровищах! О самоцветах, на крайний случай! – додумывал за генерала он, начальник отдела «Сармат» Вадим Крыншин. – Да, да! Шелестеть страничками документов, прислушиваться к шепоту собственного рабочего стола и обязательно, стопроцентно выдавать результат! Бегать за преступником, шевеля булками, каждый может, ноги есть у каждого, а вот шевелить мозгами – это прерогатива избранных!» – Именно так сейчас воспринимали слова генерала и другие сотрудники, как бы не было обидно тем из них, кто время от времени любил размять косточки и «выйти на воздух» – как звучала на сленге операторов аналитиков их помощь коллегам из оперативно-следственной службы «Сократ».
Время от времени кто-то из засидевшихся в своем крутящемся кресле подавал заявку на возврат к агентурной и оперативной работе. Но никого из них брать к себе на службу в «Сократ» полковник Михаил Халтурин не имел права, как, впрочем, и генерал не собирался делиться специалистами на должностях аналитиков, где на них лежала тяжелая задача изо дня в день, от недели к неделе и от месяца к месяцу «дырявить штаны» за компьютерами перед лицом мощного железного аналитического мозга «Сапфир». И генерал Бреев, и полковник Халтурин держались обеими руками за каждого своего подопечного; все они являлись квалифицированными и по-своему уникальными специалистами каждый в своей области знаний.
Но, кто бы и что бы ни думал о своей службе, во всем ведомстве «Три кашалота» знания и опыт перетекали из одного сосуда в другой; и по закону сохранения энергии, перезаряжая друг друга, они рождали мощный аналитический мозговой центр, способный от выработки вывода срочно приступить к разоблачению преступников. Пахло бы драгметаллом!
Являвшаяся необходимым звеном этого центра уникальная машинная оперативно-аналитическая система «Сапфир» включала в себя разные подсистемы, способные реконструировать минувшие события в доступные современному восприятию и осмыслению, включая вновь введенную программу «Аватар». В состоянии погружения в сон, который мог длиться и считанные мгновенья, интуиция сновидения помогала вывести на верный след в анализе особо сложного и даже тупикового дела. К счастью, «тупиков», вследствие постоянного совершенствования организма «Сапфира», становилось все меньше, и подсистема «Аватар», казалось, на глазах устаревала. Но принцип использования возможностей подсознания, благодаря тому что автором «Аватара» являлся сам руководитель «кашалотов» генерал Георгий Иванович Бреев, негласно продолжал считаться фишкой ведомства. Мало кто вникал в методологию программ, кроме программистов. Но метод коллективного анализа, включающий в себя фильтрацию всевозможных версий, фактов и событий вместе с их обсуждением и переосмыслением, в том числе, эзотерики и метафизики, вплоть до былин и сказок, становился дорогим каждому, кто побывал хотя бы на одном совещании у Бреева или Халтурина. Здесь, как на партийном собрании, каждый имел возможность высказаться, сделать любое предложение, даже и нести околесицу, чтобы только возникшая версия зацепилась хоть кончиком логики за то, что могло бы стать следом и звеном к искомому результату.
Впрочем, мир на глазах стремительно менялся. То, что казалось собственной фишкой в методологии и методики ведения дел, все больше походило на инструментарий будничной аппаратной работы, и хуже того, казалось, порой уступающей по некоторым позициям методам защиты врага в стремительно развивающейся криминогенной обстановке, все отчетливо получающей угрожающую политическую и несколько революционную окраску. «Защита» преступной среды все явственнее переходила в наглое наступление и даже откровенно безрассудное нападение на власть. И при этом все чаще создавала угрозу жизни сотрудникам всех институтов безопасности, от рядовых до генералов.
С учетом комплекса растущих проблем, указывающих, что бороться приходится со все более зомбированным противником, часто не помнящим не только «Иванова родства» со своим народом, но даже своих подлинных имен и фамилий, сотрудники «кашалотов» создавали о себе новые анекдоты. Предпоследний звучал примерно так: отныне рисковать жизнью и проливать кровь за дело станет возможным не иначе, как только зомбировав собственное сознание и перейдя портал «Аватара». Наяву это осуществили уже десятки человек, получая пожизненно звание «агент-астронавт», как космонавты пожизненно становятся космонавтами. Но не было никого, кто бы сам рвался вторично и третично побродить в искусственных снах, чтобы там, обшарив все вокруг своим подсознанием, зацепиться за ниточку, выводящую из тупика лабиринта к свету. Жизнь оказывалась сложнее снов, а методы противников все более изощренными, суя в руки следователей сразу по нескольку ниточек, пытаясь изображать из себя кукловодов, а полицейских – игрушками в театре неуловимого Карабаса-Барабаса. Суть последнего анекдота сводилась к тому, что для того, чтобы справиться с преступником, надо было самому стать преступником, а чтобы поймать изощренного злодея – совершить еще более хитроумное злодейство. Оставалось только мечтать об изобретении такой аналитико-розыскной системы, в которой можно было бы не просто ждать, когда она выдаст приблизительно точный результат, а чтобы все преступления в настоящем и прошлом были бы как на ладони, как в матрице, откуда оставалось бы только извлечь контейнер, а из него, как устрицу из раковины, всю жареную картину фактического преступления. Это также можно было бы зачесть концепцией нового рождающегося анекдота.
VII
«Что ж, мы не гордые, посидим и на своих булках, и на этот раз не побежим ловить преступника, коли так требует дело! – ворчал Крыншин, возвращаясь к себе в кабинет. «Ну, хорошо, давай! А я посмотрю: совпадают ли сведения вашего «Сапфира» с тем, что сейчас предъявлю я, не будь я Дивом червячных дыр!» – раздался эхом из глубин подсознания и из глубин сна, ради которого сейчас был бы не прочь отключиться на минутку-другую Крыншин, странный, грубый, но очень участливый голос. Он был похож на голос диктора из старого черно-белого телевизора, когда приходилось перемещать по комнате усики подсоединенной к нему антенны: то отчетливо слышимый, то затухающий. «Ну вот, не успел сесть за работу – в мозгах меречанье!» – «Кхэ! Кхэ!..» – «О, я уже слышу чье-то покашливание! Ладно, если это даже Див червячной дыры, – спокойно ответил Крыншин, – пусть пока посидит в уголке» – «Кхэ-кхэ-кхэ!..» – «Не мешай мне думать, что, не слышал: так велел генерал!» – «Да пожалуйста, не больно-то и навязываюсь! Только что это за «работа», что это за «дума», когда нельзя пошевелить булками. Хе-хе-хе!» – «Ой, только давай без всякого там высокомерия! Но и без обид! Добро?» Ответа не последовало. Крыншин открыл файл с жизнеописанием будущего первого золотодобытчика России Ивана Протасова.
– Итак, я отдал судьбу своей сестры в руки генерала Бреева и, больше ни о чем не думая, кроме работы, и ни о ком не переживая, кроме как о Брееве, чтобы он не остался без плана, попросту тихо и мирно посижу и почитаю… – Так с грустью сказал себе Крыншин и в тысячный раз про себя вздохнул. Рядом в ту же секунду громко вздохнул и вызванный им из глубин подсознания тот, кто всегда находится рядом с любым человеком – его невидимый дух, его ангел, его эгоистичное «я».
«…Цель повествования этого рассказа заставляет еще раз обратиться к дневникам священнослужителя Памвона Икончева, поначалу глубоко спрятанным под сводами белевогородской церкви, а затем загадочным образом оказавшимися в сундуке того, кого мы назвали «Избранником небес» – золотодобытчика Ивана Протасова. Дневники о нем и о тех людях, с которыми невидимыми нитями оказалась связанной его удивительная судьба.
Женившись на Марии Курасовой и познав с годами все бремя супружества с властною хозяйкой, уже став протодиаконом, но все также без прав свершения богослужений, Памвон Икончев однажды совсем уже остро почувствовал потребность отрешиться от провинциального быта, где покой его был навсегда потерян с познанием тайны и ее продолжением, когда, спустя девять месяцев после посещения Петром Белева города, он вспомоществовал крещению родившихся у жены майора Рюрикова прекрасных мальчиков, одного русого, а другого с темными курчавыми волосами.
Спустя годы, Памвон решил, что настала пора как-то воспользоваться некогда оказанной ему царской милостью – хранением этой тайны. Снарядившись в путь, он выехал в Санкт-Петербург, надеясь испросить совета у бывшего тайного агента Петра, одного из владык церкви, Флорентийского. Другой целью Памвон имел спросить у владыки позволения взять в дом молодую помощницу, поскольку жена его, Мария Курасова, родив трех дочерей, однажды занедужила неизвестной душевной болезнью. Она постоянно видела себя во гробе и поминала далеких предков, особенно же какого-то Маргана…»
Дочитав эти строки, Крыншин услыхал рокот смеха, который будто бы отражался от очень далеких гор; потом повторился, как эхо, несколько раз подряд. При этом показалось, что стены, как и вся обстановка вокруг, отдалились и приблизились, и также несколько раз. Причем очертания всего становилось то яркими, то тусклыми. Крыншин протер глаза. «Нет, я не буду спрашивать себя: в чем тут дело? – подумал он, хотя мысленно и пожал плечами. – Я уверен, что это проделки Дива червячных нор!.. Признаться, – обратился он к нему, – я недооценил тебя, ты оказался очень привязчив! Но, если ты на самом деле Дух, то ответь мне, откуда ты явился на этот раз?» – Спрашивая, Крыншин, постарался уйти подальше от всяких воспоминаний, чтобы не дать Диву возможности подстроиться подо все им пережитое в прошлом. «Не переживай. Я из далеких воспоминаний, из очень далеких, – отвечал Див. И эхо от его слов вернулось не сразу. – Но, в отличие от тебя, я могу не только слышать воспоминания или читать их в виде слов, складывающихся из знаков, не только черпать сведения из строк, складывающихся из слов, но и видеть все и всегда, будто это совершилось только что! Как и сейчас! Ведь я преодолеваю любое пространство, ибо всюду – червячные норы!» – «Но, надеюсь, не всю память стирают в тебе годы и расстояния, когда ты соединяешь бесконечные пространства?!» – «О, нет, ведь это пустяк: совершил виток в мирозданье, и ты опять там, где был! За один раз – какой-нибудь десяток миллиардов лет и расстояний. А если умеешь вернуться туда, откуда начал исход, теряешь немного!» – «Значит, тебе не составит труда копнуть и в душе человеческой?» – «Для меня каждая как на ладони». – «Тогда ответь, владыка немыслимых нор во все сущее: путешествие диакона Памвона в столицу, чтобы повидаться с одним из глав церкви, бывшим доверенным самого императора владыкой Флорентийским, – событие, стоящее, чтобы о нем не забыть?» – «Считаю, что да, с учетом того, что творилось в душе Памвона после четверти века забвенья. Его прожигало и знание тайны о кладе царя, все еще никем не востребованном. Не считаю пустячным заметить и то, что он ни разу не запустил руку в то золото, а прибыл в столицу сообщить о кладе владыке». – «Я считаю, вполне по заслугам желал получить и некоторое покровительство, чтобы занять более достойный его честолюбивой души церковный чин». – «Не знаю, не знаю! Это для меня уже мелко, копаться в его личных заботах!.. Но для тебя, так и быть, сделаю исключение. Ты увидишь все!» – «Тогда я и впрямь отдохну. А ты поработай. Да только, если что, не забудь, – говорил уже в полудреме Крыншин, – что и я теперь в своем прошлом какой-никакой, а дворянин! Может, что-нибудь вспомнишь и обо мне!» Див промолчал. Зря он ничего не обещал. «Ты что, сломался?» – успел спросить сквозь навалившуюся дрему аналитик. «Этого со мной случиться не может». – «Хорошо, тогда я ухожу в «Аватар»!..» – «Ладно, отдохни и послушай…»
VIII
«…Прибыв в город, наш достойный Памвон обошел несколько церквей. И, не сыскав ни в одной из них братского участия к тому, кто оставил свой пост ради честолюбивых замыслов, а только внушил у духовных братьев подозрение к себе, все же, получил сведения относительно одного священника, к которому посылали заблудших братьев лишь в крайней нужде. Но совесть Памвона была чиста: он пытался получить новую службу, долго не мог ее получить и, не чувствуя более сил служить на обочине, когда церковь приблизилась к государству, решил молить покровителя пристроить полного рвения пастыря овец божьих и домочадцев его в городе Санкт-Петербурге. На другой день Флорентийский также оказался в отъезде, и поздним вечером, обойдя церкви и помолившись, Памвон вновь шел в поисках другого адреса для ночлега, когда на углу Канатной и Мытной, у реки Мойки, он стал свидетелем внезапно разразившейся смертельной битвы титанов.