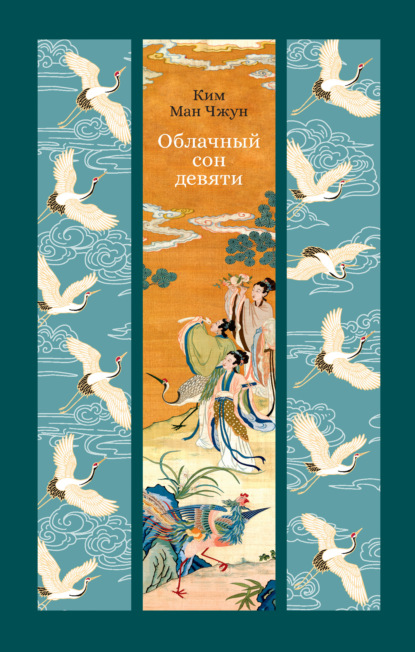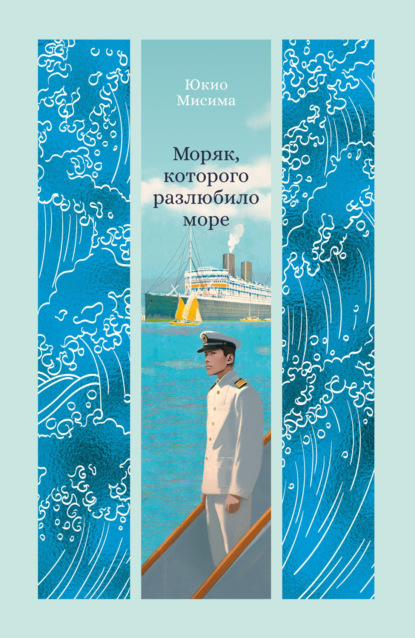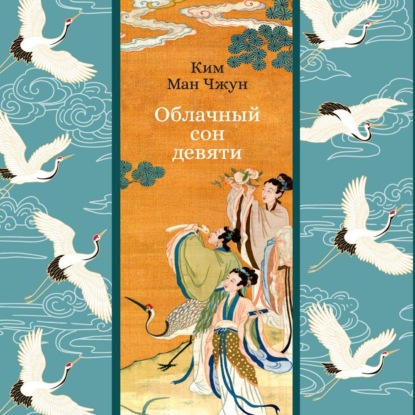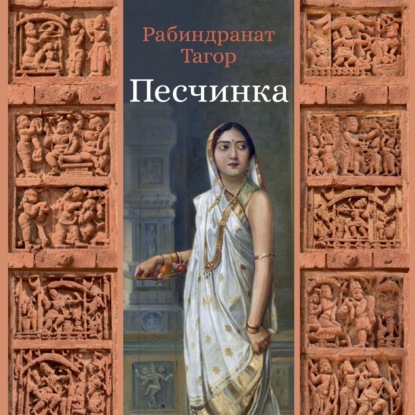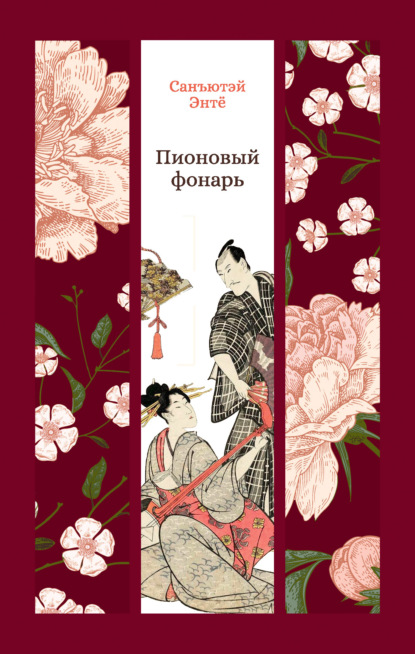Сказки весеннего дождя. Повесть Западных гор
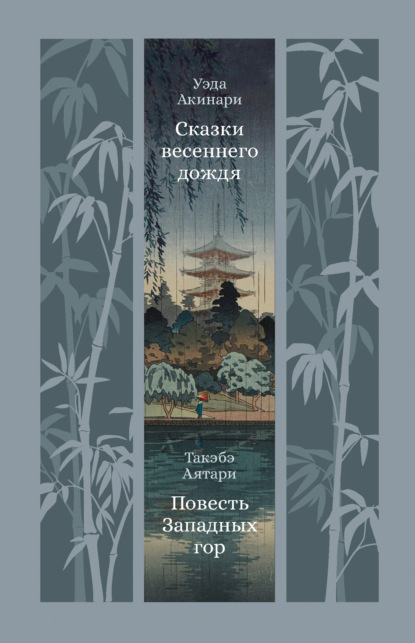
- -
- 100%
- +
В правление императора Дзюнна наследником престола был назначен принц Масара, и когда в скором времени император отрекся, ситуация сложилась беспримерная: два отрекшихся от престола императора. Люди говорили: «Такого не бывало и в Китае». Принц Масара стал править под именем императора Ниммё, название эры его правления Дзёва[51].
Буддийское учение в это время было в зените славы – до такой степени, что даже удивительно. Наравне с буддизмом почиталось и конфуцианство, но это напоминало двуколку, у которой одно колесо повреждено и крутится медленнее. Законы принимались такие, будто правители испытывали ревнивые чувства к процветанию Китая, да и люди душой тянулись к роскоши.
Ёсиминэ но Мунэсада[52] был чиновником шестого ранга, но его таланты обратили на себя внимание императора, и государь постоянно держал его возле себя. Иногда говорил: «Почитай книгу!» – или: «Сложи стихотворение!» – и поскольку они друг друга хорошо понимали, бывало, что и про дела государственные заходила речь. Но Мунэсада был умен, про политику свое мнение не высказывал, а переводил разговор на развлечения, на занимательные случаи из прошлого, на то, что могло быть государю приятно.
Мунэсада был любвеобильным мужчиной, и ему очень нравились яркие праздники. Однажды он предложил государю увеличить число танцовщиц на ежегодном празднике урожая[53]. Он объяснил это так: «Когда будущий император Тэмму скрылся от мира и пребывал в Ёсино, в качестве предзнаменования того, что он будет править страной, с неба сошли пять небесных дев и танцевали для него. Вот хороший пример того, что исстари на празднике бывало пять танцовщиц, а не четыре».
Император Ниммё любил женщин, как и Мунэсада, он немедленно издал указ, чтобы церемонию праздника сделали особенно пышной. Министры и советники со всем тщанием наряжали своих дочерей, готовясь к тому, что на кого-то из них может пасть глаз императора. Но император лишь мельком на них взглянул – ничего не поделаешь… Как девам – жрицам в великих храмах Исэ и Камо, им с тех пор и до старости суждено было безвыходно провести жизнь при дворе.
Поэзия нашей страны в правление Ниммё снова стала расцветать, и, помимо Мунэсады, были такие прекрасные поэты, как Фунъя но Ясухидэ, Отомо но Куронуси, монах Кисэн[54]. И среди женщин тоже попадались такие, как Исэ и Комати[55], они слагали стихи, коих не бывало в древности, и оставили в веках свои имена.
По случаю сорокалетия императора монах из храма Кофукудзи сложил «долгую песню»[56], и когда государь в нее заглянул, то заметил: «Только монахи продолжают слагать длинные стихи!» По правде говоря, стихи были не очень, но тогда, наверное, казались свежими из-за редкой формы. Хитомаро, Акахито, Окура, Канамура, Иэмоти[57] – их «долгие песни» к тому времени, кажется, уже никто не помнил.
В другой раз император сказал Кукаю: «Со времен императора Кинмэй и императрицы Суйко к нам по очереди приходили разные буддийские сутры, но мы до сих пор не имеем полного собрания буддийских книг. А как с книгами вашей секты Сингон?»
Кукай ответил: «Сутры – это как медицинские книги „Су вэнь“ и „Нэй цзин“[58], которые врачи изучают, чтобы все знать о движении пневмы и шести каналах. А наши молитвенные заклинания похожи на лечение корня болезни при помощи выбора действенных снадобий, таких как астрагал, женьшень или ревень, в соответствии с причиной болезни и ее признаками. Сутры и молитвенные обряды – это два колеса одной повозки, и только если вращаются оба, на нашем пути будет продвижение».
Император кивнул и пожаловал ему щедрый подарок.
Желая уличить похождения любвеобильного Мунэсады, император переоделся в женское платье и проскользнул за тростниковый занавес в торцевом помещении женских покоев дворца. Мунэсада не ожидал подвоха и дотронулся до рукава одежд императора, но тот не откликнулся. Тогда Мунэсада прочел стихи:
Словно цветы ямабуки,Желтый наряд этот чей?Но ответа не слышно —Рта, что ли, нет у него?Верно, это цветок кутинаси![59]Государь снял женское облачение и посмотрел на Мунэсаду. Тот сконфузился и хотел скрыться, но государь его остановил: «Вернись!» Уж очень все это позабавило императора. В Древнем Китае ведь уже было, что слуга откусил от персика и протянул его своему господину: «Отведайте, вкусно!»[60] Господин счел это знаком верности – так и в случае с Мунэсадой. А стихотворение, говорят, впервые указало на то, что желтый цвет наряда «ямабуки» дает гардения кутинаси.
Супруга императора Дзюнна, ныне вдовствующая императрица, была дочерью придворного Татибаны но Киётомо[61]. Однажды монах из храма Эндайдзи, родового храма Татибаны, возвестил: «Мне во сне явился почивший государь и повелел: надо поклоняться богам рода Татибана в императорском храме!» Правящий император Ниммё намеревался это исполнить, однако вдовствующая императрица возразила: «Род Татибана не принадлежит к императорскому. Будет непочтительно проводить государственные церемонии пред их божницами». Дозволение не было дано. Храм рода Татибана[62] перенесли на берег реки Ходзугава, где сейчас святилище Умэномия.
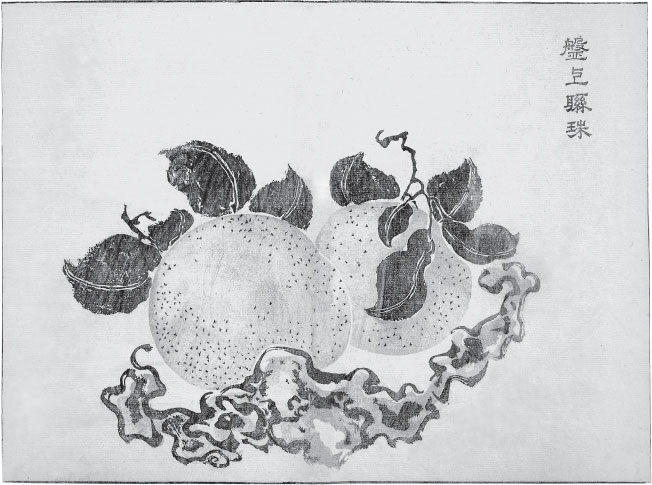
Вот такой, почти мужской характер был у вдовствующей императрицы. Мунэсаду она считала дурным человеком и в душе не любила. Когда скончался бывший император Сага и был объявлен государственный траур, Томо но Коваминэ, Татибана но Хаянари и другие воспользовались случаем и замыслили мятеж[63]. Принц Або[64] прослышал про заговор и сообщил об этом, поэтому дворцовая гвардия немедленно задержала мятежников. Говорят, что и тут вдовствующая императрица не смолчала: «Надо применить к ним самую суровую кару», – она считала, что Татибана но Хаянари опозорил весь их род. Наследного принца Цунэсада[65] объявили главарем этого заговора, и он ушел от мира, взяв монашеское имя Кодзяку. Многие люди сокрушались: «Эх, дурные примеры, когда уходят в монахи и оставляют трон, есть в китайских книгах, вот и научились у них…»
В третьем году эры Касё[66] император Ниммё скончался. Государя похоронили на горе Фукакуса уезда Кии[67], поэтому его стали называть императором Фукакуса. Мунэсада же в ночь погребения императора исчез неизвестно куда. Причина в том, что он опасался гнева вдовствующей императрицы и двора. Хотя смерть вслед за господином была уже запрещена, люди поговаривали, что Мунэсада едва ли остался жить. На самом же деле он сменил костюм придворного на соломенную накидку и шляпу странника, пустившись в скитания.
Однажды ночью, когда Мунэсада затворился для молитв в храме Киёмидзу, дама Комати тоже в соседней келье проводила ночь в бдениях[68]. Она услышала, что рядом не простой человек читает сутры. Уж не Мунэсада ли? – так она подумала, сложила стихотворение и отправила ему:
Когда, по дорогам скитаясь,Спишь на камнях,Холодно очень.Рясу своюНе одолжите накинуть?Ставший к этому времени монахом Мунэсада узнал руку Комати, достал свою дорожную тушечницу и на обороте послания начертал:
Отринул я мир,Без подкладкиПростая ряса монаха,Тонка, даже если накинуть, —Возляжем под нею вдвоем!Отправив эти стихи, он спешно удалился.
«Так это был он!» – поняла Комати и, сочтя случай примечательным, показала стихи вдовствующей императрице Годзё[69]. Та всегда говорила, что обласканный ее супругом Мунэсада – живая память о государе, и потому везде искала Мунэсаду. «И почему вы его не удержали?» – сокрушалась она.
Мунэсада, как оказалось, скитался по провинциям, прилегающим к столице, – наконец он объявился и стал бывать при дворе. Тогдашний государь признавал его таланты и повысил в монашеском сане, тогда-то он и стал зваться Хэндзё. Но причина этого не в его религиозных добродетелях, а в его счастливой судьбе.
Содзё Хэндзё имел двух сыновей. Старший, Хиронобу, был умный человек, служил при дворе. Младший сын заявил: «Сыну монаха идти в монахи» – и обрил голову, его монашеское имя Сосэй. Его слава как поэта уступала лишь славе отца. Правда, порой мирское его одолевало, не было у него искренней веры из самой глубины сердца.
Содзё Хэндзё основал храм на горе Кадзан[70], где усердно молился до самой своей кончины. Путь Будды извилист: забыв о том, что когда-то заставило его уйти от мира, Хэндзё в ярком облачении, в рясе из китайской парчи въезжал в своей гремящей колеснице в дворцовые ворота… Некто заметил: «Как ни говори, все хорошее и дурное, что случается, человек сам приносит в мир, это его судьба». Возможно, с этим согласился бы и сам Хэндзё.
Пират
Перевод И. Мельниковой
Сановник Ки но Цураюки завершил пятилетний срок службы губернатором провинции Тоса[71]. В энном году эры Дзёва, в один из дней двенадцатой луны, он готовился отправиться в путь, чтобы по морю вернуться в столицу Киото[72]. Люди, с которыми он сблизился во время службы в Тоса, искренне печалились о расставании. Простые люди тоже плакали как дети, насильно разлученные с отцом и матерью: «С древних времен не бывало здесь другого такого правителя!» До самого отплытия продолжали приходить люди, кто с вином и подарками, а кто и для того, чтобы обменяться прощальными стихотворениями.
Корабль отошел от берега, но ветры дули не попутные, продвижение было на редкость медленным. Тут вдруг прошел слух о пиратах, которые будто бы преследуют корабль, чтобы отомстить бывшему губернатору. У всех было неспокойно на душе. «Только бы благополучно добраться до столицы!» – с утра до ночи они молили об этом морских богов и бросали в море жертвенные листочки бумаги нуса. Каждый человек на корабле склонил голову перед обитавшими на дне божествами. «Позвольте нам хотя бы добраться до Идзуми!» – молил богов капитан[73]. Пассажиры и не думали любоваться знаменитыми видами – они даже не знали, как называются края, мимо которых проплывали, так как сейчас все дружно взывали: «В Идзуми!»
Но губернатор и его супруга говорили только о своей потере, об их ребенке, умершем в Тоса. Хотя мысли их, может быть, и стремились в столицу, но душа болела от горя, которое невозможно забыть.
Наконец капитан корабля объявил: «Мы в Идзуми». Пассажиры почувствовали такое облегчение, словно заново родились. Радости не было конца. И как раз в этот момент показалась приближающаяся к кораблю лодка, скорее всего рыбацкая, она была похожа на листок, плывущий по воде. Отбросив тростниковую занавеску, на борту появился мужчина – он грубо закричал во весь голос:
– Я гнался за вами, потому что хочу поговорить с губернатором края Тоса!
– О чем?
– Я преследовал вас с той минуты, как вы отплыли из Тосы, но из-за бурных волн никак не мог догнать, а теперь вот мы наконец встретились.
Люди всполошились:
– Пираты! Они нас настигли!

Цураюки сам вышел на палубу:
– В чем дело? О чем этот мужчина хочет со мной говорить?
– Так, безделица… Но здесь, на воде, ветер относит слова – вы позволите подняться к вам на борт?
Он буквально взлетел на корабль, словно у него выросли крылья. Это был мужчина – в ветхом платье, с широким мечом у пояса и колючим взглядом. Цураюки обратился к нему приветливо:
– Что заставило вас, преодолевая громады волн, явиться сюда?
Мужчина отцепил от пояса меч, бросил его к себе в лодку и заговорил:
– Я пират, но если вы полагаете, что я намерен мстить вам, не беспокойтесь. Я просто хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы. В течение пяти лет, что вы были в Тосе, я все время хотел навестить вас. Однако, прослышав, что на Кюсю и в приморских провинциях другие губернаторы не очень прилежно относятся к своим обязанностям, я плавал и промышлял в тех водах, а к вам пришел только сегодня. У пирата простая душа, скажу прямо: не в том только дело, что вы умело управляли краем, но и в том, что Тоса – это бедная горная провинция и мне нечего было там взять, вот и держался от нее в стороне. Можно было бы навестить вашу усадьбу в столице, но подобные визиты сопряжены с церемониями, а ведь меня там многие знают. Мир тесен, и мне нельзя быть на виду.
Итак, вот что я хотел спросить. Когда в пятом году эры Энги по указу императора отбирались лучшие японские стихотворения, вы руководили этой работой[74]. В названии сборника стихов вы сделали помету: «Продолжение Манъёсю»[75], то есть считали свой сборник продолжением того старого собрания, неизвестно кем составленного. Пусть так. Но поговорим о том, что значит слово «Манъёсю». «Ман» – это значит «очень много», с этим я согласен. Но следующий иероглиф «Ё» – значит «лист». Лю Си в конце эпохи Хань написал в своем словаре «Объяснение имен»[76], что иероглиф «Ка» (песня) образовался от другого иероглифа «Ка», который значит «ветка». Он объяснил это так: «Человек обладает голосом, подобно тому как деревья и травы обладают ветками и листьями». Верно ли это? Голос человека выражает радость, гнев, горе, счастье, и в зависимости от этого слушающий тоже радуется или печалится. В голосе человека не бывает раз навсегда заданного ритма и интонации. А когда шумят ветви и листья растений на ветру во время бури – кто это будет слушать и наслаждаться? Стало быть, сравнение стихов с ветками и листьями не годится. В старину люди едва ли понимали иероглифы так, как написано в словаре «Объяснение имен». Не потому, что люди были глупы, просто в те времена ошибочные толкования были нередки.
В ту же эпоху Хань был словарь «Объяснение письмен» Сюй Шэня[77], в нем говорится: «Песня (歌) – это поэзия (詠)». Это из Книги Шуня: «Песни – это вечные слова»[78], и тут все правильно. Но надо помнить, что конфуцианцы даже иероглифы понимают каждый по-разному, есть множество толкований. В предисловии к «Кокинвакасю» вы написали: «Песни Ямато прорастают из людских сердец, а потом обращаются во множество листьев-слов», – кажется, что все складно, но здесь есть очевидная ошибка. Китайские иероглифы 言, 語, 詞, 辞 все читаются по-японски как «кото» (слово), и не иначе. Нет таких примеров, чтобы они читались как «кото но ха» или «котоба» (листья слов). Пусть даже вы опираетесь на китайский словарь «Объяснение имен», когда толкуете название «Манъёсю», непростительно искажать исконное значение слов в японских стихах и книгах! Придворные и сановники, которые с вами составляли сборник «Кокинвакасю», наверное, не были с вами согласны, но считали, что ответственность целиком лежит на вас.
Также в предисловии к сборнику «Кокинвакасю» вы пишете, что «существует шесть видов песен»[79]. Но это утверждение даже для китайской поэзии произвольно и ложно. Еще простительно было бы говорить о трех жанрах и трех стилях. Хотя на самом деле невозможно установить, сколько есть разновидностей стихов. Если разделять на виды по выражаемым в стихах чувствам: радость, гнев, горе, счастье, – то сколько же существует чувств? Бессмысленно считать. Хаманари в своей работе «Поэтические формы» говорит о десяти типах стиха[80], но это столь же неглубокое суждение, как ваше. Возможно, вы слагаете хорошие стихи, но ваше незнание смысла древних слов наносит оскорбление самому императору.
Или вот еще: после того как по примеру Китая в нашей стране ввели законы и создали кодекс Тайхорё, установилось мнение, что без правильного сватовства отношения мужчин и женщин подобны беспорядочному совокуплению кошек или собак[81]. Несомненно, законы приняли, чтобы не было хаоса. Но вы назвали хорошими и выбрали для своего сборника стихи, противоречащие моральным законам! Даже слушать неприятно строки про то, как некто, воспылав к чужой жене, тайно с ней встречается, а будучи обнаружен, ретируется и льет «реки слез»[82]. Отобрать такие стихи – это вопреки всем установлениям! И в этом повинны вы! Раздел «Песни любви» включает целых пять свитков, и там откровенно говорится о беспутстве[83].

И вот еще по поводу беспутной любви: хотя давным-давно, в эпоху богов, бывали связи между братьями и сестрами, сердца их были искренни, и греха в том не было. Однако в эпоху людей конфуцианство вошло в зенит влияния, и нам стали говорить про то, что «муж и жена должны жить раздельно»[84] и что «нельзя брать жену с таким же родовым именем, как у мужа». Мы заимствовали чужеземные премудрости, учились у них – вот и стали во дворце возводить отдельно государевы покои Сэйрёдэн и женские покои Корёдэн. На самом-то деле и там, в чужеземной стороне, тоже поначалу нельзя было любиться с теми, кто не из твоего рода. Но страна расцветала, и было полезно завязывать связи с другими родами, расширять границы, иметь больше потомства, поэтому стали говорить, что новые моральные установления обязательны и очень хороши.
Четыре человека, которые составляли сборник «Кокинвакасю», в своей работе допускали оплошности, хотя и были искусными поэтами[85]. Только министр Сугавара но Митидзанэ[86] высказывал свое недовольство, но его вскоре отправили в дальнюю провинцию, так что упрекнуть его не в чем.
Про эру Энги[87] говорят как про «славные годы», но это всего лишь льстивые слова. То было время, когда даже император, словно утратив способность ясно видеть вещи, отдалял от себя лучших и самых верных слуг. Например, Миёси но Киёцура служил государю с безупречной верностью, но все-таки не поднялся выше советника императора и главы Дворцового ведомства. Так что распределение чинов в те годы было недальновидным. Секретный доклад из двенадцати статей[88], который Киёцура подал императору, был тщательно составлен, да и мысли там были такие, что стоило прислушаться, однако ученые книжники упрямо противились, ссылаясь, что в древности не было подобных примеров.
В Статье первой своего доклада Киёцура пишет, что императрица Саймэй, совершая поход на запад, миновала провинцию Киби, и там увидела в одном селе скопление людей, жгущих факелы[89]. Она осведомилась, что за село и кто там живет, и староста ответил: «С недавних пор народу здесь становится все больше, люди прибывают с каждым годом и каждым месяцем, и сейчас их несколько десятков тысяч. Если вам нужны воины, то здесь можете набрать двадцать тысяч человек». – «Раз так, пусть отныне это село зовется Нима – „двадцать тысяч“» – так ответила императрица. Однако к тому времени, когда настала эра Энги, по сведениям губернатора провинции, здесь было уже некого набрать в войска. Это не потому, что провинция захирела, – глупо было бы так думать и забывать, что чередование расцвета и упадка дело обычное. Разве люди всегда и повсюду благоденствуют? Смешно говорить об этом. Народ переселяется туда, где лучше живется, подобно пчелиному рою, летящему в новое гнездо.
Еще в докладе говорится, что наука – это дело министров и придворных, а просвещенные мужи, даже высокоталантливые, вовсе не обязательно получают должности. Это дурной обычай нашей страны. В школе собирают юных аристократов и заставляют их читать китайские книги, не сознавая, что все обучение сводится к толкованию текстов. Иногда, в соответствии с политикой двора, в образовании происходят реформы, и тогда Ведомство науки критикуют, называют приютом убогих и крышей для сирых и голодных. Киёцура не согласен с таким положением.
Наконец, в своем докладе он пишет про гавань Надзуми в Инамино, в провинции Харима[90]. Эту гавань обустроил монах Гёки[91], под предлогом, что «в здешних местах от пристани до пристани расстояния далекие, причалы неудобные». Но потом бури и волны часто разрушали эту гавань, потому что она была построена вопреки природному рельефу, и последующие поколения ею уже не пользовались. Хотя Гёки был движим чувством гуманности, плодов это не принесло, и при дворе решили забыть про гавань Надзуми. Такое человеколюбие, как у Гёки, сродни старушечьей жалости, а к религии это не имеет отношения. Если сановник достаточно зрелый, подобно хорошо просоленной сливе, ему не пристало совершать необдуманные поступки.
Я не пишу стихов ни на китайском, ни на японском языке, но я люблю читать китайские книги и горжусь этим, а людям такое не нравится. Однажды я напился пьян, буянил, и меня объявили преступником, выслали подальше. После того я ушел в море и занялся своим нынешним промыслом. Беру себе чужие сокровища, пью вино и ем мясо – если так буду продолжать, может, до ста лет доживу. Я не то что некоторые стихоплеты, которые кичатся своими виршами и говорят, что это их «путь». Со мной можно говорить о чем угодно, спрашивайте – отвечу! Только вот горло пересохло, вина бы…
Ему подали саке и закуски, он наелся и напился вволю. «Ну, теперь довольно! Прощай, деревянный начальник!»[92] – с этими словами он прыгнул в свою лодку и, отбивая такт ударами в борт, во весь голос затянул: «Янра мэдэта!» – «Мосоро, мосоро!»[93] – подхватили корабельщики на судне Ки но Цураюки. Пиратская лодка мгновенно скрылась из виду, только белые гребни волн катились ей вслед.
После того как Ки но Цураюки уже вернулся в столицу, какой-то человек пришел к нему с письмом, которое подбросил в дом и исчез. Развернули бумагу – а там рассуждения про министра Сугавару Митидзанэ, и хоть почерк ужасный, неряшливый, доводы разумные и верные.
Там было по-китайски написано следующее:
«Счастлив был вельможный Митидзанэ! Лишь он один при жизни получил все, к чему стремился, а после смерти стал богом и воссиял во славе». Когда-то давно я слышал такое: несчастья обрушиваются на благородного мужа оттого, что он не имеет пороков, а у простого человека причина несчастий – его пороки. Митидзанэ обладал добродетелью, не имел пороков, и все же несчастье случилось – его сослали. Но это случилось не без причины, ведь как только возникли трения между ним, государевым министром, и государем, он по своей воле ушел в отставку, вот и не смог уладить все до конца. Кроме того, он оскорбил Фудзивару но Суганэ и вызвал тем ненависть к себе[94]. Он также не способствовал продвижению Миёси но Киёцуры, и люди увидели в этом корыстные мотивы. Доклад, который представил Киёцура и в котором говорилось, что настало время реформ, он не принял во внимание. Не значит ли это, что Митидзанэ сам навлек на себя несчастье?
Киёцура говорил ему: „Следующий год будет годом начала календарного цикла, годом перемены судеб. Во вторую луну звезды Северного Ковша сместятся к востоку, и тогда будет военный мятеж. На кого-то, пока не известно на кого, падут бедствия и кары небесные, лук уже натянут, и стрела целит в наш город – она найдет человека с несчастливой судьбой. Те ученые мужи, которые поднялись выше своего звания и достигли министерской должности, успеха не добились, исключение составляет лишь Киби но Макиби[95]. Низко перед вами склоняясь, прошу: если знаете, как остановиться, то уж наверное сумеете определить предел своего возвышения“.
Если подумать, то ведь министр Киби но Макиби благодаря своей мудрости и твердой воле спас государство, когда зловредный монах Докё дорвался до власти. Это было деяние, сравнимое с тем, что совершили Чэнь Пин и Чжоу Бо[96].
Что до дел недавних, министр Митидзанэ был у государя в милости, но они не поладили с Левым министром, Фудзиварой но Токихирой[97], и в конце концов Митидзанэ вынужден был уйти в отставку. Вот потому я и говорю, что хотя вины на нем не было, беды не избежал. Тем не менее при жизни он достиг успеха, а после смерти был причислен к божествам и воссиял в лучах славы. Добродетель его не знала границ – и посмотрите, она продолжает сиять в веках!»
Слова этого послания были грубы и дерзки, – несомненно, его отправил тот самый пират.
Еще имелась приписка:
«В прошлую нашу встречу я должен был вам еще кое-что сказать, да только за долгим разговором позабыл. Я думаю, что иероглифы вашего имени (貫之) взяты из книги «Луньюй»: „Единая мысль пронизывает все…“[98] Если так, то читается ваше имя „Цурануки“. Ведь иероглиф 之 – служебная частица, смысла не несет. Этот иероглиф мы читаем как юки в некоторых стихотворениях китайской книги Ши цзин, но лишь когда это подходит по смыслу. Вы читаете много японских стихов, но не читаете китайских книг, – к сожалению, это очевидно. Я понимаю, что имя человеку выбирают родители, но ваше невежество в китайской литературе принижает и ваши японские стихи. Оставьте их на некоторое время, зажгите у окна светильник и почитайте китайских авторов!
Кстати, один ученый, чье имя пишется иероглифами 似貫, произносит его как Цурануки[99]. Вам должно быть стыдно за ваше невежество!»
Письмо было грубое, оскорбительное, адресовано «Деревянному главе», то есть начальнику Плотницкого ведомства.
Ки но Цураюки рассказал об этом одному своему ученому другу и спросил его:
– Кто бы это мог быть?
Ответ был:
– Должно быть, это Фунъя но Акицу[100]. Он прославился тем, что прочел много китайских книг, но пил вино, скандалил, и в конце концов его отправили в ссылку. Он стал пиратом, плавает повсюду и бесчинствует. Похоже, что небо хранит этого беспутника, – до сих пор его не поймали и не наказали, он и сейчас, наверное, где-то шатается.