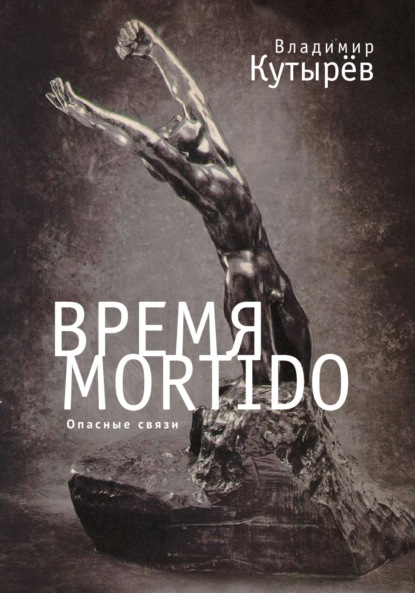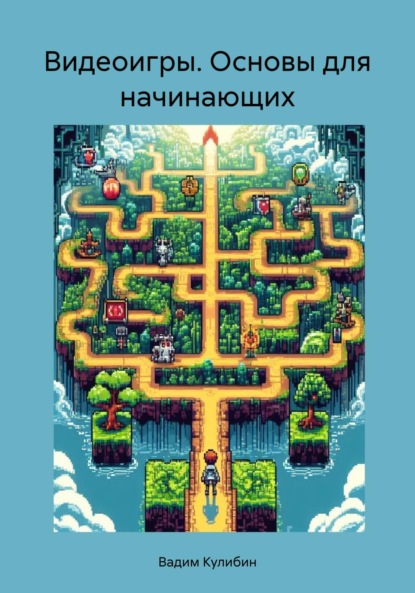Консоламентум. Следы на камнях
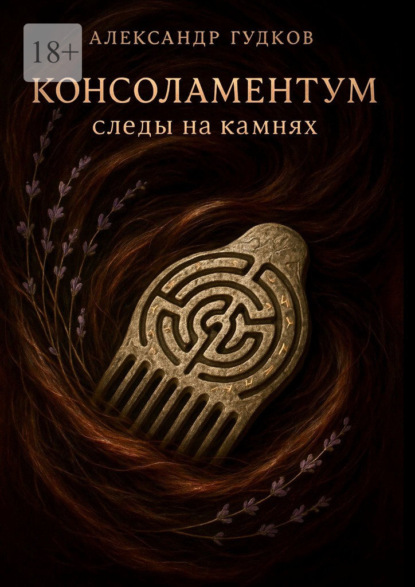
- -
- 100%
- +

© Александр Владимирович Гудков, 2025
ISBN 978-5-0068-1846-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Данная книга является художественным произведением, не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет и не пропагандирует их. Книга содержит изобразительные описания противоправных действий, но такие описания являются художественным, образным и творческим замыслом, не являются призывом к совершению запрещенных действий. Автор осуждает употребление наркотиков, алкоголя и сигарет. Пожалуйста, обратитесь к врачу для получения помощи и борьбы с зависимостью.
От автора:
Говорят, с возрастом лобные доли мозга окончательно формируются. Видимо, этот процесс и породил во мне нестерпимое желание не просто поглощать знания, но и возвращать их миру – в полном соответствии с высоким званием Homo Sapiens Sapiens. Так на свет появился этот роман – сплав личного и заимствованного опыта. Называйте это творческим зудом, потребностью души или простым исполнением природного закона.
P.S. Случайному критику, забредшему на эти страницы, оставляю право на самый суровый приговор.
Основы семиотики:
1. Структура знака. Любой знак состоит из двух неразрывно связанных компонентов:
· Обозначающее – материальная, воспринимаемая форма знака (звук, графика, изображение).
· Обозначаемое – понятие или смысл, который это форма передаёт.
2. Типология знаков (по Чарльзу Пирсу). Выделяют три основных типа знаков:
· Иконические знаки – основаны на сходстве с объектом (портрет, фотография, схема).
· Индексные (индексальные) знаки – связаны с объектом причинно-следственной или смежной связью (дым как индекс огня, симптом как индекс болезни).
· Символические знаки – связь между знаком и объектом условна и устанавливается общественным соглашением (слова естественного языка, математические символы, гербы).
3. Процесс семиозиса – это цепь интерпретации знака, включающая три компонента:
· Знак (репрезентамен).
· Объект – денотат, на который указывает знак.
· Интерпретанта – смысл, возникающий в сознании интерпретатора в результате восприятия знака.
4. Коды – это системы конвенциональных правил, регулирующие использование и сочетание знаков, а также обеспечивающие их узнаваемость и интерпретацию (например, языковые, культурные, визуальные коды).
Пролог
«Магия – это нечто, что мы не можем объяснить, но чувствуем, что оно существует.»
– Карл Юнг
Германия, Мюнхен, вторник 1 апреля 1919 года
В подвале старого дома на Тирштрассе собралась респектабельная публика. Укрытое от посторонних глаз помещение было наполнено атмосферой тайны и тревожного ожидания. Стены комнаты украшали древнегерманские руны, а в центре стоял алтарь, затянутый черной тканью с вышитой серебряной свастикой. На нем лежали свечи, кинжал с рунической гравировкой и старый кожаный фолиант – «Armanen-Orden», сборник оккультных текстов Гвидо фон Листа. Все было подготовлено в строгом соответствии с уставом Тевтонского ордена Вальватер Святого Грааля.
Среди присутствующих находились известные члены общества «Туле»: Дитрих Эккарт, поэт и журналист, его духовный наставник; Рудольф фон Зеботтендорф, основатель ложи; и молодой идеолог Альфред Розенберг, чьи глаза пылали фанатичным огнем. Они собрались для ритуала, который, по их убеждению, должен был открыть доступ к древним арийским силам и укрепить связь с «истинными хозяевами мира».
Один из присутствующих, допущенный на собрание, казался здесь случайным гостем. Прислонившись к колонне у входа, он с видом отстраненной скуки разглядывал собравшихся, отмечая про себя аристократических особ. Прямо у алтаря, вытянувшись в струнку, стоял барон Фридрих Вильгельм фон Зейдлиц – отпрыск древнего силезского рода, ведущего историю с XII века. Рядом с ним – не менее важный барон Франц Карл фон Тойхерт. Оба с подобострастием внимали принцу Густаву Францу, на руку которого опиралась графиня Хайла фон Вестарп, исполнявшая обязанности секретаря общества.
Человек у входа был уже немолод: виски тронула седина, а морщины у глаз и губ говорили о большом жизненном опыте. Его выцветшие голубые глаза смотрели на окружающих остро и колко. Было ясно, что подобные собрания вызывают у него лишь раздражение. Он пытался не думать о том, что придется потратить на это зрелище целый час своего драгоценного времени. Его вызвал сам магистр общества, а тот отрывал его от оперативной работы лишь в исключительных случаях. Значит, предстояло нечто важное. Оставалось лишь ждать, пока эта аристократическая компания наиграется в свои ритуалы.
Церемония началась с зажжения свечей, расставленных в форме руны «Зиг» (Победа). Дитрих Эккарт, облаченный в черную мантию с серебряными символами, воздел руки и низким, торжественным голосом начал читать заклинание на древнегерманском:
– Durch die Macht der alten Götter, durch die Weisheit unserer Ahnen, öffnet sich das Tor zur Wahrheit… («Силою древних богов, мудростью наших предков, врата к истине открываются…»)
Его голос, наполняя комнату вибрациями,, словно оживлял тени на стенах. Члены общества, взявшись за руки, образовали круг вокруг алтаря, повторяя слова заклинания. Рудольф фон Зеботтендорф с кинжалом в руке подошел к алтарю и провел лезвием над пламенем свечи:
– Blut und Eisen, Geist und Macht, vereint euch im Namen der ewigen Ordnung! («Кровь и железо, дух и сила, объединяйтесь во имя вечного порядка!»)
Альфред Розенберг тем временем зачитывал отрывок из книги фон Листа:
– Die Runen sind die Schlüssel zur Macht der Ahnen. Wer sie beherrscht, beherrscht die Welt. («Руны – ключи к силе предков. Тот, кто овладеет ими, овладеет миром.»)
Атмосфера в подвале сгустилась; казалось, сама тьма обрела плоть. Тени зашевелились, принимая очертания древних воинов и мифических существ. Собравшиеся чувствовали, как сознание расширяется, будто они стоят на пороге иного мира.
Эккарт вновь воздел руки, нараспев провозглашая:
– Im Namen des ewigen Thule, im Namen der wahren Herren der Welt, öffnet sich das Tor! («Во имя вечного Туле, во имя истинных хозяев мира, врата открываются!»)
В тот же миг свечи погасли, и комната погрузилась в абсолютную тьму. Когда свет вернулся, все ощутили незримую перемену. Они верили, что ритуал удался и отныне находятся под защитой древних сил.
– Die Runen sind nicht nur Zeichen, sie sind die Sprache der Götter. Wer sie versteht, der versteht die Welt, – снова произнес Розенберг. («Руны – не просто символы, это язык богов. Тот, кто понимает их, понимает мир.»)
Фон Зеботтендорф с кинжалом в руке повторил:
– Blut ist der Schlüssel. Blut öffnet die Tore zur Macht. («Кровь – это ключ. Кровь открывает врата к силе.»)
Он сделал легкий надрез на ладони и капнул кровью в чашу с вином, которую затем передал Эккарту. Тот провозгласил:
– Im Namen Thules, im Namen der wahren Herren der Welt. («Во имя Туле, во имя истинных хозяев мира.»)
Это было жертвоприношение, необходимое, чтобы пробудить силы, описанные в древних текстах. Кровь служила связующим звеном между миром людей и миром богов.
Человек у колонны, хотя и не разделял мистических настроений собравшихся, чувствовал некое родство с этими – пусть и заблуждающимися, но искренними – людьми. Аристократия тяготилась утратой былого влияния, лишением родовых владений, ускользающей точкой опоры. Он понимал, что его политические взгляды тесно переплетены с влиянием этих людей. Последователи «Туле» были одержимы расовой теорией и борьбой с евреями и коммунистами. Издаваемая под эгидой общества газета «Münchener Beobachter» служила рупором их идей.
Члены общества по очереди пили из чаши, повторяя слова клятвы. Ритуал, полный мистических экзерсисов, подошел к концу. Участники стали расходиться, молчаливые и пребывающие в благостном осознании величия своих арийских корней. Почти никто не заметил тень за колонной – человек не желал быть узнанным.
Когда последний из присутствующих покинул помещение, фон Зеботтендорф и Эккарт остались одни.
– Генрих, закройте дверь и подойдите к нам, – распорядился магистр.
Человек вышел из тени, задвинул засов и приблизился к ожидавшим его мужчинам.
– Добрый вечер, господа! – тихо произнес он, салютуя поднятой правой рукой.
– Добрый! – благосклонно кивнул Рудольф, довольный этим жестом.
– Наше общество растет, но враги не дремлют. Коммунисты в Баварии набирают силу. Их лидеры – Левине, Левин, Аксельрод – угроза, которую необходимо устранить. Мы должны совершить подвиг! Изгнать «красную чуму»! – начал Дитрих.
– Фрайкоры готовы к перевороту. Несколькими бригадами выйдем на Мариенплатц – они и опомниться не успеют! – поддержал его магистр.
– Господа, вы знаете, мои таланты лежат в иной плоскости, нежели военные действия. Я предпочитаю камерные операции, – осторожно начал Генрих.
– Главное – эффект! – гремел магистр. – Слышите, Генрих? Эффект! Чтобы неполноценные боялись даже помыслить о борьбе с нами! Но я вызвал вас не для этого. Корни красной заразы тянутся далеко за пределы Германии. Наши агенты сообщают о росте коммунистических настроений во Франции, Испании, даже Швеции! Особенно во Франции, этой клоаке разврата и вольнодумства. Художники, поэты, актеры – все они отравляют умы обывателей.
– У вас есть конкретная цель, магистр? – проявил интерес Генрих.
– Вам предстоит создать ячейку в Париже. Легенда – профессор, имя и дисциплину придумаете сами. Ваши задачи:
Во-первых, некий художник Деверо. Его последняя картина, изображающая остров Туле, должна быть уничтожена. Проследите, чтобы не осталось и следа от его работ.
Во-вторых, артефакт, находящийся в лавке антиквара-иудея Исаака Леви. Эта вещь обладает силой, способной склонить политический баланс в нашу пользу. Доставьте ее в Мюнхен.
В-третьих, кабаре «Черный кот». В его подвале хранятся документы, компрометирующие наше общество. Устройте там пожар. Все должно выглядеть как несчастный случай, но ни один листок не должен уцелеть. Любых свидетелей – устранять.
В-четвертых, поэт Моро. Слишком много он знает и слишком громко говорит. Его смерть должна стать публичным предупреждением для всех. Пусть его окружение поймет: разглашение наших тайн карается смертью.
И чтобы обеспечить успех нашему движению… вот «мюнхенский список». Левине, Левин, Аксельрод. Начните с них. Пусть все увидят, что ждет тех, кто встает у нас на пути.
Дитрих Эккарт торжественно поднял руку:
– За Туле! За новую Германию!
Часть первая – Знак
Глава 1. Журналист из Парижа (вместо посвящения)
«Любовь – это нечто большее, чем просто чувство. Это тайна, которая требует разгадки, и каждый раз, когда ты думаешь, что понял её, она ускользает, как тень на закате».
– Умберто Эко, «Имя розы»
Франция, окрестности Люберона, май 1922 года
Величаво разливался закат над холмистой долиной, поливая медью колышущиеся луга. Мерные вздохи ветра превращали этот живой ковер в волнующееся драгоценное озеро.
Рассекая волны диких цветов и трав, приобретших единоцветие, плыла тонкая женская фигурка.
Девушка была удивительно хороша собой: стройная, невысокая, с волосами, повторяющими цвет окружающего пейзажа. Белая кожа, окрашенная закатом, отливала жжёной охрой. Казалось, сама богиня Иштар спустилась на Землю провести смотр своим владениям! Такое совпадение времени, света, природных явлений и человека, вполне могло бы сойти за фантазию художника-импрессиониста.
Смеющиеся золотисто-карие глаза изумительно гармонировали с этой природной оптической престидижитацией. Четко очерченная, небольшая грудь, скорее девичья, нежели женская, дополняла образ ожившей статуи, предназначенной для свершения древних культов. Богиня любви и плодородия.
Едва касаясь руками гребней мерно колышущихся растений, она смотрела на заходящее солнце, не щурясь, как будто была с ним одним целым. Вдыхая вечерний аромат долины – пряный, медовый, – грудь девушки вздымалась в такт бегущим волнам.
Вдалеке, едва различимо, синей лентой раскинулась роща. Девушка уверенно направилась в её сторону. Ещё полчаса – и она увидит крышу знакомого коттеджа, спрятанного под сенью свежей весенней листвы.
Дом. Уже без малого два года, подчиняясь прихотливой механике небесных сфер, они находили друг друга в этих стенах – то на миг, то на целые луны, – словно их свидания были вписаны в вечный гороскоп мироздания таинственной рукой астролога-демиурга, чьи расчеты включали не только движение планет, но и метафизический трепет человеческих желаний, зашифрованный в хитросплетениях звездной пыли.
Багряный прямоугольник света угасающего вечернего неба лёг на деревянный пол одиноко стоящего дома, выпорхнув из-за отворённой двери. Лёгкая тень проскользнула в чрево коттеджа.
Сильные руки подхватили девушку как пушинку, заставив её тело слегка вздрогнуть. Знакомый запах древесины с примесью табака защекотал тонкие ноздри – Алессер. Сердце забилось учащённо. Мрак помещения скрыл от молодого человека румянец, внезапно окрасивший белую кожу красавицы.
В углу медленно разгорался камин. Слегка сырой воздух дома, смешиваясь с запахом горящей осины, дурманил, пьянил. Стол был практически пуст, что позволяло хрусталю фужеров играть своими гранями симфонию света – отблесков огня камина, усиленную цветом рубинового вина. Деревенская еда не многообразна, но то, что нужно для утоления голода после долгой прогулки, было: сыр, хлеб, холодный цыплёнок, пожаренный ещё в обед, какая-то зелень…
Он ждал. Наверное, приехал ещё накануне. Пыли не было, кровать слегка помята, но не разобрана – спал не раздеваясь, поверх покрывала. По комнате витал лёгкий шлейф табака – курил ночью у камина. При ней он себе этого позволить не мог. Значит, накануне.
Между ними царило молчание, но не то косное, тягостное, какое бывает между чужими людьми, а насыщенное, как старый мускат в их бокалах, – молчание, в котором растворялись невысказанные мысли, подобно тому как дубовая терпкость тает в долгом декантировании.
Его взгляд, прямой и неотрывный, словно взор инквизитора, изучающего еретика перед аутодафе, не столько наблюдал, сколько «извлекал» – вытягивал из неё признания, которых она никогда не произносила. Возможно, в этом и заключался главный его гедонизм: не в пище, не в вине, а в этом почти тактильном проникновении сквозь зрачки прямо в лабиринты памяти, где ещё хранились обрывки её прежней стыдливости.
Когда-то, в те первые недели, когда каждый жест между ними ещё был обставлен церемониальными оговорками, – такой взгляд заставлял её пальцы судорожно сжимать салфетку, будто это был единственный якорь в внезапно разверзнувшемся океане смущения. Но постепенно, как средневековый пилигрим, привыкающий к тяготам пути, она научилась не просто выносить это пронзительное созерцание, но и обнаружила в нём странную прелесть. В нём угадывалось противоречие, достойное схоластического диспута: жадность адепта, требующего откровения, и в то же время – потерянность ребёнка, который, зачарованно глядя на фреску, забывает, где кончается изображение и начинается реальность.
– Ешь, давай, – усмехнулась она, жестом приглашая разделить с ней трапезу, – я всё одна не осилю!
– Я написал ещё одну главу, – осторожно начал Алессер, – интересно?
На столе догорали свечи, а между тарелками лежала рукопись. Всегда рукопись.
Он поднял взгляд. Эти глаза – серые, почти голубые, – всегда смотрели сквозь. Как будто её тело было зеркалом, за которым начинался мир Льюиса Кэрролла.
– Я дописал главу о Бернаре, – он провёл пальцем по краю бокала, – он всегда верил, что мир можно рассчитать. Но забыл, что любовь – это не формула. Это погрешность.
Она подошла, наступив на страницу. Чернила отпечатались на её ступне татуировкой.
– Ты не ошибся, Жан недолюбливает погрешности. Выбрасывает данные, которые не вписывались в его теорию заговоров.
– Потому его теория так и останется незавершённой, как уравнение с потерянной переменной, – уголки его губ дрогнули, намекая на первую за вечер улыбку. – Он так и не узнает, что истина строится на погрешностях.
– Ты сам ему расскажешь, когда вернёмся в Марсель? Я, пожалуй, тогда оставлю вас двоих – слушать споры ночь напролёт… это без меня.
– Ну, читать ему придётся немало, у меня текста уже на новый том Элифаса хватит!
– Тогда оставим чтения на потом, – ответила Кира, вставая со стула, – каждый раз это лишает равновесия.
Девушка ловко обогнула стул, слегка задев подолом платья лежавшие на отодвинутой табуретке босые ступни его ног, ловко вскочила к нему на колени, заставив мышцы мужчины напрячься.
– Кошка…
Она потянулась, держась руками за его напрягшуюся шею, и издала звук, и правда напоминающий кошачье урчание.
Их дыхание сплелось медленной семантикой желания. Алхимия жидкостей упругих тел превращалась в физиологический практикум. Их руки вели топографический диалог – объёмную картографию страсти…
Было слышно лишь мерное покачивание маятника старых часов в углу да треск поленьев в камине.
Звёзды за городом светили ярко, образуя знакомые со школьной скамьи созвездия. Сидя на поленнице, плечом к плечу, закутавшись в плед, они слушали пение цикад, сулящих жаркий день. Горизонт уже прочертил чёрное пространство между небом и землёй бледной полосой, предвещавшей восход.
– Пойдём в дом? – предложил он.
– Ты хочешь спать? – удивилась она.
– Я хочу проснуться с тобой…
Девушка встряхнула головой, сгоняя дремоту. Волосы волной упали на плечи. Она потянулась и взяла его протянутую руку. Он снова пристально смотрел на неё…
– Давай проснёмся позже…
***
Застывший в кресле напротив кровати, как алхимик перед тиглем, рождающим золото, он наблюдал. Тлеющие угли камина – единственный источник света в комнате, погружённой в ночную тишину, – играли в её волосах, превращая их в расплавленный янтарь, в переливы тёмного шёлка, вытканного из самого света. Каждый завиток, каждая прядь становились частью тайного шифра, который он безуспешно пытался разгадать с самой первой встречи, – шифра, где под слоями обыденности скрывалась истина, доступная лишь посвящённым.
Она спала – не просто сомкнув веки в усталом забытьи, а погрузившись в бездну сна, в ту глубину, где время теряет линейность, а тени воспоминаний сплетаются с пророчествами будущего. Тело её, освобождённое от тирании сознания, стало лёгким, как опавший лист, уносимый тёплым ветром над усыпанными лавандой холмами Прованса.
Сон Киры был погружением в Лабиринт Леви. Её дыхание вышивало рунические паттерны «Ансуз» и «Перт» в воздухе, мерцавшие, как грани «Ключа» в бликах нервных всполохов. Полуоткрытые губы шептали знаки: сплетённые «Райдо» и «Лагуз», солнечный меридиан Дарема. Казалось, «Астральный Лабиринт» проецировал свою карту на её кожу.
Внезапно её тело напряглось. Из глубин сна вырвался шёпот: «Камень… Голубь… Муно Эгу…» Алессер почувствовал ледяной ветер Монсегюра. «Через шесть, семь, восемь лет…» – День Голубя был близок. Он, чистя линзы купленного в Тулузе теодолита, наблюдал, как семиотик перед шифром: вздох, дрожь века, тени на шее становились значимыми в тексте сна. Предупреждение? Указание на «узел»? Его пальцы потянулись за листом бумаги – зафиксировать знаки. Её сон был индексом силы книги, иконой Лабиринта, символом пророчества.
В тихом потрескивании углей ему слышался ропот толпы, скандировавшей непонятные ему лозунги. Тень «Хагалаз» легла на её лоб. Они знали. Они шли. Покой Бонньё был зеркалом надвигающейся бури. Их отношения – ключевая переменная в формуле управления сущим. Единственный верный код старинного шифра, который не взломать. Её сон – текст на языке земли и страха. Он – интерпретант. Истина Лабиринта – в их связи. Она дрожала перед ним, беззащитная и бесконечно важная.
***
Бескрайнее небо царило над холмами, одетыми в переливчатый наряд. Серебристо-зелёные волны молодой лаванды прошиты первыми, ещё разреженными островками цветения. Их аромат, пока лёгкий и терпковатый, смешивался с пыльным дыханием нагретой земли, запахом диких трав и горьковатой свежестью сосен на склонах. Каждый стебель тянулся к солнцу, неся на себе короткие колоски бутонов, лишь местами приоткрывающие сиреневые искорки. Каждая капля утренней росы на узких листьях – словно обещание грядущего изобилия. Природа здесь не спешила, бережно собирая силы для июньского чуда, и в этой неторопливой подготовке под бездонным небом таилась своя, трепетная красота начала.
Островком уюта и покоя среди этого яркого безумия был дом. Его стены, выбеленные солнцем, хранили тепло прожитых лет, а крыша, покрытая черепицей, слегка поросшей мхом, будто шептала истории о тех, кто когда-то здесь жил. Он был окружён ивами; их серебристые листья переливались на солнце, создавая причудливую игру света и тени. Ветви деревьев, казалось, обнимали дом, защищая его от суеты внешнего мира.
В этом месте время словно останавливалось. Часы тикали тише, а минуты растягивались, как карамель на солнце. Здесь реальность и мечта переплетались, создавая новую, почти волшебную действительность. Дом был наполнен тишиной, но не пустой, а живой: шелестом листьев, пением птиц и далёким звоном церковного колокола. Каждый вдох здесь был как глоток свежести, каждый взгляд – как открытие нового мира, где всё было возможно. Архитектура, сочетавшая элементы традиционного деревенского стиля с влияниями ар-нуво, была оснащена системой водоснабжения. Трубы тянулись вдоль плинтуса, уходя через отверстие в стене в комнату с медной ванной.
Сама ванна была глубокой, но в длину не превышала полутора метров, так что разместиться вдвоём в ней не представлялось возможным. Быстро приведя себя в порядок и подшучивая друг над другом, они собрались и выбрались во двор.
Солнце было в зените. Тени ив, охранявших их убежище своими кронами, едва прикрывали собственные корни, узловато выступающие на поверхность красноватой почвы. На небе не было ни облачка. Июнь ещё не наступил, но лето в долине было уже в самом разгаре. Молотили своими маленькими молоточками кузнечики в кустах травы, перелетали с цветка на цветок пчёлы. Долина жужжала, стрекотала и шептала налетавшим изредка ветерком.
Люберон, Бонньё, воскресенье 28 мая 1922 года
До деревни идти было недолго, каких-нибудь пятнадцать минут – ровно столько, сколько требовалось, чтобы прочитать «Отче наш» апостольским числом или вспомнить все грехи со времени последней исповеди. Их путь лежал через каменный мостик, построенный, если верить выбитой на парапете дате, в год, когда Наполеон отправился в Египет за тайнами пирамид. Мост перекинут через холодный ручей, начинавшийся в роще, которая служила ориентиром по направлению к их дому. Ручей так и назывался – «Холодный», хотя местные старики шептались, что прежде он носил имя «Ручей Забытых Клятв». Вода в нём журчала тихо, будто шептала древние секреты, а вокруг, в тени деревьев, воздух был напоён свежестью и ароматом влажной земли, смешанным с едва уловимым запахом серы – возможно, от близлежащих минеральных источников, а возможно, это было игрой воображения.
Бонньё встретила их каменными домами, словно вырастающими из самого холма, как грибы после дождя. Узкие улочки, вымощенные булыжником, петляли между старыми зданиями, покрытыми рыжей черепицей, цвет которой напоминал о закатах времен трубадуров. Фасады, украшенные ставнями в пастельных тонах – голубыми, как глаза Мадонны на фресках Джотто и розовыми, как щёки флорентийских портретов Боттичелли, увиты плющом и цветущими бугенвиллиями. Каждое строение казалось частью пейзажа, а каждый камень – страницей истории, причем истории не линейной, а циклической, где прошлое постоянно возвращается, переодевшись в современные одежды.
Они прошли мимо старинных фонтанов, где когда-то собирались местные жители не только для того, чтобы набрать воды, но и обменяться новостями, которые в этих местах часто оказывались древнее самих фонтанов. Вышли на площадь, которая была небольшой, но уютной, словно созданной для того, чтобы здесь останавливалось время или, по крайней мере, замедляло свой бег до скорости прогулки старика с тростью.
Старая церковь «Église Haute», возвышавшаяся над деревней, её массивные каменные стены и строгие романские линии напоминали о временах, когда она служила не только местом молитвы, но и крепостью, крепостью не столько от земных врагов, сколько от врагов невидимых, тех, что приходят во снах и говорят на забытых языках. Они поднялись по ступеням, выщербленным за века ногами паломников и грешников, и перед ними открылась панорама долины. Виноградники, оливковые рощи и поля лаванды расстилались до самого горизонта, а вдали синели холмы, покрытые лесами, в которых, по преданию, ещё можно было встретить потомков тех самых друидов, что противостояли римлянам. Солнце пылало ярче театральных софитов, заливая долину золотом, и казалось, будто земля дышит – медленно и глубоко, как спящий алхимик перед открытием великой тайны.