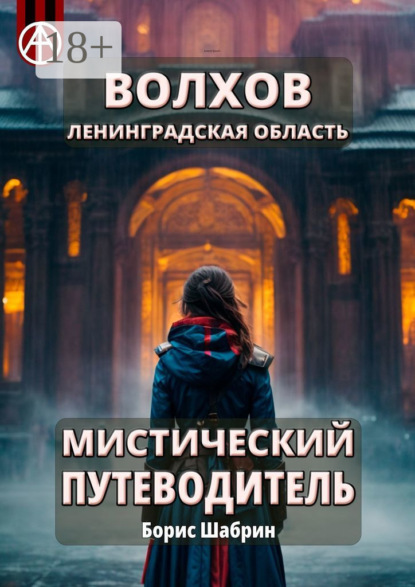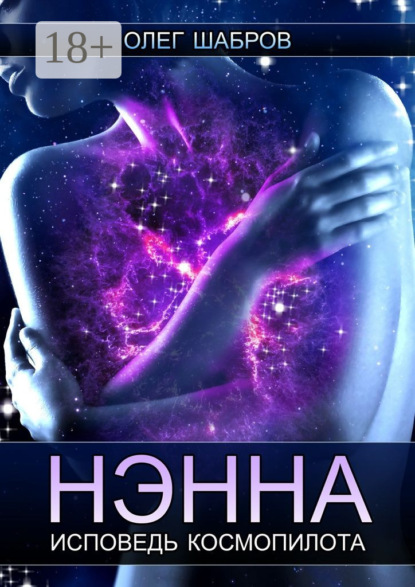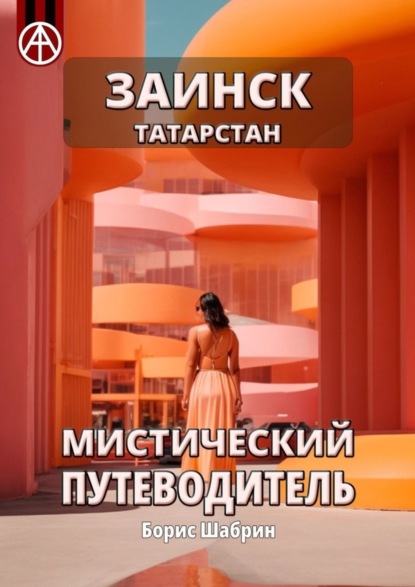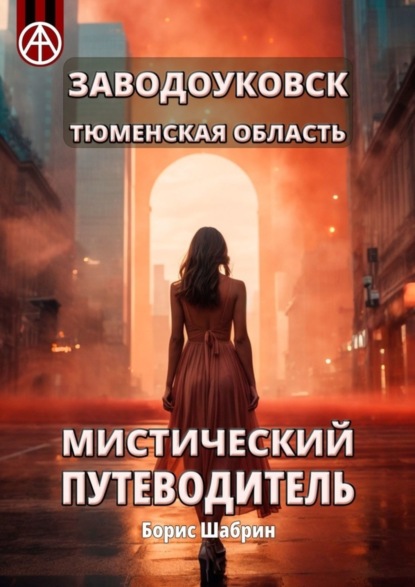От язычества к христианству. Путями последней Австразии
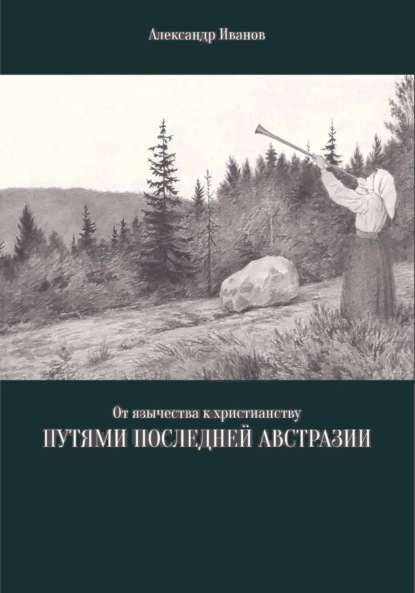
- -
- 100%
- +

Вместо предисловия Путями Изначальной Традиции
В христианстве никогда не было принято громко, вслух говорить о тайной адамической Традиции, непрерывно сохранявшейся (но отягощенной языческими искажениями) на протяжении тысячелетий до Боговоплощения и затем восстановленной Сыном Божиим во всей полноте. Величайшие символы, в которых заключено целое всеобъемлющее мировоззрение, просто, без лишних слов, изображались на палеолитических петроглифах, неолитических статуэтках и затем также без особого шума перешли в убранство христианских храмов. Время, когда эти прикровенные тайны, бережно хранимые Преданием, вышли на поверхность, наступило только в XX веке. «Почему архаическое прошлое всё настойчивее вторгается в нашу современность?» – вопрошает современный французский традиционалист Режи Дебре. Потому что приблизились сроки, дал ответ Рене Генон. Потому что только в сумерки перед концом, перед полуночью Седьмого Дня – открывается и проговаривается во всеуслышание то, что ранее было скрыто. Иначе – не сохранить цепь преемственности. А так – есть хотя бы шанс на то, что хотя бы кто-то из читателей имеет уши и услышит. Услышит то, о чем говорит Александр Иванов в своей книге «Путями последней Австразии». Великие предшественники автора на этом поприще: Юрий Стефанов, Владимир Карпец, Александр Дугин, Олег Фомин, Юрий Соловьёв – всё-таки часто ограничивались отдельными намёками, обмолвками, в лучшем случае – отдельными статьями. Появившись на горизонте русского православного традиционализма, вятский автор сразу обратил на себя внимание своим стремлением к систематичности изложения. Систематичности, направленной на то, чтобы достучаться, чтобы попытаться разбудить: и не желающих слышать о традиционализме официально-православных, и не умеющих найти выход к Солнцу Правды неоязычников, увлекшихся геноновско-эволаистским традиционализмом. Кто не проснется и не протрет глаза даже после такой побудки, как «Путями последней Австразии» – поистине уже не увидит и не услышит… Это, впрочем, даже к лучшему – тайна будет сохранена от теплохладных.
В книге Александра Иванова много моментов спорных, гипотетических. Как правило, сам автор оговаривает их спорность. Но его заслуга уже в том, что он ставит вопрос там, где остальные видели только ровное место и не усматривали вовсе никакого вопроса. Отнюдь не стремясь дать развернутый комментарий к каждому параграфу книги, остановимся на наиболее интересных моментах.
Во введении автор дает краткий, не претендующий на полноту, обзор германской «ариософии» и «ариохристианства» конца XIX – первой половины XX вв. Это тем более актуально, что популярность авторов типа Гвидо фон Листа и Ланца фон Либенфельса в России продолжает расти, и если в 90-е годы читатели узнавали об их учениях в основном из опусов Воробьевского, то в последние годы одно небезызвестное тамбовское издательство выпустило в свет целую серию книг «ариософов» на русском языке. Это означает, что спрос есть. А ответа со стороны Церкви нет. В этой ситуации Александр Иванов попал в «яблочко». Анализируя учения «ариософов» и отделяя ядро от шелухи, он показывает, что ядро – христианское, только обросшее всякой грязью. Более сильного удара по антихристианскому неоязычеству, пожалуй, нельзя нанести. Можно было бы высказать автору лишь пожелание подчеркнуть один важнейший момент, о котором в книге умалчивается. Мы имеем в виду многовековое упорное непонимание германцами учения о равночестности Пресвятой Троицы и упорное соскальзывание готской, немецкой, скандинавской, нидерландской, англо-шотландской мистики – в арианство, в антитринитаризм, а в XX веке (последователи Шпенглера, Юнгера, Хайдеггера) – в Ислам… Эта изначально «арианская» установка германо-арийского сознания, не могущая вместить в себя мысль о равенстве Сына Отцу, объясняет очень многое. В том числе и в теории Германа Вирта, глубоким знатоком которой является Александр Иванов.
Именно эту теорию вятский автор кладет в основу своих размышлений о древнейшей, палеолитической истории человечества, творчески перерабатывая её как с учетом православного Предания, так и с учетом новейших добытых наукой фактов. С конкретной реконструкцией Александром Ивановым локализации и хронологии гиперборейского человечества можно поспорить, тем более что в первой главе имеется досадный пробел, когда автор от верхнего палеолита переходит сразу к мегалитическим культурам неолита, пропуская долгий мезолитический период. Но эти погрешности вполне искупаются тем, что до читателей впервые доходит связная и скорректированная с учетом новейших данных, серьезная (а не в духе «фолк-хистори») концепция о прасимволах изначальной Традиции, связанных изначально с отображением годового круга в арктических широтах и претерпевших изменения в более южных странах в более поздние эпохи.
Такие изменения, искажения, переосмысления рассматриваются автором отчасти с привлечением материала по индийцам, калашам, грекам, скандинавам, кельтам, балтам, но в первую очередь – по славянам. Александру Иванову удалось сделать несколько важных шагов в интерпретации славянской мифологии, в отделении более древних слоев, уходящих корнями в изначальную Традицию каменного века, от более поздних языческих переосмыслений в духе многобожия. И если авторская реконструкция пантеона князя Владимира, предполагающая объединение в одно божество Хорса с Дажьбогом, в другое – Стрибога с Семарглом, вызывает вполне обоснованные вопросы (в свете давно известного разделения божеств Сьма и Ръгла), то интерпретация Александром Ивановым изображений на Збручском идоле и особенно его толкование «Голубиной книги» с попыткой реконструкции изначальной дохристианской версии её текста – поражают своей глубиной и точностью. Заслуживает всяческого одобрения и обращение к тексту Яна Длугоша и другим польским источникам первой половины XV века как к надежным источникам по славянскому язычеству – надежным в том случае, если хорошо владеть традиционалистской методологией.
Триумфом этой методологии можно назвать авторский анализ «основного мифа» славян о борьбе Перуна с Велесом и его увязку с праязыком человечества (в Традиции именуемым «сирийским»). Александр Иванов эксплицитно проговаривает то, что обычно остается на заднем плане: неслучайность звуковых совпадений в именах и названиях из новых языков с древнейшими ностратическими, бореальными, даже прачеловеческими корнями, ныне успешно реконструируемыми представителями «старостинского» направления в лингвистике. Тезис о неслучайности совпадений тех же еврейских имен Илии, Анны, Марии, Иоанна, Иисуса со сходными древнейшими индоевропейскими и ностратическими корнями не следует понимать в том смысле, будто память о значении тех корней хранилась тысячелетиями. Напротив: при наречении этих еврейских и арамейских имен о древнем северном корнесловии никто в Палестине не мог ни знать, ни помнить. Но Промысел Божий, с точки зрения православных верующих, в том и выражается, что звучание – совпало. А смыслы – «внутреннюю форму имени», по терминологии русской имяславческой школы – следует читать исходя из ностратической реконструкции, а не из буквального перевода с древнееврейского. И тогда всё станет на свои места, и не только в названных именах, но и в вопле «Или, Или, лама савахфани?» мы прочтем совсем иные смыслы… Отдельные реконструкции Александра Иванова могут быть оспорены, но сам принцип – незыблем. Этот принцип позволил автору сотворить буквально герменевтические чудеса, приоткрыв тайну имени Иммануил как иного имени Спасителя, соотношения Иисуса (Исуса) с кельтским Езусом, связь между индоевропейским «напитком богов» и Святой Евхаристией и многое другое.
Крайне важна глава о христианских святых и их предизображении в виде «языческих» божеств Европы. Выступая с позиций последовательного святоотеческого, христианского платонизма, Александр Иванов наносит в этой главе решительный удар по различным антитрадиционным «иудеохристианским» течениям. Подробное рассмотрение ирландской богини Бригитты и православной святой Бригитты в сравнении со славянским почитанием «Марии громовой», интереснейшие факты о преобразовании Перынского капища в Новгороде в православный монастырь увенчиваются рассмотрением святыни Вятской земли – чудотворного образа св. Николая и связанного с ним ежегодного Великорецкого крестного хода. Саму топографию сакрального места на реке Великой Александр Иванов рассматривает как проекцию в миниатюре географии Руси – совершенно в духе «небесных архетипов», повторяющихся в различных географическим объектах, о чем превосходно писали в свое время классики православного традиционализма о. Павел Флоренский и Мирча Элиаде. Из современных работ в один ряд с исследованием Александра Иванова по вятской сакральной топографии могут быть поставлены только замечательные статьи Виктора Кудрина «Созвучия гениев мест» (о сакральной топографии Москвы как отражения годового круга) и «И в Азии есть Европа» (о параллелях между географией Руси и Палестины, Западной Европы и Западной Руси).
Тема сакральной географии продолжается в шестой главе, где описываются точки вдоль 45-го меридиана: Иерусалим с Голгофой – Соловецкие острова со своей Голгофой – Северный полюс. Череп Адама, по мнению автора, мог физически находиться на Соловках, а символически – в соответствующей ему точке Палестины… Любопытно, но Александр Иванов как будто не замечает, что продление 45-го меридиана на юг, до экватора, приводит нас в район африканских Великих Озер, где, согласно современной академической науке, также находилась как минимум одна из прародин человечества. Если учесть этот факт, то параллель между Палестиной и Соловками станет еще более интересной и полной…
Этюды Александра Иванова о параллели между Микулой Селяниновичем и святым Николой и об Илии служат достойным завершением главы о святых, после чего автор, наконец, прямо ставит вопрос о непрерывности адамической Традиции истинного Богопочитания в период между Адамом и Моисеем и о пророках и святых из среды языков. Вслед за св. Епифанием Александр Иванов находит у апостола Павла прямое указание на четыре вида искажений истинной Религии: «эллинское» и «иудейское», «варварское» и «скифское», и объясняет их суть на примерах. В поисках индоевропейских народов, сынов Иафета, обитавших в Малой Азии и Палестине, автор обращается к истории Трои, Карии, Лидии, Митанни, прослеживает пути «народов моря» и возникновение Иеросолимы – Иерусалима как изначально индоевропейского города, с которым была связана деятельность самого Мелхиседека. Указывая на то, что эллины впали в многобожие после Троянской войны, Александр Иванов в то же время следует традиции ранних Отцов Церкви I–III вв. и иконописцев XVI–XVII вв., открывая для современного читателя полузабытые церковные тексты, служащие обоснованием изображения Платона, Аристотеля, Плутарха, Солона и других «внешних мудрецов» в православных храмах в чине пророков, предвещавших о пришествии Спасителя. Вместе с тем автор отвергает схему классического геноновского традиционализма, согласно которому все традиционные религии являются равноправными ветвями Традиции, в пользу христианского понимания: Христианская Традиция – ствол, а другие – побочные ветви; идя по ним, люди могут достичь значительного уровня духовной реализации, но для непосредственного обращения к Богу – Источнику Традиции – необходимо Крещение если не при жизни, то в момент смерти. «Пути к Богу во всех иных традициях, отличных от христианской, – это движение по окружности, направленное к точке зимнего солнцестояния, – пишет автор. – Т. е. если христианин прижизненно продвигается по пути к Царствию Небесному, то все остальные только к точке крещения, за гранью которой для них может начаться (а может и не начаться) Православие». Но точка зимнего солнцестояния и есть точка инициатической смерти, погружения в нижние воды…
Исследование пророков от языков до-Моисеева времени удачно увенчивается анализом образа святой Сивиллы и корней культа Аполлона, связанных с «яблочной землей», Аваллоном на северо-западе Европы. Александр Иванов указывает, в частности, на намеки, связанные с отмелями Северного моря и Доггер-банкой, встречающиеся в Св. Предании. К сожалению, тему Атлантиды, более чем уместную при разговоре о кельтско-британской Традиции, Александр Иванов обходит стороной. Зато многосторонний и многозначный символизм яблока он рассматривает основательно.
Большую богословскую значимость представляет исследование автора о поклонении персидских волхвов, Вифлеемской звезде и апокрифических сказаниях, которые при трезвом и осторожном подходе к ним позволяют расширить наши представления о связи ближневосточной Традиции с Традицией индоевропейской и – глубже – палеолитическим почитанием Бога-Рыбы – Сына Божьего, рождающегося на Земле в день зимнего солнцестояния. Перекликаются с этой темой и смелые рассуждения Александра Иванова о родословии праведных Иоакима и Анны в шестой главе. При всей дерзновенности вывода о принадлежности родителей Богородицы к царскому и жреческому родам Галилеи индоевропейского происхождения, обращенных в ветхозаветную иудейскую религию лишь при Хасмонеях, несомненна важность поднятого автором вопроса о промыслительном сокрытии точных путей Царского Рода в истории. Из устного Предания известно, что сей Род един и не прервется до Конца мира. Об этом долгое время не говорили – не было нужды говорить, но крушение традиционных монархий заставляет ставить этот вопрос эксплицитно. Сегодня, как и две тысячи лет назад в Галилее, представители Царского Рода, быть может, блуждают бездомные и сокрытые, голодные и неузнанные… Помнить об этом сейчас – важнее, чем когда бы то ни было.
Еще одной фигурой, которую автор рассматривает в ряду дохристианских святых и пророков, является Гермес Трисмегист. Выбранная тема позволяет Александру Иванову сделать интересный экскурс в алхимию и подчеркнуть отличие древнейшей алхимии, трактуемой им через призму святоотеческой византийской антропологии, от известной нам средневековой европейской. Констатируя, что подлинное Великое Делание не может совершиться в современном десакрализованном, «расколдованном» мире, «закрытом сверху» (по Генону), Александр Иванов приходит к выводу о существовании Священной Империи как необходимого условия для Великого Делания. Раскрывая христианское учение о Катехоне, он указывает на то, что подлинный смысл царского служения раскрывается только для христиан, другие же Традиции чтят и должны чтить сакральную фигуру Белого Царя прикровенно. Особое внимание Александр Иванов уделяет образу Александра Македонского, поистине единственного по святости своей миссии. Неслучайно «вознесение Александра», геометрически повторявшее древнейшие сюжеты северных петроглифов, так любили изображать на Руси, например, в белокаменной резьбе Дмитровского собора во Владимире. Царь возносится в окружении двух лебедей – прекраснейший северный сюжет, очень древний, слишком древний – и вечно юный…
После очерка родословия потомков троянских царей – родословия, уводящего нас и в Рим, и в Скандинавию, и в Армению – Александр Иванов подчеркивает миссию русского Царства как преемника троянской, римской и византийской монархии. Книга завершается акафистом иконе Божией Матери Державной и очерком политических форм через призму традиционализма, плавно переходящим в критику иудео-исламско-протестантского монотеизма и языческого пантеизма как двух уклонений от Царского пути православной Традиции – уклонений, ведущих к одной пропасти Модерна и Постмодерна. В последних строках книги сквозит надежда на Новое Начало Священной Традиции. Это сказано робко, намеком – как «Последний Бог» у Хайдеггера. Но так и должно быть. Ибо, в отличие от детального рассмотрения прошлых путей Священной Традиции, время открыто говорить о ее будущих путях, о Со-Бытии, имеющем свершиться в Последней Австразии – действительно еще не пришло…
Максим Медоваров, кандидат исторических наук, г. Нижний Новгород
Введение Европейская ариософия и русское Православие
«Мы тоже верим в Солнце – Солнце Правды – Христа».
Св. Патрик Ирландский (кон. 461 г. по Р. Х.)«Зане разумное Божие, яве есть въ нихъ: Богъ бо явилъ есть имъ [язычникам – А. И.]: Невидимая бо Его, отъ создания мира твореньми помышляема, видима суть, и присносущная сила Его и Божество…»
Апостол Павел «Послание к Римлянам» (1:20)Эту книгу можно было бы назвать «Опыт преодоления язычества», поскольку она обращена именно к той части думающего русского общества, которая захвачена эстетически и интелектуально неодолимой тягой к славянской (и индоевропейской) древности, и направлена на преодоление того неоязычества, которое вновь занимает умы и сердца наших современников. Хотя она не является ни полным сводом доводов «за» или «против», ни увещеванием в неправоте тех, кто стремится к восстановлению «веры предков», а лишь демонстрацией некоего метода или образа мысли, в который возможно вместить доктрину, которая уже веками наличествует в русском менталитете и в русском Православии, но до сих пор воспринимается скорее чувством, чем разумом. Другими словами, здесь представлена попытка сделать рационально постигаемым то, во что наши предки молчаливо верили всегда; а вернее то, что они принимали как некую исходную аксиому или парадигму своего религиозного сознания. Сегодня эта «народная теология» должна быть прояснена, осмыслена и высказана.
Следует сразу оговориться, что автор не ставил себе целью углубление в мистическое содержание Традиции, не считая себя вправе делать это, не имея ни достаточных способностей, ни личного опыта, хотя, в связи с характером поднимаемой проблематики, совершенно избежать этого не удалось. Но все же данную книгу следует считать лишь историко-культурологическим исследованием, а ни в коем случае не религиозным трактатом. Кроме того, заметим, что в связи с широтой поднимаемых вопросов и одновременно с малой известностью посвященных им исследований, приступая к рассмотрению данной проблематики, приходится, с одной стороны, ограничивать доказательную базу текстологического и научного анализа, а с другой – почти целиком излагать теории, уже довольно подробно разработанные, но все еще известные лишь в узких кругах.
То, о чем пойдет речь, некогда уже звучало, но прошло мимо нашего внимания, и все потому, что не имея легитимного культового приложения, ограничилось лишь смутным предчувствием и ниспало до уровня ностальгии и мечты. И, кроме того, будучи обильно сдобрено модным в свое время, но совершенно необязательным расизмом и прочими формами ксенофобии, вызывало недоумение и протест у здравомыслящей части человечества. Это смутное предчувствие донесли до нас немецкие мистики: Лист, Ланц, Виланд, Бюлов, Вилигут, Горслебен и многие другие, включая и академически образованных ученых, таких, как Герман Вирт. Все они в той или иной форме стремились доказать «истинное, арийское происхождение христианства».
Уже об основателе ариософии Гвидо фон Листе (1848–1919) мы не можем однозначно заявлять, что его интерес сводился только к восстановлению и реанимации языческой традиции народов Европы, хотя именно его работы легли в основание «классического неоязычества». При всей симпатии Листа к магическим практикам язычества и его отчуждении от традиционного наследия аврамических народов, он все же не считал т.н. «вотанизм» эпохи раннего германского средневековья первичной религией германцев. В его работах мы находим нечто большее, чем просто реконструкцию дохристианской традиции, свойственную современным неоязычникам. В частности, у Листа есть упоминания о праиндоевропейской монотеистической традиции, которая выступает под не совсем понятным названием «древняя Вихинай» (altertümlicher Wihinei), в которой почитался Единый Бог, творец и промыслитель вселенной. Что касается христианства, то, в мысли Листа ценностью обладает не оно само, а древнейшее учение, хранимое высшими кастами, т.н. «арманизм» (название, происходящее от элиты прагерманского общества – жрецов арманов), скрытый за его внешними формами. Сама по себе христианская религия (под которой немецкий автор подразумевает, разумеется, католицизм) – это лишь историческая форма существования арманисткой эзотерики, скрытая за заимствованными внешними формами семитической традиции. В этом смысле экзотерическая и простонародная форма германской священной традиции – «вотанизм» эпохи Эдды, выступает все же гораздо более близкой к арманизму традицией. Однако последователи Листа представили по отношению к религии Вотана и проблеме соответствия прагерманской традиции христианству широкий спектр иногда существенно отличающихся взглядов.
Яркой иллюстрацией доктрины этих авторов в целом может послужить их рунологическая концепция. Вопреки академической науке, ариософы рассматривали германские рунические ряды не как знаки примитивного письма, плохо приспособленного для передачи древнегерманского языка, но как откровение об истине над-природного, метафизического порядка.
Например, Рудольф Горслебен (1883–1930) приводит мягко говоря спорные, но очень показательные этимологические ряды, с точки зрения демонстрации того мировоззрения древних германцев, отражением которого, по мнению этого автора и являлись руны. В частности, расшифровывая символическое значение руны Хагаль (Hagal) ᛡ, он говорит следующее: «Если руна Hag-All – та, что удваивает расколотое мужское и женское, возводит все к Богу, всю вселенную, и которая является монограммой имени Христа, которая [в свою очередь] есть Christ-All, и Ger-ist-All, Krist-All; то в ней, в духовном ракурсе, должен просматриваться Jesus, Asus, Armann, который есть Aar-mann, Sonnenmann, Sohnesmann». Приведем некоторые пояснения этой краткой и несколько сумбурной, но чрезвычайно семантически насыщенной цитаты. Горслебен, считая название руны двухосновным (чему он находит подтверждение в самом ее начертании, объединяющем «мужское и женское» – ᛉ + ᛣ), проводит параллель с греческим словом κρυσταλλος («лед», «хрусталь»), в котором различимы германское обозначение Христа (Krist) и германская основа All – «Все», т.е. в трактовке Горслебена – «весь этот мир», «вселенная». Косвенное доказательство правомерности своего сопоставления он находит в сходстве начертания древнегерманской руны и Хризмы ᛡ – монограммы имени Исуса Христа. Далее он расшифровывает значение имени Христа и слова «кристалл», возводя их обоих к более древней форме, которую он видит в германской лексической формуле Ger-ist-All, что можно перевести как «Год-есть-Все». И эта мысль далее наводит его на персонификацию главного светила Вселенной – «Солнечного человека» (Sonnen-mann), как принципа, который управляет годом и миром. Как видно, это довольно натянутая этимология, за которой стоит не лингвистическая наука, а некое духовное учение, позволяющее связать воедино рунический ряд германских язычников, греческий язык и христианскую традицию. Согласно этой доктрине, эддическая традиция и германские рунические ряды являлись поздним отражением географически «атлантической» и этнически «арийской» доисторической религии Krist’а, которая была замещена и вытеснена новой проповедью Исуса Христа. Другими словами, речь идет о существовании некоего «прагерманского христианства», поздним продолжением которого являлись исторически зафиксированные языческие традиции.
Карл Мария Вилигут (1866–1946) также учил о «прагерманском христианстве», называя его «ирминистской религией», в которой главным объектом почитания был германский бог, выступающий под именами Крист (Krist) или Ирмин (Irmin). Эта религия, согласно Вилигуту, существовала с незапамятных времен, по крайней мере, со времени окончания ледникового периода, то есть с 12 500 лет до Р. Х. Священное писание, известное нам как Библия, по мнению этого автора, была написана в Германии, но позднее заимствована евреями и извращена в рамках религиозной доктрины о Спасителе, якобы рожденном на Ближнем Востоке. В отличие от Горслебена, «ирминисткое кристианство» у Вилигута противопоставляется германскому вотанизму, как прямо враждебная доктрина. Балдур-Крестос, священный пророк ирминизма, был распят последователями нового культа Вотана, в котором искажалась истинная религия германцев. Это произошло в Гоцларе, в 9600 до Р. Х. После этого события противостояние с вотанистами продолжалось вплоть до прихода ближневосточного христианства, окончательно подорвавшего изначальную священную традицию германцев [25].
Более взвешенная концепция была представлена Германом Виртом (1885–1981). Отказываясь признавать миссию Христа уникальной и исключительной, он настаивает на том, что Божественное Откровение, принесенное Христом, – это лишь «одно из вторжений северного наследия в жизнь Востока», подобное вновь явившейся вере индусов в единого бога – Дьяуса-Брахму. В соответствии с этим он считает и ирландско-шотландское христианство, использующее в своей обрядовой практике многие рунические символы европейского севера, ни чем иным, как «Священной традицией народов Севера» (тождественной той, что Вилигут называл ирминисткой религией), которая на континенте была вытеснена вотанизмом эпохи Эдды, созданной во времена германского упадка[1][1]. «Высокое и благородное ирландско-шотландское христианство» – ничто иное, как возрожденная традиция эпохи т.н. «культуры мегалитических захоронений». Ее носители (в ирландских источниках Tuatha De Danann, «Племена богини Дану») некогда пришли на «Зеленый Остров» с севера, но в последующем были покорены «Сыновьями Миля», то есть кельтами, благодаря которым на этих землях восторжествовал кровавый культ шаманов-друидов. В перспективе такой исторической концепции III в. по Р. Х. – это время ренессанса древнего учения, направленного против исторически засвидетельствованного язычества. Это объясняет особую сотериологию кельтского христинства, согласно которой Христос своим сошествием во ад, по словам «немецкого апостола» Винфрида-Бонифация, «освободил оттуда всех, кто был заключен в преисподнюю, верующих и неверующих, идолопоклонников и почитателей Бога». Разумеется, что вступив в контакт с римским христианством эта вера, повествующая об Отце, Сыне и Духе, должна была включить в себя учение Христа как частный случай проповеди той же истины, как еще одно из Откровений Мирового Духа, обращенное на этот раз к народам Востока.