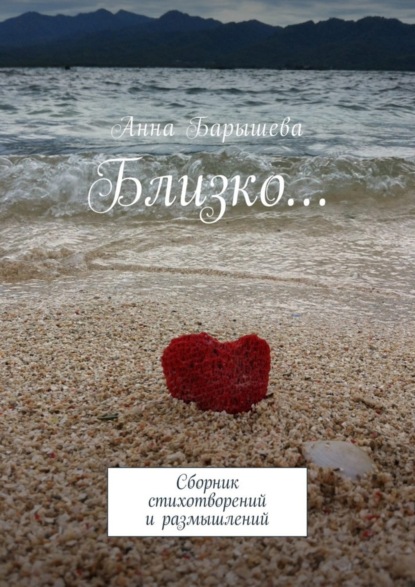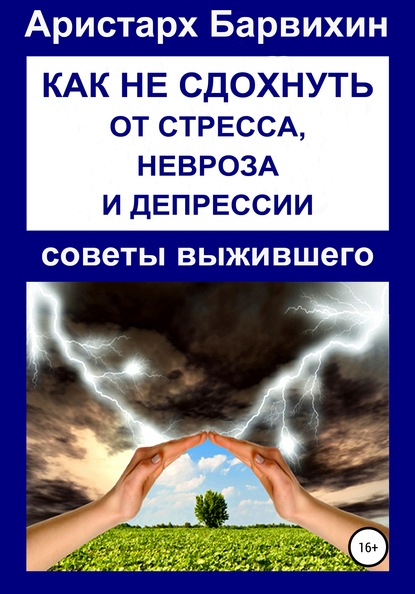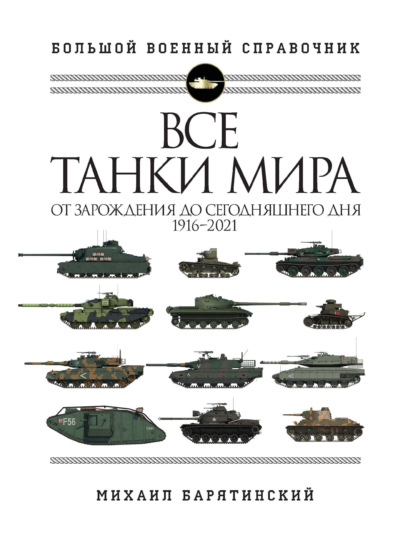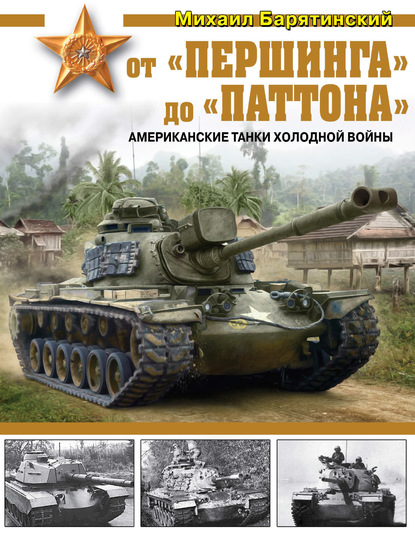От язычества к христианству. Путями последней Австразии
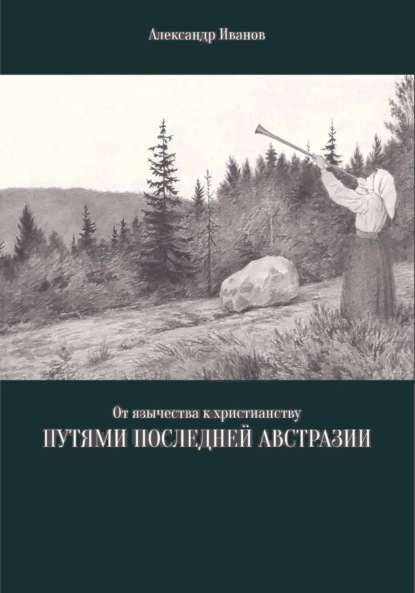
- -
- 100%
- +
1.2. Свидетельства Священной Традиции
Рассмотрев вкратце историю последней геологической эры, мы можем, резумируя данные, которыми мы располагаем в настоящее время, уверенно говорить о том, что изначальное человечество пережило несколько климатических и геологических катаклизмов, которые в конце концов заставили его представителей окончательно покинуть свою изначальную северную прародину. Но память о ней потомки северного народа хранили в своих священных песнях и преданиях, передавая их изустно от поколения к поколению.
Отголоски этой памяти Тилак, а вслед за ним и Вирт, находят в повествовании священного писания зороастрийцев – «Авесте» (Вендидад, 1–3). Речь идет о месте, в котором «Добрый Господь» (Ахура Мазда) говорит Заратустре о создании Арьйана Ваэджо («Арийское семя»), рая Ариев; и о том, как «Дух Зла» (Ангра Майнью) в противоречие Богу насылает бедствия на эту священную землю: «1. Сказал Ахура Мазда Спитама Заратустре: /…/ 2. Первую наилучшую из областей и стран, я Ахура Мазда, создал Айрьяна Ваэджо у хорошей Дайтьи; в противоречие этому Ангра Майнью, воплощение смерти создал великого змея и зиму, творения демонов. 3. Там 10 зимних месяцев, и только 2 летних месяца, и они слишком холодны для воды, слишком холодны для земли, слишком холодны для деревьев; и это Середина зимы и Сердце зимы; потом, когда приходит зима, там являются многие бедствия…».
То, что первоначально в Арьяна Ваэджо царили иные климатические условия видно из другого свидетельства Авесты, в котором Ахура Мазда приказывает Йиме, владыке мира времен «Золотого века» построить убежище («Вару»), дабы спастись от гибели, когда наступит эта ужасная зима: «22. И сказал Ахура Мазда Йиме: Йима прекрасный, сын Вивахванта! На плотский мир должна прийти роковая зима и вследствие этого снег будет падать в огромном количестве вплоть до глубоких «аредви» на высочайших вершинах гор[14][1]. 23. И три вида скота погибнут, о Йима, и те, что обитают в диких местах, и те что и на вершинах гор, и те что в долинах рек, под покровом стойл.24. Ранее зимы в этой стране процветали пастбища; до этого текли воды от таяния снегов, о Йима, в этом естественном Мире Счастья, где можно было увидеть следы овец. 25. Приготовь поэтому замок, длиной в конский бег по отношению к каждой из четырех сторон; именно здесь собери семена скота меньшего и большего и людей и собак и птиц и пылающий красный огонь» [10].
Еще более определенное свидетельство о первоначальной продолжительности зимы в Арьяна Ваэджо мы находим в другом отрывке Авесты (Бундахишн, XXV, 10–14): «Со дня Ахурамазд (первый день) месяца Авана зима набирает силу и приходит в мир, а начиная со дня Атаро (Ataro) месяца Дин (Din) (девятый день десятого месяца) в Айрьяна Ваэджо приходит большой холод; и до конца в месяце Спедармад (Spendarmad) зима продвигается по всему миру. Поэтому в день Атаро месяца Дин мы везде возжигаем огни, и это указывает на то, что зима пришла». В этом отрывке точно перечислены пять зимних месяцев: Аван, Атаро, Дин, Вохуман и Спендармад, при том что в более позднюю эпоху, уже после того как арии покинули изначальную прародину, согласно тому же источнику (XXV, 20) зима включала только три последние месяца года: Дин, Вохуман, Спендармад.
Но не только иранская традиция помнит о катастрофе, постигшей изначальную прародину человечества. Согласно Вирту, который следует за Сернандерсом (Sernanders), в число свидетельств об этом несчастье входит и описание великой зимы Фимбульветр (Fimbulvetr), с которым мы встречаемся в северогерманских священных песнях, в тех местах, где описывается начало гибели богов (Рагнарека), ибо в согласии с таким толкованием мифа «лютая година», о которой идет речь, началась уже давно, еще в доисторические времена и продолжается до ныне. Вирт приводит цитаты из скандинавских дохристианских текстов, в частности, место из «Видения Гюльви» (Gylfaginning, 51) где Высокий рассказывает Ганглери о конце света: «Много важного можно о том поведать. И вот первое: наступает лютая зима, что зовется Фимбульветр. Снег валит со всех сторон, жестоки морозы, и свирепы ветры, и совсем нет солнца. Три таких зимы идут сряду, без лета. А еще раньше приходят три зимы другие…» [62]; а также строфу «Песни о Хлюндле» (Hyndluljoth, 42) в которой Рагнарек описывается как потоп:
Ветер вздымаетдо неба валы,на сушу бросает их,небо темнеет;мчится буран,и бесятся вихри [93].Как мы уже говорили выше, воды, образовавшиеся в результате таяния последнего ледника, вызвали повышение уровня мирового океана не менее чем на 100 метров. В результате этих изменений большие области суши оказались затопленными. Эти геологические события нашли непосредственное отражение в древнейших мифах практически всех народов земли. В качестве примера мы приведем лишь некоторые, наиболее показательные свидетельства.
Согласно древнегреческой традиции, когда Зевс решил уничтожить за грехи всех людей и наслать на землю потоп, он разрешил спастись царю Девкалиону и его жене Пирре. В частности, об этом мифе в своей «Мифологической библиотеке» упоминает Аполлодор: «Когда же Зевс захотел истребить медное поколение, Девкалион по совету Прометея сделал ковчег и, вложив в него необходимые припасы, сел туда вместе с Пиррой. Зевс разразился с небес страшным ливнем и залил водой большую часть Эллады, так что все люди погибли, за исключением немногих, которые укрылись в расположенных поблизости высоких горах. В те времена расступились горы в Фессалии и покрылись водой все те области, что расположены за Истмом и Пелопоннесом. Девкалион же носился в своем ковчеге по морю девять дней и девять ночей и причалил к Парнасу. Там, когда ливень прекратился, он вышел на берег и принес жертву Зевсу Фиксию. Зевс, послав к Девкалиону Гермеса, разрешил Девкалиону просить у него все, что ни захочет, и Девкалион пожелал возродить людской род. Тогда Зевс повелел ему бросать камни через голову. Те камни, которые бросал Девкалион, превращались в мужчин, те же, которые бросала Пирра, становились женщинами» [2]. Среди детей Девкалиона и Пиры в мифах упоминается и Эллин, родоначальник греческих племен.
В кельтских сказаниях также сохранились предания о потопе. Согласно «Книге Захватов Ирландии», к предкам ирландцев, которые зовутся там «Сыновья Миля», явилась богиня Банба и сказала о себе: «Я старше Ноя… и вот на этой горе была я во времена Потопа. Оттого и называется она Тул Туинде («Гора Волны»), что до этого холма доходили его воды» [81]. Нет необходимости специально говорить об упомянутом здесь Ное – прародителе человечества, рассказ о котором содержит Библия. Отметим только, что его «ковчег» также пристает к возвышенности, в роли которой в древнееврейской традиции выступают «горы Араратские», находящиеся к северу от земель актуальной Палестины. В русских былинах «Святые», «Араратские горы» библейской традиции (в тех местах, где рассказывается о родине богатыря Святогора), отождествляются с «Северными горами», названными так в связи с их расположением по отношению к «Святой Руси». По мнению И. Гаршина, библейское имя Ной происходит от индоевропейского *nahw, «лодка», «судно» (отсюда латинское na:uis – «судно», древнеиндийское na:u – «судно», «лодка», древнеирландское nau – «судно», «корабль», древнеисландское nor – «судно»): «…миф о Великом потопе – индоевропейский, а человека, пережившего это бедствие, звали *Nahwo, т.е. «лодочник», «корабел», «кормчий» (ср. древнеанглийское no:wend – «мореход»)» [14]. Как известно, одна немаловажная и универсальная характеристика монархического права, (наряду с первородством и наследованием по мужской линии), заключается в том, что старший сын наследует земли наиболее приближенные к историческому ядру страны, как первоначального ареала расселения племени. Учитывая старшинство Иафета (его доказательство мы приведем ниже), очень значимым является тот факт, что по завещанию Ноя, Иафету и его потомкам достаются в удел земли Севера, которые, согласно теории изначальной арктической прародины, как раз и должны быть той землей, на которой некогда жил сам Ной.
В индийской традиции миф о потопе связан с первопредком человечества Ману. Согласно Араньяпарва («Лесная») третьей книге Махабхараты, однажды в его руки попала маленькая рыбка, которая попросила Ману вырастить ее. После того как рыба стала такой большой, что помещалась только в океане, она явилась к Ману и сказала: «Скоро, о, владыка, великий судьбою, всему на земле, и живому, и неживому, придет конец: близится время потопа, очищающего миры. /…/ Ты должен соорудить крепкую лодку и привязать к ней веревку. Ты сядешь в нее, о великий отшельник, вместе с семью святыми мудрецами. В ту же лодку следует погрузить по частям надежно укрытые семена – все те, о которых я говорила прежде». Когда начался потоп, Ману строит корабль, привязывает его к рогу выращенной им рыбы, которая проводит его к одиноко возвышающейся северной горе: «Многие годы… рыба без устали тянула за собою ту лодку по водным просторам. Затем… она привела лодку туда, где высится Химават». Когда они высадились на этой горе, рыба сказала: «Я – Брахма, Владыка живущих, и нет никого превыше меня. Это я, обернувшись рыбой, избавил вас от беды» [74]. После этого Ману приносит жертву воде, опуская в нее масло, молоко и творог, и из нее появляется девушка, по имени Ила (или Ида), ставшая его женой. От союза Ману и Илы ведет свое происхождение весь человеческий род. Упомянутый в «Махабхарате» хребет Хивамат, или Гималайские горы, находящиеся к северу от Индии – это только следствие забвения традиции, и результат работы индуистских комментаторов: в тексте более древней «Шатапатха Брахманы» не содержится указания на месторасположение «этих северных гор» («этам уттарам гирим»), но говорится только об их северном расположении относительно места расселения послепотопного человечества.
Важно обратить внимание и на то, что во всех указанных мифах речь идет не о локальном, а о всемирном потопе. Где и когда он мог произойти? Это могло случиться только в одном месте земного шара – в приполярных областях. Ведь если эти области являлись прародиной человечества, то катастрофа постигшая их, действительно может расцениваться как всемирная, поскольку речь должна идти о гибели всего мира, понимаемого как гибель всей обитаемой ойкумены изначального человечества, а также всех животных и растений, населяющих ее, кроме тех одомашненных видов, которые были спасены человеком и увезены на вновь заселенные им земли[15][1]. Это станет более понятным, если мы рассмотрим семантику праславянского слова *mirъ, которое одновременно является обозначением вселенной и человеческой общины: ср. русские выражения: «мир – народ Божий», «всем миром». Катастрофа, о которой мы говорим, коснулась всего изначального человечества, «всего мира».
Обратимся теперь к рассмотрению упомянутого нами образа «Северной» или «Полярной горы» (в качестве замещения которой в поздних вариантах мифа могут выступать актуальные Парнас, Этна или Олимп у греков, Арарат у иудеев, Эльбрус у иранцев, Кайлас или Хивамат у индусов, Тул Туинде у ирландцев), к которой пристает «ковчег» со спасенным прародителем человечества. Иллюстрируя мотив «Полярной горы» в славянской традиции, В. Н. Дёмин приводит в качестве примера русскую народную сказку «Хрустальная гора» в которой рассказывается, как герой, победив «змея о двенадцати головах», «разрезал его туловище и на правой стороне нашел сундук, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке яйцо, в яйце семечко, зажег и отнес к хрустальной горе – гора скоро растаяла» [30]. Мотив таяния «хрустальной горы» от огня указывает на свойства присущие льду, что можно истолковать как косвенное свидетельство ее северного месторасположения. Этой сказкой не исчерпываются свидетельства о полярной прародине в славянской традиции: по мнению того же автора, этимологическая близость обозначений «горы» и «города» в индоевропейских языках приводит к появлению образа «ледяного города», с которым мы сталкиваемся, например, в русской былине о Соловье Будимировиче, прибывшем на Русь «Из-за моря, моря синего, Из глухоморья зеленого, От славного города Леденца». В подобной роли может выступать и «остров». Например, один из русских заговоров начинается словами: «Стоит в подсеверной стороне ледяной остров…», а одно из обозначений горы или просто возвышенного места, в некоторых наречиях великорусского языка носит наименование «буян», который как раз обычно и обозначается в заговорах как остров (ср. «На Море-Окияне, на Острове-Буяне…»). На этом острове помимо прочего лежит «бел-горюч камень – Алатырь», а в древности славяне называли «Алатырским» Балтийское или Белое море, которые, как известно, находятся к северу от заселенных ими земель.
Предания о «белом, северном острове» в эпоху русского раскола XVII века легли в основу старообрядческой легенды о «Беловодье» – земле, где сохранилась истинная православная иерархия, неподверженная влиянию «царства антихриста». Это также райская страна изобилия, в которой согласно русским сказкам текут «молочные реки», то есть «белые воды», окрашенные в цвет снега.
Итак, славянская традиция знает «ледяной остров» или гору, находящуюся в белом, северном море. Параллель этим представлениям в ведической традиции древних арьев мы находим в образе полярной горы Меру. В подтверждение полярного расположения Меру, «царя всех гор», Тилак приводит свидетельство «Сурья Сиддханты» (X, 67): «На Меру боги видят солнце после его единственного восхода и в течение половины его вращения, начинающегося с Ари (в древнеиндийской астрономии «шестой дом» планет)»; а также цитирует «Ванапарве» – одну из книг «Махабхараты», где говорится: «На Меру Солнце и Луна ходят кругами слева направо каждый день и это же совершают все звезды», и далее: «День и ночь вместе равны году для обитателей этого места» [99]. Это, кстати, соответствует пассажу «Тайттрийя Брахманы» (III, 9, 22, 1), в которой сказано: «то, что есть год, является единым днем богов». То же сообщает иранская Авеста о «Варе» в Айрьяна Ваэджо, когда Йима спрашивает Ахура Мазду: «О, Создатель материального мира, Святейший! Какие светильники будут светить в Варе, созданной Йимой?» На что Бог отвечает Йиме: «Есть несотворенный и сотворенный свет. Звезды, луна и солнце лишь один раз в год видны восходящими и заходящими, и год кажется одним днем».
Также Меру описывается в «Тайттирийя Араньяке» (I, 7, 1) как местопребывание Адитьев, которые в свою очередь, выступают как воплощения месяцев года. Один из наиболее авторитетных исследователей русского фольклора А. Н. Афанасьев, суммируя данные русских сказок, приходит к выводу, что наиболее часто месяцы в русской сказке представляют собой двенадцать братьев, восседающих на стеклянной горе, вокруг пылающего костра – солнца. И если положение этой «стеклянной горы» из самой русской сказки строго определить не представляется возможным, то приведенные выше данные родственной ведической традиции индийских ариев не дают повода сомневаться в ее полярном расположении.
Вообще индийские веды содержат большое количество пассажей, происхождение которых нельзя объяснить без знания феноменов арктического года. Приведем лишь некоторые из ведических сюжетов, в которых мы встречаем ясные указания на арктическое расположение изначальной прародины арьев.
В Ригведе небесный свод и земная поверхность уподобляются колесам повозки, а сила удерживающая их – оси, связывающей эти колеса. Это ясно видно из пассажа X, 89, 4, где сказано, что Индра «раздельно удерживает своей силой землю и небо, как два колеса повозки удерживаются ее осью». При этом он «поворачивает широчайшее пространство, как колеса повозки (X, 89, 2)». По этому поводу Тилак замечает: «…мы, конечно, не можем говорить о небе тропиков как о своде, опирающимся на шест, потому что Северный полюс, служащий единственной точкой опоры в этом случае, не расположен в умеренной и тропической зоне столь близко к точке зенита», в то же время, очевидно, что «…речь идет только о таком движении небесной полусферы, которое можно наблюдать только на Северном полюсе». Другими словами, небесный свод вращающийся в параллельной плоскости земному диску, ограниченному линией горизонта, движется точно также, как вращаются в параллельной плоскости колеса повозки, а такое движение небесной сферы непосредственно наблюдать можно исключительно в приполярных областях.
В славянской астрономической традиции полярная звезда – альфа Малой Медведицы, по всей видимости, первоначально носила название «Стожар», что означало жердь, воткнутую в землю, вокруг которой кругами навивается сено. Позднее название «Стожары» распространилось на само созвездие Малой Медведицы, которое ранее, по мнению Б. А. Рыбакова, именовалось Лосенком, поскольку название Лось носила Большая Медведица [87].
На одном из петроглифов, обнаруженных на реке Поной Кольского полуострова, мы видим изображение лосихи с лосенком, при этом хвост последнего оканчивается знаком, представляющим из себя три окружности разного диаметра вписанные одна в другую (см. рис. 8). Этот знак, в данном случае означающий полярную звезду, практически равнозначен знаку, означающему полярную гору Меру на некоторых буддийских мандалах. И в этом нет противоречия: ведь и полярная звезда и Меру – символы Полюса.

Рис. 8: Прорисовка петроглифа, обнаруженного на р. Поной (Кольский полуостров), изображающего созвездия Большой и Малой Медведиц с Полярной звездой
Мы хотели бы также остановиться еще на одном потрясающем свидетельстве ведической традиции, позволяющем утверждать северное, полярное происхождение арьев. Речь идет о третьей строфе 76 гимна VII мандалы Ригведы, которая в подстрочном переводе Тилака звучит следующим образом: «Эти самые дни бывали многими, которые раньше восхода солнца, которыми за как к любовнику идущая Ушас была видна не снова уходящей подобная». Если мы возьмем на себя труд дать литературный перевод этой строфы, говорящей об Ушас, богине зари в ведической традиции, то результат не даст усомниться в том, что речь действительно идет о длительной заре циркумполярного региона, длящейся по многу «суток», представляющих собой полный оборот солнца, совершаемый им за 24 часа: «Дни, предшествующие восходу солнца, в течение которых постоянно («не снова уходящей подобная») была видна, как к любовнику идущая Ушас, бывали многими». Этим объясняются и другие пассажи Ригведы, где ясно говорится: «Богиня Ушас восходила в древности медленно и постепенно» (I, 113, 13) и то, что к ней прилагаются странное на первый взгляд определение шашват-тама, «наиболее затяжная» (I, 118, 11).
Имя Ушас родственно греческому Eos, латинскому Aurora, древнеанглийскому Eastre, литовскому Ausra и латышскому Austra, и восходит к праиндоевропейскому корню *Aust- со значением «рассветать». К тому же корню восходят обозначение сезонов года в русском языке: имеются в виду весна и осень. Т.о. в семантике сохраненной нашим языком весна и осень – сезоны рассвета, сезоны зари. Но заря есть и летом, и зимой, почему только весна и осень? Эта исключительная связь данных сезонов с зарей может наблюдаться только в одном поясе земного шара – циркумполярном регионе. Так русский язык сохранил память о древнейших временах, когда заря длилась помногу суток при том исключительно весной и осенью на прародине человечества – арктическом континенте.
В заключение можно сказать, что нигде не существующие ныне природные условия циркумполярного континента создавали совершенно особое восприятие мира у изначального человека: «…Нигде в нашем мире, – пишет Вирт, – опыт Света не является таким глубоким, как там, где противоположность Света и Тьмы, Дня и Ночи отчетливее всего. Только крайний Север знает Божий Год в полном единстве его противоположностей, в законе его возвращения, в бесконечном, вечном богатстве его движения, в котором постоянно возобновляется жизнь. Ни вечное лето тропических областей, ни бледные компромиссы южного, средиземноморского климата не знают этого переживания. Лишь одна единственная нордическая Зима, когда Свет Божий все глубже и глубже спускается в своем суточном пути, день укорачивается, ночь удлиняется, пока, наконец, Свет целиком не утонет в смертной тьме зимней ночи, чтобы потом снова прийти к новому подъему и пробудить от смерти всю Жизнь. Мистерия Зимнего Солнцестояния – священнейший и высочайший опыт нордический души. В нем открывается великий, божественный закон вечного возвращения. Закон, согласно которому, всякая смерть есть становление, и гибель ведет к Жизни через Свет Божий» [118].
1.3. Праязык и проторуны
Когда мы говорим об Изначальной традиции, то естественно речь идет только о более или менее верной реконструкции. Сама возможность такой реконструкции появилась в первую очередь благодаря успехам сравнительно-исторического языкознания (компаративистики). Восстановление звучания некоторых слов ностратического праязыка, относящихся к священной традиции древнейшего человечества, например личных имен персонажей, участвующих в древних мифах, культовой лексики и т.п., позволяет нам проводть их сопоставление с персонажами исторически более поздних традиций, в том числе и Православной.
Термин «ностратические языки» (от латинского nostratis, «наш, принадлежащий нам») был предложен в 1903 год датским лингвистом Х. Педерсеном для обозначения гипотетической супер-семьи, включающей в свой состав некоторые языковые семьи Евразии и Африки, связанные отдаленным языковым родством. Большой вклад в разработку этой гипотезы внес советский ученый сербского происхождения В. М. Иллич-Свитыч, который в 60-х годах прошлого века составил сравнительный словарь ностратических языков, включающий более трехсот пятидесяти слов. В качестве примера его реконструкции можно привести ностратическое определение «бури», bura «снежная буря»: семито-хамитское bwr «песчаная буря» (арабское barih «горячий ветер с песком»), индоевропейское bher «буря, бушевать»; уральское pura «мести снег» и purka «метель» (финское purku «вьюга»); алтайское bura/bora «буря, метель» (татарское buran «метель»). Причем родство между языками устанавливается только при сравнении реконструированных слов праязыков групп или даже семей. По этому поводу М. Т. Дьячок и В. В. Шаповал в одной из статей отмечают: «В истории языковых групп и языков отдельные слова претерпевали порой довольно значительные изменения, объясняемые действием законов языкового развития. Так, русское «рысь» и бурятское нохой «собака», казалось бы, не имеют ничего общего, однако этимологический анализ показывает, что на уровне праформ (индоевропейское *luk^– "рысь", ср. немецкое luchs, латинское lynx) и алтайское *loka/luka "рысь, песец, собака") эти слова обнаруживают несомненное родство» [39].
Работы Иллич-Свитыча фактически обозначили превращение гипотезы «ностратического языкового родства» в доказанную научную теорию. Трагическая гибель ученого в 1966 году оборвала его исследования, но заложенное им направление в лингвистике ныне интенсивно развивается: число обнаруженных лексических схождений между языками ностратической над-семьи составляет примерно 1200 корней и других морфологических конструкций. В настоящее время кроме ностратической языковой макросемьи (в которую включают индоевропейские, уральские, алтайские, дравидийские, картавельские и афразийские языки) и/или ее «бореальной» – урало-алтайско-индоевропейской ветви, выделяют также палеоевразийскую (сино-кавказскую) и более спорные в силу малой изученности – америндскую, палеоафриканскую и австро-тайско-австронезийскую суперсемьи; которые в свою очередь возводятся к диалектам единого человеческого праязыка (т.н. языка «турит»). В частности, американский ученый Хурен, приводит около двух десятков параллелей между ностратическими языками и языками американских индейцев, (например название собаки у американоидов и латинян: «kuni», и «canis» соответственно, или практически тождественное обозначение воды «aqua»), что по его мнению говорит о существовавшем некогда языке «Адама и Евы». Разделение этого праязыка на несколько ветвей и дальнейшее обособление языков с позиций арктической теории может быть объяснено миграцией носителей изначального полярного языка к югу, во время которой происходили не только процессы вытеснения автохтономного населения Евразии – палеоантропов, но и процессы метисации с ними, которые с необходимостью приводили к искажению изначального праязыка. В наиболее чистом виде он продолжал существовать среди рас, долго не покидавших земли циркумполярной прародины. Исходя из такого предположения, следует воспринимать понятия «общечеловеческий», «ностратический» и «праиндоевропейский язык» в какой-то мере равнозначными. С этим согласны и некоторые современные лингвисты, в частности Н. Д. Андреев подчеркивает, что «Раннеиндоевропейский язык (РИЕ) представлял собой главную ветвь бореального праязыка (БП)». Что касается грамматики, то этот праязык обладал агглютинативной структурой, и не имел флексий (окончаний). Как отмечает упомянутый автор: «Частей речи как таковых в БП не было; морфология в ее современном понимании – отсутствовала; единственным видом словообразования было корнесложение, т.е. соединение двух корневых основ в одно сложное целое… В начальном периоде своего существования, выделившись внутри БП как его самостоятельная ветвь, РИЕ праязык на протяжении долгого времени полностью сохранял эту унаследованную от БП типологию» [1]. Подобные взгляды на структуру изначального языка мы находим и у немецкого профессора Германа Вирта, который излагал их еще в первой половине XX века. Кроме того, благодаря трудам этого ученого мы узнали еще об одном источнике для реконструкции языка и Традиции изначального человечества.