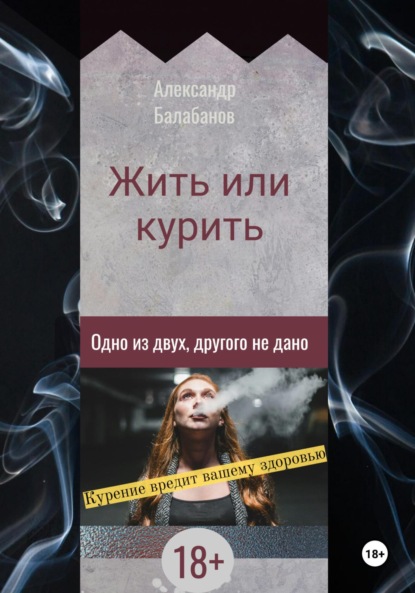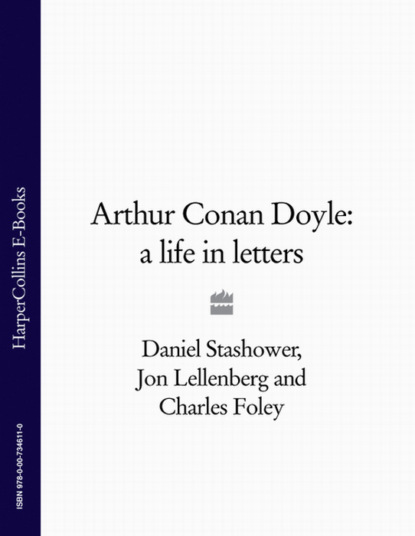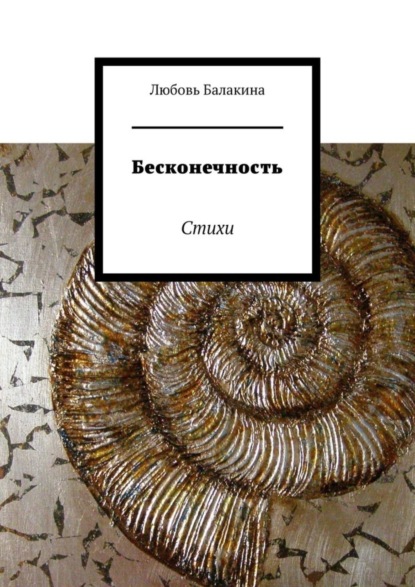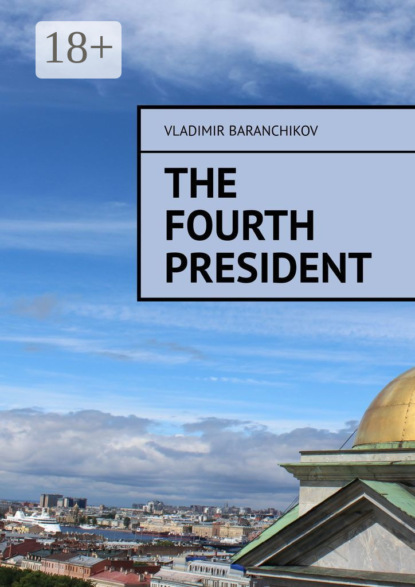От язычества к христианству. Путями последней Австразии
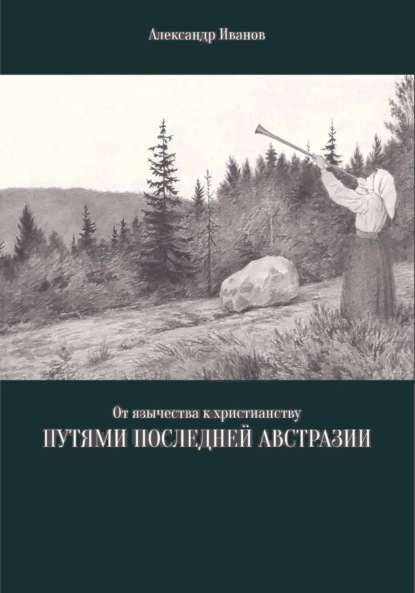
- -
- 100%
- +
Вирт исходит из того, что знак представляет собой более точный след, чем миф, так как зачастую он доступен нам в своей древнейшей форме, не претерпевшей каких-либо изменений на протяжении веков и тысячелетий, в то время как миф подвергается с течением времени многим переработкам. Подвергнув сравнительному анализу древние системы письменности, в частности германские рунические ряды, знаки крито-микенского, иберийского, берберо-ливийского, финикийского письма, буквенно-пиктографические элементы раннединастического египетского и шумерского письма, сакральные символы индейцев Южной и Северной Америки, палеоазиатских народов и др., он пришел к выводу, что в их основе лежит единый набор доисторических идеографических символов, который прослеживается в эпиграфическом материале вплоть до Каменного Века. Причем уже тогда набор этих «прото-рунических» знаков представлял собой законченную и внутренне логичную систему, хотя в дошедших до нас наскальных рисунках и орнаментальных изображениях на древних орудиях труда она представлена в искаженном и отрывочном виде. Эта фрагментарность археологических данных находит свое объяснение в ряде объективных причин. Во-первых, все находки, сделанные на территории Европы, датированные бронзовым и поздним каменным веком, относятся к отдаленной периферии изначального культурного круга (Thulekulturkreis), центром которого (Urkulturzentrum) являлся древний Арктический континент. Во-вторых, по мнению Вирта в эти древнейшие времена могла существовать традиция нанесения священных знаков на древесную основу, а в этом случае само существование палеолитических изображений в виде петроглифов объясняется не устойчивой традицией, бытовавшей среди древнейших людей, а случайными девиациями в ее рамках. Анализ настенной росписи в виде линейных знаков (известной в частности из пещеры Ла-Мадлен на юго-западе Франции), датируемых в 9–12 тыс. лет назад, позволил Вирту уже в 1928 году заявить, что «…речь идет о частях «священного ряда", алфавита, который в этот период позднего палеолита еще продолжал использоваться в своем первоначальном назначении, то есть как календарь, как знаки месяцев солярного годового цикла, общие для культур северо-атлантического типа» [118]. Причем форму древнейших идеографических символов возможно объяснить лишь феноменами движения Солнца, которые доступны для непосредственного наблюдения только в Заполярье, из чего следует их порядок, связанный, как уже указывалось, с календарным значением в рамках Арктического года (см. рис. 9). Подводя итог своим исследованиям, предпринятых в этом направлении, Вирт пишет: «В Арктике и Северной Атлантике в рамках единого прото-культурного круга удалось совместить календарную и космическую иероглифику. В ее основе лежит Бого-переживание во времени и пространстве, постижение Мироустройства – Меры всех вещей. Это Мироустройство проявляется через вечное Круговращение. Эта Мера, через которую проявляет себя Мировой Дух, Творец и Владыка Мира и через которую обнаруживает себя Миропорядок – есть Солнце» [120].

Рис. 9: Свастический орнамент на верхнепалеолитических находках
Из этих календарных знаков древнего нордического (altnordisch), «Божьего года», по мнению Вирта развились все системы письменности в мире: «Как сегодня мы передаем знания через письмо, так некогда само письмо возникло как передача высшего Знания о Божественном Откровении во Вселенной, Знания о годовом пути "Света Мира", идущего от Бога» [118].
Вирт первым из представителей академической науки заговорил об изначальном монотеизме, который был присущ Священной Традиции изначальной северной расы. Определяя его сущность, он говорит: «Северо-атлантическим Мировоззрением и его Бого-переживанием (Gotteserlebnisses) являлась вера в Бога-отца, "Великий Дух", Мировой Дух, который находится по ту сторону времени и пространства. Он обнаруживает себя во времени и пространстве в космическом вращении, великом Всемирном Законе, нравственном Миропорядке: он являет себя, как "Сын". Отец обнаруживается и действует через Сына, который в особенности проявляется, как сущность этого космического Миропорядка, вечного Возвращения, в Годе. Год – это явление Бога, Мирового Духа его Сыном» [122].
Этот «северо-атлантический» год, связывающий воедино пространство и время, может рассматриваться с двух точек зрения. Во-первых, как результат наблюдения точек восхода и заката солнца на линии горизонта. В этом случае мы можем заметить, что на пути от зимнего к летнему солнцестоянию они смещаются все дальше от точки юга по направлению к востоку и западу. Круг Коловращения, представляющий собой сочетание полукруга или дуги, которую описывает солнце на протяжении суток над горизонтом, с ее предполагаемым продолжением ниже уровня горизонта, приобретает все больший диаметр. Отсюда проявляются символы окружностей, вписанных друг в друга, лабиринта или спирали, которая иногда в стилизованном виде зооморфного рисунка предстает как извивающаяся змея (см. рис. 10).

Рис. 10: Мегалит из Южной Англии с характерными символами в виде спиралей, отображающими годовой путь солнца
Непосредственно после зимнего солнцестояния, в начале своего пути на север солнце описывает небольшую дугу над точкой юга. В изначальном мифологическом комплексе «Наименьшая дуга, описываемая Солнцем в Юле (Jul) или месяце зимнего солнцестояния (декабрь)

, – говорит Вирт, – представляет собой изгиб смертоносного "Змея". Сын Божий должен одолеть его как носитель "Света Мира" (древненорвежское landa ljуme) оживив солнечный свет, как и все живое от смертного сна» [122]. В скандинавских рунических рядах этот знак имеет огласовку Ur, что близко к наименованию Нового Года у германцев – Ule; и имени божества Ullr. Этот знак может представать в формах, графически напоминающих корни дерева

, отсюда устойчивый мотив змея, скрывающегося у корней мирового древа, известного как из праиндоевропейской, так и из библейской традиции, где оно выступает как «Древо познания добра и зла».
Во-вторых, в северных широтах можно наглядно наблюдать, что на пути от зимнего к летнему солнцестоянию точки максимального подъема солнца (зенита), поднимаясь все выше и выше над горизонтом, одновременно смещаются по направлению к северу. Наблюдение восходящего и нисходящего движения солнца на протяжении года обусловило появление знака, представляющего собой окружность, через середину которой проходит вертикальная ось, разделяющая ее на две половины. Верхняя точка пересечения этой вертикальной оси с окружностью означает север и одновременно летнее солнцестояние, где солнце достигает максимума своего подъема; в то время как нижняя, юг и зимнее солнцестояние, точку, к которой спускается солнце в осенне-зимней половине года (см. рис. 11). Вирт отмечает, что «…в старо-лопарской шаманской культовой символике Сын Божий появляется со знаками ᛰ и

как обозначениями Года и Солнца, в том же виде и значении, как они являются нам почти на 1000 лет раньше в англосаксонских и скандинавских рунических знаках времени великого переселения народов. С теми же символическими изображениями, как знаками, обозначающими Сына Божьего, мы встречаемся уже в доисторических наскальных рисунках Скандинавии, относящихся к позднему каменному и бронзовому векам. И не кто иной, как Он является нам в доисторических наскальных рисунках Северной Америки» [122] (см. рис. 12).

Рис. 11: Схемы Вирта, поясняющие происхождение и структуру изначального северного календаря

Рис. 12: Знак года в различных этно-географических изолятах [120]
Довольно часто знак «Года» предстает в «расколотой» форме. В трактовке голландского ученого знак раскалывается, поскольку его верхний и нижний полюса обозначают точки солнцестояний, в которых происходит разрыв времени: нисходящее движение солнца сменяется на восходящее и наоборот. Особенно важна точка зимнего солнцестояния: в этот момент происходит великая мистерия смерти арктического Света и следующего за ней неминуемого воскресения. Это наиболее священное время Года, – время, которое содержит в себе великую тайну вечности. Миг, в котором приоткрывается то, что находится за пределами нашего мира, где вне времени заключено все время целиком, весь Год. Поэтому часто иероглиф «Года» относится именно к точке зимнего солнцестояния, изначальному Новому Году.
Одна из частей раскола иероглифа года, взятая отдельно ᚦ, в англо-саксонском руническом ряду носит наименование Thorn, что означает «шип», а в скандинавских вариантах Младшего Футарка Thurs, и фонетически передает отсутствующий в русском языке звук [th]. От той же прото-руны происходит, в частности, и латинское D. По мнению Вирта ᚦ: «Это Thor или Thur скандинавских Рунических камней, Тор (Thor) Эдды, Сын Отца-всего-сущего (Allvater) и Земли, Бог Молота (Топора) и Года скандинавского народного календаря. Поэтому "Сын Земли" из Эдды, равно как и рожденный Матерью Землей (terra editus) Tuisco, Tiwisko, "Сын Бога" (Tiu- или Tiw-), в предшествующем ей на тысячелетие сообщении Тацита, который пересказывает древние предания народов Германии, как «Бог Года» именуется «Двойным», Tuisto» [122]. Иногда между частями раскола поставляется новый знак в форме восьмиконечной звезды или креста, как например на шумерской печати, где бог Эа сидит на троне между двумя P, а из его плеч течет вода жизни. Над ним знак в виде 8-конечного креста, в семито-аккадском варианте обозначающий ilu, «бога». Ту же самую форму раскола первоначальной идеограммы, означающей Год мы видим на наскальном рисунке из Калифорнии, где эти знаки сопровождает изображение солярного божества (см. рис. 13).

Рис. 13: «Расколотый» знак года на шумерской печати и петроглифе из Калифорнии [120]
Восьмиконечная звезда – это сочетание древнейшего прямого креста (т.е. разобранного нами изначального знака «Года» с дополнительной поперечной перекладиной, отмечающей точки весеннего и осеннего равноденствий) с косым («Андреевским») крестом, отражавшим реалии нового места обитания прото-расы, расположенного южнее изначальной прародины (по Вирту, в «северной Атлантике»), где верхние концы, указывающие на северо-восток и северо-запад, отмечают точки восхода и заката солнца во время летнего солнцестояния, а нижние, направленные на юго-восток и юго-запад, указывают на время зимнего солнцестояния. Синонимичной этому знаку является шестиконечная звезда, в которой отсутствует весенне-осенняя линия Восток-Запад, несущественная для северных широт (см. рис. 14).

Рис. 14: Восьмиконечный крест у разных народов [120]
Этот шестиконечный крест, который можно представить в другой форме в виде знака

, который в силлабическом крито-микенском письме В имеет огласовку Pa, Fa, Ba. Одна из частей расколотого варианта той же идеограммы

, с расположенными под углом поперечными линиями, наклон которых дополнительно указывает на то, что речь идет о весенней, восходящей части годового цикла, в скандинавских рунических рядах служит для обозначения звука [F] и именуется Fe. Наименования обоих знаков восходят к протосеме *Pa, которая в качестве корневой основы входит, в частности, в индоевропейское слово *Pa-ter, «Отец», понимаемое среди прочего, как эпитет Верховного Бога, а первоначально первопричины, обнаруживающей себя в годовом солярном цикле, как Сын Божий.
«…Когда он /Сын – А. И./ воскресает, возрождается в Середине ночи, Матери Года (Mitter- oder Mutternacht), в Юле или Новому году, в точке зимнего солнцестояния, – пишет Вирт, – он появляется с поднятыми руками. В германском руническом письме знак, который означает в англосаксонском man, в древнескандинавском madr, «Человек» сохранился в угловой форме ᛉ, возникшей в связи с практикой резьбы по дереву» [122]. В других формах та же прото-руна может появляться как

. Что касается огласовки знака, то по этому поводу в другой своей работе Вирт пишет: «На северо-атлантическом изначальном языке Na, также как его удвоение Nanna означало «камень» и «мать», (а затем было изменено в Ma, Mamma, а также в Da у дорийцев и Dana у иберийцев-ирландцев). Человек порожден Матерью и Камнем, которые вместе дают Ma-na, manu, mino (Minnos, men, mens, menhir, и т.д.). Как Мать, Рея Кибела именуется также Ammas, что соответствует норийскому Amma "бабушка" и что в баварском диалекте в форме Amme означает «мать» [118]. Таким образом, можно говорить о том, что семантическое поле *Ma, *Na, их удвоений или метатез, включает в себя идею материнства и человеческой природы вообще; отражая широкое понятие наиболее «плотного», «тяжелого» уровня мироздания, или другими словами, всего материального плана и его наиболее характерных классификаторов (камень, земля, низ, корни древа и т.п.). В виде корня эта прото-сема входит в индоевропейское *Ma-ter(-tra), «Мать»: «Речь идет здесь о древнем тезисе атлантической религии и ее культового языка, о том, что в «Воде», в «Материнском доме», «Земле», там где находятся корни Древа Жизни… родился "Сын Божий", «Человек». И как сам «Человек» (Mensch), так и все «Люди» (Menschen), его дети, рождаясь, получают его «Дух», «Дыхание», «Уста», способные к «Речи». [118].
Знак, обозначавший восходящее движение Сына Божьего, известен также в форме

(см. рис. 15). Он просматривается, в частности в египетском изображении «Ka», которое представляет собой человека с поднятыми и согнутыми в локтях руками, или в виде линейного знака

. Ка – часть души человека, определяющая его судьбу, с которой связана идея божественного происхождения фараона и его грядущего после смерти воскресения.

Рис. 15: Гипсовый слепок, выполненный Г. Виртом во время одной из его экспедиций в Скандинавию (Швецию)
По-видимому, идея юного народившегося Бога, «Света Мира», воскресшего в зимнем солнцестоянии, лежит и в основе реконструируемого для ностратической надсемьи уменьшительно-ласкательного суффикса -*ka, восходящего к одноименной изначальной протосеме. Иногда Ka изображается с солнечным диском,

.
Идея восходящего солнца, египетского

«Ra», является основным семантическим содержанием прото-руны

, которая послужила прообразом для знака, обозначающего звук [r] во многих алфавитных системах письменности.
Достигнув своего наивысшего положения на небе в точке летнего солнцестояния, Сын Божий, предстает с распростертыми в виде креста руками или как «безрукий» I, т.е. в виде знака, имеющего в большинстве систем письменности огласовку [i]. Его наименование в германских рунических рядах совпадает с протосемой *Is, что объясняется связью этого знака с упомянутой ранее руной

, Sol («Солнце») которая следует вслед за I [i] и передает звук [s].
В реконструкции современных лингвистов корень, *s(a)wel-, послуживший основой индоевропейским обозначениям солнца, происходит от сочетания двух прото-корней *su -*il. Первый из которых представлен в славянских словах «свет», «святость». Второй в форме *Ilma вошел в наименование обожествляемого «воздушного пространства» у финских народов, а также, послужил основой для обозначения «Бога» в хетто-хурритском (Ilim, во множественном числе Ilani) и семитских языках (Il, El, Ilu). Первоначальное значение этого ностратического пра-корня: «свет», «белизна», «огонь»; а солнце в контексте изначального языка – это «Благой Свет», исходящий от Бога.
В осенней половине года, в своем нисходящем движении на пути от летнего к зимнему солнцестоянию Сын Божий предстает с «опущенными руками» в виде знака ᛏ, в германских рунических рядах называемого Тюр (Tyr у скандинавов, Tir у англо-саксов), что соответствует имени скандинавского божества, в более архаичных вариантах германской традиции носящего имя Ziu или Tiu, которое через посредство прагерманского *Tiwas, по мнению современных лингвистов, восходит к индоевропейской основе *Deiuo, одновременно означавшей «небо» и «Бог». Вирт считал, что ту же древнейшую основу содержит название второй волны завоевателей Ирландии, пришедших с севера. Их самоназвание Tuatha De Danann, «Народ богини Дану», происходящее от сочетания *Tu – Ath, (по Вирту, «Божье Дыхание»), послужило основой для обозначения понятий «Народа» и «Страны» не только в ирландском, но также и в литовском tauta, древнесаксонском thiod, а на Севере Италии в оскском touto и умбрском tota. Позднее этот народ, «носитель Святого Духа», согласно ирландским преданиям, удалился в курганы и был прозван fir side, «люди холмов». Современной науке эти «холмы» известны как мегалитические захоронения, которые встречаются равным образом как в Ирландии, Великобритании, Скандинавии, так и на северо-западном побережье Франции, атлантическом побережье Пиренейского полуострова, и в более ограниченном масштабе вплоть до Северной Африки и Северной Палестины[16][1].
Расположив руны по ходу годового солнечного цикла, Вирт пришел к выводу, что знаки, соответствующие вершине годового круга, летнему солнцестоянию, имели огласовку, содержащую гласный [i]. Знаки середины зимы оказавшиеся внизу годового круга, имели фонетическое значение [u], и после Нового Года огласовку [a] (см. рис. 16). Вместе они дают нам фонетическую формулу *Aiu или *Iau (Jau, Yau), а в сокращенных вариантах: Iu, Ia (Ju, Yu, Ya(h), Ja). Она входит в состав теоморфных имен и важнейших метафизических определений, связанных с вечностию и неиссякаемой жизненной силой, в самых разных языках и традициях: «Круговое движение, – пишет Вирт, – начинается с [а], достигает наивысшей точки в [i] и заканчивается в [u], чтобы потом вновь возвратиться в [а]. Это a-i-u – одно из самых прекрасных слов в прарелигиозном индогерманском культовом языке, означающее жизнь, течение жизни, долгое время, вечность. Так, древнеиндийское ayu – жизнь, авестийское ayu – течение, век, древнеиндийское ayus – жизнь, время жизни, жизненные силы, греческое aion – время жизни, вечность, латинское aevum – время жизни, век, бесконечность, готское aiws – время, вечность, древневерхненемецкое, древненижнефранкское ewa – вечность» [119]. В несколько отличной и, несомненно, более искаженной форме та же протосема реконструируется современными лингвистами для алтайского праязыка, как *oje, в значении «срок жизни», «век». Шумере и Древнем Египте основа Ia появляется в значении «высокий, выдающийся, величайший».

Рис. 16: Различные варианты германских рун и их календарно-географические соответствия (слева) и схема основы древнейшего рунического ряда с примерами прорисей наскальных рисунков (справа)
У индоевропейцев, еще в период их общности, эта формула при аффикации ларингиала дала обозначение «Бога-Отца» *Deiuo (от нее, в частности, происходит имя римского верховного божества Ju:piter – вариант Jovis Pater, «Отец неба», вторично утратившее согласный в начале слова); сюда же относится и имя Бога в древнееврейской традиции, которое Климент Александрийский, святой Иероним и Ориген передают как Jao; а самаритяне, Епифаний и Феодорит – Jahe.
Особенно устойчивыми в архаичных языках оказываются сочетания звонких согласных с [i], а глухих и придыхательных с [u] и [a] соответственно (впрочем, последние две группы согласных часто смешиваются). Подобным переходом звонких согласных в глухие и наоборот, в зависимости от места занимаемого ими в годовом календарном круге объясняются различные варианты реконструкции прото-корней, имеющих сходный смысл. В качестве иллюстрации (на примере зубных согласных) можно привести сравнение бореальной протосемы *Dy (в реконструкции Н. Д. Андреева означающей «день, при дневном свете, всматриваться», от которой происходит индоевропейское наименование «Бога» и «Дневного, сияющего неба») с *T(i)u, именем Сына Божьего, в осенней нисходящей половине Года, в реконструкции, представленной у Вирта.
Что касается сонорных звуков, то такой четкой закономерности в их распределении не наблюдается, при этом носовые ([m], [n]) часто взаимно переходят друг в друга, равно как и боковые согласные ([l]) в дрожащие ([r]) и наоборот. Также ностратическое [l] в языках афразийской ветви может переходить в [nh]-[n][17][1].
Как мы показали, изначальные протосемы, согласно Вирту, представляли собой сочетание согласного с гласным (или наоборот) и отражали наиболее широкие понятия, не имеющие аналогов в современных языках, которые правильнее было бы назвать сакральными архетипами, эйдосами, лежащими в основе всех вещей, т.е. Божественной Мыслью, запечатленной как во всем мироздании, так, в частности, в календаре, звуковых комбинациях и обозначающих их линейных знаках. Фактически о том же говорит Святой Серафим Саровский: «Когда Господь повелел ему /Адаму – А. И./ нарещи имена всякой твари, то каждой твари он дал на (своем) языке такие названия, которые знаменуют вполне все качества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет по дару Божьему, дарованному ей при ее сотворении» [4].
Отголоски памяти об этом языке сохранялись как общеиндоевропейская мифологема о «языке богов». У Гомера мы находим даже конкретный пример: он говорит о том, что греческое αιμα, «кровь» на языке богов звучит ιχορ, что близко к хеттскому обозначению крови ishar. Это, конечно, не говорит о том, что греки обожествляли хеттский язык, но слово, некогда служившее определением «крови» у индоевропейцев и утраченное в греческом языке, сохранилось в более архаичной форме у хеттов. А значит, «язык богов» – это язык предков, звучавший некогда из уст изначальных людей на далекой северной прародине.
Позднее, по мере усложнения языка, происходило забвение первоначального значения проторун. Причем в процессе распада прото-письменности с определенной долей условности можно выделить несколько наиболее важных векторов. Там, где после утраты семантики проторун, осталась память об их огласовке, появилась силлабическая (слоговая) письменность и параллельно с ней консонантная (в тех языках, где значение гласных невелико, и где они легко взаимозаменяются). А там, где в первую очередь произошла утрата фонетического значения, огласовка проторуны изменилась по принципу внешнего сходства ее начертания с изображениями животных, людей и т.п. Одновременно и само начертание знаков усложнялась за счет придания ему сходства с конкретным предметом, который он стал означать, – такое происхождение имеет иероглифическая письменность. В этом процессе большую роль сыграла и особенность древнейшей палеолитической традиции, касающаяся записи проторун: они редко комбинировались через последовательное расположение знаков в виде «строки» или «колонки», а чаще представляли собой монограммы, т.н. «вязанные руны», сохранявшиеся у скандинавов вплоть до средневековья.
Все эти процессы можно обозначить как профанизацию проторунической системы, утрату ею своего первоначального, сакрального значения. В некоторых случаях разрушение изначально четкой связи фонетики и семантики приводило к тому, что проторуны превращались, напротив, в сугубо сакральные и (по мере упадка традиции) магические знаки, использовавшиеся с целью гаданий. Это произошло, в частности, у северных индоевропейцев – германцев, балтов, славян[18][1]. К использованию рун в качестве письменных знаков германцы вернулись только в эпоху раннего средневековья под влиянием северо-италийских алфавитов. Что касается славян, то уже после крещения Кирилл и Мефодий создали азбуку, на основе греческого алфавита, оставив впрочем, в несколько измененной форме, древние названия «черт и резов», с помощью которых, – согласно сообщению черноризца Храбра, восходящего к IX веку, – древние славяне «считали и гадали»[19][2]. Ведь даже если не вдаваться в подробности, то уже при беглом взгляде на названия букв славянской азбуки мы можем уверенно констатировать, что большинство из них находит четкие параллели в наименованиях германских рун: As – Азъ, Fe(hu) – Буки, Iss(a) – Иже, Nyt – Наш, Gebo – Живете, Madr («Человек») – Мыслете (при др.инд.-евр. *man, «мысль»), Sol – Зело, Hagal – Глаголь, Rad – Рцы (т.е. r(ъ)tsi), Thurs – Твердо, и предположительно: Jera – Херъ, Pert – Фертъ. Различия между ними не превышают степени различия германских языков со славянскими и даже ненамного превосходят разницу наименований древних германских рун и рун искусственно созданного Ульфиллой (IV в.) готского (восточногерманского) алфавита.