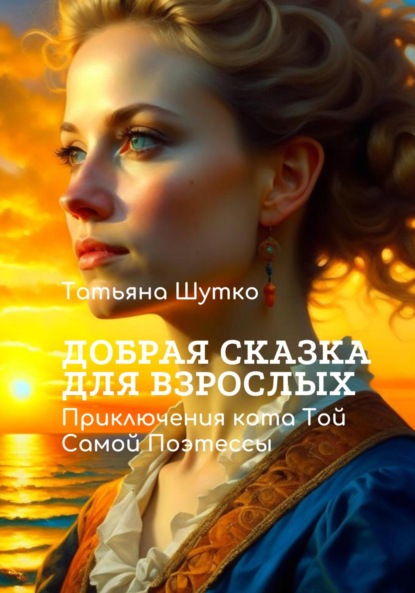Бункер (записки Аллана Рамсэя)
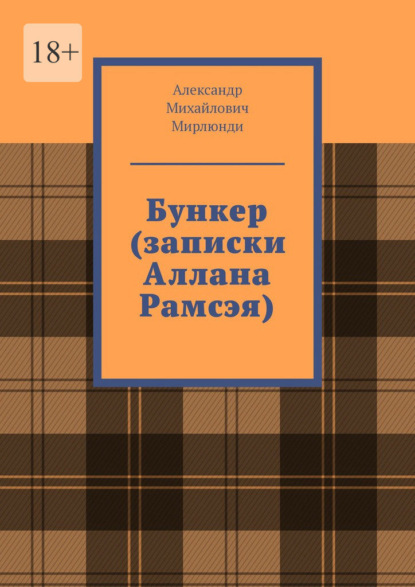
- -
- 100%
- +
Когда в школе я попросил называть меня не Гиши, и Алланом, все сочли это за мою очередную странность. В школе меня вообще считали человеком странным. Очень странным. У меня даже друзей там не было. Через какое-то время моего отца вызвали в школу. Вопросов по моему поводу было много. Почему такой прилежный ученик с хорошими отметками почти не находит тем со сверстниками и учителями, почему совершенно не увлекается точными науками, а отдаёт предпочтение второстепенным и не самым важным урокам истории и обществоведения, и совсем неважному уроку литературы? Почему ставит в тупик своими вопросами учителя компромиссов? А главное, откуда у него такая любовь к допотопью, а не к современному миру? Биче жёстко сказала отцу, что его сын это и её сын. И поэтому в школу за него пойдёт она.
В первый день недели я не сел в школьный аэробус, а вместе с Биче полетел в Будапешт на её геликоптере. Мы сидели в кабинете у Сальникова, человека без фамилии, названного, в свою очередь в честь фамилии героя Последней Войны генерала Сальникова. Кто-то из его дедушек-прадедушек воевал под командованием этого прославленного победителя капитализма. Сальников был единственным из всех учителей, с которым можно было поговорить о допотопной культуре и литературе. Он даже знал, хоть и смутно, о существовании Шотландии. В обществе уже довольно давно выводится из употребления слово «лучший» применительно к человеку, так как данное слово чересчур выделяет человека, заставляет его думать, что он в чём-то выше других, и унижает других людей, чувствующими рядом с ним ущербными. Но Сальников действительно был, наверное, лучшим учителем в школе, обладавший многосторонними знаниями, и в высшей степени знавший и понимавший свой предмет. Он был учителем биологии. И я был его любимцем. Я шёл хорошо почти по всем предметам, в том числе и по точным наукам. Если бы у нас в школах, как раньше, ставились так называемые «оценки», то, наверное, я был бы одним из «отличников». Но мне была глубоко скучна алгебра. К геометрии я потерял интерес буквально через несколько уроков. К физике-через нескольких месяцев. К химии относился с уважением благодаря одной моей страсти кроме гуманитарных наук. И страстью этой была биология. И наконечником этой страсти-генетика. Я помню, как первый раз посмотрел в микроскоп. Это было примерно тоже самое, что я испытывал от выдающихся произведений литературы или музыки. Или как ошеломление от игры Гвидо Альбертини. Аббревиатура ДНК звучала для меня почти так же, как Данте, а словосочетание «нуклеиновые кислоты» напоминало музыку Баха. Я не пропускал ни одного занятия, и даже был в факультативном кружке, где были собраны мальчики и девушки, думающие о том, что в будущем они будут связаны с генной инженерией, биофизикой, или другими прекрасными профессиями. Но в последний год страсть моя, под влиянием гуманитарных наук как-то поутихла. Литература и музыка всё больше и больше вытесняли из меня трансляции и функции клеток. Потихоньку я стал посещать кружок только ради Сальникова, чтобы не огорчать его, но, конечно, не мог скрыть, что теряю интерес к его предмету. В итоге я перестал посещать факультатив, чтобы просто лишний раз не видеть страдающие глаза этого замечательного учителя, потерявшего одного из самых перспективных учеников.
Сальников, как и ожидалось, сразу стал говорить о том, что мне ни в коем случае нельзя терять интерес к биологии, так как из меня в будущем может вырасти «гордость мировой генетики». Биче сказала, что сейчас такой возраст, когда надо выбирать или-или, так как совмещать это вряд ли получится, одно будет мешать другому. Сальников пытался возразить, сказав, что крупный допотопный писатель Чехов был прекрасным врачом, а отличный композитор Бородин крупным химиком. Биче сказала, что если бы я был бы русским, то, наверное, смог бы это совмещать, но я не русский. Сальников стал возмущённо говорить, что в современном мире нет национальностей, а если и есть, то все они равны, и я могу пойти по пути этих двух прекрасных людей. Биче ему ответила, что, если все национальности равны, то все люди разные, и не всем дано заниматься совершенно разными науками, и что ей, Биче, придётся перевести меня в гуманитарную школу, чтобы я сконцентрироваться на любимых предметах, а не был принуждаем к тому, к чему охладел.
Потрясённый Сальников через долгую паузу тихо сказал, что в первую очередь надо спросить у меня, хочу ли я перевода в гуманитарную школу. Я закрыл глаза, и сказал, что очень хочу перейти в гуманитарную школу. И добавил, что не могу больше смотреть на мучения Сальникова, который страдает от моей всё увеличивающейся холодности к его предмету, и не могу ничего сделать с этим охлаждением.
Ничего…
Когда мы выходили из школы, Сальников смотрел на нас из окна. Он стоял в проёме пожилой, седой, и какой-то сморщившийся. Я помахал ему рукой. Он, в свою очередь, помахал рукой мне. Мне стало очень жалко моего учителя.
Примерно через полгода я узнал, что Сальников умер.
4.
18 августа: – 49/29 и 13/7… 49/29 и 13/7… 49/29 и 13/7… Я не могу привыкнуть к этим цифрам. Я не могу привыкнуть к тому, что случилось. Я не могу привыкнуть к круглосуточному шуму дождя. Я не могу привыкнуть, что вода всё поднимается и поднимается. Я не хочу в это верить. Я не хочу верить во всё это. И больше всего не могу свыкнуться с мыслью, что может быть, именно МОЖЕТ БЫТЬ, что Фергуса и всей его семьи нет на этом свете. А сегодня Эйлис кричала, что их нет, и она это точно знает.
Не могу писать.
22 августа: – Сегодня у Эйлис день рождения. Как несколько дней назад она закричала, что Ферги с семьёй больше нет, как упала в беспамятстве, так больше в себя и не приходила. Сидел сегодня у неё возле постели, держал мою голубку за руку, и гладил её. Шеймас сидит рядом на банкетке, и, в свою очередь, гладит по голове тихо плачущую Абигейл. Они уже обнимаются без стеснений. Время от времени он что-то шепчет Абигейл на ухо, и целует в мокрую щёку. Я ничего не говорю. Начинается большая неделя дней рождений, которые мы всегда встречали все вместе, последние дни лета, самые мои любимые дни отпуска и года. Завтра день рожденье близнецов. А послезавтра вековой юбилей у бабушки Гленны. А потом Абигейл, Шеймас и Томас. А дождь всё идёт, и вода всё поднимается. И Клайд снова завыл. Всё воет и воет…
ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС!!!
1 сентября: – Сегодня ровно месяц с ТОГО дня, и дождь всё хлещет и не прекращается. И вода поднимается. Я буду писать. Я буду писать и вспоминать. Вспоминать…
Деда своего, Джона Рамсэя, человека, сделавшего всё благосостояния нашей семьи, я не застал. Я родился, когда он уже несколько лет был в могиле. Отцу дед говорил, что он человек двадцатого века, и чувствует, что даже «и не заступит и полшага за порог двадцать первого». Так оно и произошло. Не дожив до нового тысячелетия буквально несколько месяцев, дед, оставив своему сыну огромное состояние, скончался тихо, во сне, от остановки сердца.
Дед мечтал, что его любимая жена, моя бабушка Гленна, будет рожать через девять-десять месяцев после рождения очередного ребенка. Дед хотел большую семью. Но на деле всё оказалось иначе. Бабушка никак не могла забеременеть. Сдали анализы. Виной бездетности оказался дед. Это привело его в отчаяние. Не отличавшись до этого излишней религиозностью, дед ночи напролёт читал молитвы и делал большие пожертвования в пользу пресвитерианской церкви. Убрал из своей жизни алкоголь. Бросил курить. Стал вегетарианцем. Стал приверженцем гимнастики и массажа.
И бабушка Гленна забеременела! Бабушка говорила, что дед, до этого не гнушавшийся в разговоре употребить то или иное лихое слово, совершенно перестал браниться в период её беременности. Перестал ругать даже подданных. Я был знаком с работниками, помнящими дедушку, и они как один говорили, что в это небольшое время он производил впечатление какого-то святого человека. Прям какого-то Франциска Ассизского. И бабушка родила мальчика. Но тяжёлые роды дали последствия, после которых она больше никогда не могла иметь детей. Это крайне расстроило деда. Расстроило до такой степени, что он снова стал употреблять алкоголь, как и в прошлом, выкуривал по две пачки в день, снова стал кушать любимые стейки с кровью, забросил гимнастику с массажем, и, как и прежде, в подручных снова полетели слова ругательства, и дед уже не напоминал им Франциска Ассизского.
Его единственный сын, мой отец, родился 25 июля 1980 года, во время летней Олимпиады. Именно в этот день великий шотландец и уроженец Эдинбурга Аллан Уэллс выиграл в Москве золотую медаль, пробежав стометровку за 10,25 секунды. Дед очень хотел назвать отца Алланом, но бабушка Гленна настояла на том имени, о котором они договорились заранее, если родиться мальчик. В те времена заранее невозможно было определить пол ребёнка.
Отца назвали Робом. Но всю оставшуюся жизнь дед не забывал, в какой день родился его сын. «Ну что, вы готовы к забегу, Аллан Уэллс?» – спрашивал дед отца перед школьными экзаменами или скаутским походом. В отличие от великого спортсмена, отец никогда не брал золото ни на каких дистанциях. Он не входил не только в тройку призёров, его бы, говоря спортивным языком, вряд ли подпустили бы даже к районным соревнованиям. Скверно учился в школе. О поступлении в престижное высшее заведение не было даже и речи. Финансовый колледж, куда дед устроил отца, тот окончил кое-как. Главным его институтом был сам дед, который с ранних лет внедрял отца в положение семейных дел, учил правильному вложению акций, диалогу с подопечными, управлению заводами и так далее. То, что отец понимал хоть что-то в бизнесе, являлось заслугой деда, а не отца, который и не скрывал этого. Отец даже говорил, что если бы вместо него дед учил вести дела сосновое полено, то скорее всего, полено вело дела поумнее его. Последними словами деда были: «Ну что, вы готовы к забегу, Аллан Уэллс?», сказанные с такой иронией, в которых отцу послышалось: «Надеюсь, ты не просрёшь наше состояние, сынок?».
Главным достижением отца в финансовом колледже, которое он с грехом пополам окончил после смерти деда, был отнюдь не диплом с посредственными оценками, а знакомство со своей будущей женой и моей матерью Сьюзен, которая уже на втором курсе подарила отцу моего старшего брата Уэллса, названного в честь победителя Олимпиады, и которого, в отличии от меня, успел потискать дед. За год до окончания колледжа произошло прискорбное событие мирового масштаба, так или иначе связанное с нашим нынешнем пребыванием. Одиннадцатого сентября две тысячи первого года самолёты с террористами врезались в здания Всемирного Торгового Центра, находившегося в Нью-Йорке. Погибло очень большое количество народа. В том числе и некоторые наши родственники со стороны сестры деда, возглавлявшие филиал нашей фирмы в Америке, находившиеся в это время в своём офисе, на одном из самых верхних этажах одного из зданий. Это потрясло отца. Он перенёс офис нашей фирмы из лондонской высотки в елизаветинский особняк в Белгравии, и, как вспоминала бабушка Гленна, и без того замкнутый, отец совсем замкнулся в себе, и мог сесть в самолёт, только прилично выпив перед этим. Близких друзей у отца и так не было, а от немногочисленных приятелей он совсем отдалился. После падения небоскрёбов вовсю пошли разговоры о грядущей ядерной войне, в которой можно выжить только в глубоком бункере. Стали появляться предложения. Богатые люди скупали бункеры. На боязни одних другие заработали огромные деньги. Среди боявшихся был и отец. Вступив в право наследника, отец купил маленький остров в архипелаге Гебридских островов к северу от Ская, в нескольких десятках километрах от восточного побережья Льюиса-энд-Гарриса, почти полностью состоявшей из скальной породы. В самой высокой его части стали пробивать широкую шахту внутрь скалы, шахту, ставшую основанием бункера. К этому времени я уже появился на свет. Сам бункер и шикарный каменный дом над ним стоили отцу более трети состояния, и это не считая яхты, катерков, площадок для отдыха и вертолётов и вырубленных лестниц и лесенок, этаких скальных дорожек и тропинок. Над отцом открыто смеялись. Сейчас, когда я сижу в JR, и пишу эти строки, я особенно понимаю смысл пословицы «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним». Остров отец назвал Джон Роб, соединив в названии имя своё и своего отца. В жизни полное название почему-то не прижилось, и называли его по инициалам, JR, Джей-Эр. Однажды учительница в школе поинтересовалась у брата, как он проведёт уик-энд. Брат сказал, что полетит с семьёй на остров Джей-Эр. В понедельник мы с отцом, который привёз нас в школу, повстречали у крыльца учительницу брата, которая совершенно искренно спросила, как мы провели время на Джейн Эйр. Отец моментально среагировал, и сказал, что Джейн Эйр осталась довольна. Это был единственный момент, когда я видел, что отец остро шутит. И один из немногих, когда отец шутил вообще. После этого мы называли остров только Джейн Эйр. А JR не испарился, Джоном Робом мы позднее стали называть бункер, с которым отец нас познакомил довольно поздно, уже после смерти матери, которая произошла, когда мне было одиннадцать, а брату пятнадцать, до этого мы несколько лет уже летали на Джейн Эйр, и понятия не имели, что у нас под прекрасным домом расположен целый подземный дворец. Как сейчас помню, отец сказал нам, что нас ждёт сюрприз, и мы вместе с Томасом спустились в подвал, подошел к стене, на серединной части которой мозаикой была выложена «Прозерпина» Данте Габриэля Россетти. Томас поднял руку, и нажал на кусок мозаики, на котором находился хвостик граната. Стена плавно, почти беззвучно поехала вбок. Мы зашли в большой холл, устланный бежевым паласом. Отец открыл небольшую дверцу в стене, стилизованную под зеркало, за которым оказалось множество разных рычажков и кнопочек. Отец нажал самую большую из кнопок, ярко-желтую. Включился свет, и… В общем, мы первый раз посетили этот замечательный дворец с гостиными, холлами, коридорами, спальнями с находящихся в них туалетами и ванными комнатами. Ниже жилых этажей находилась большая зала и кухня с холодильной камерой. Ещё ниже – медицинский этаж с зубным кабинетом и кабинетом для родов. Пустые комнаты с кушетками. Комнаты со шкафами с медикаментами и медицинскими инструментами. Книги по хирургии и проведению операций. Как профессиональные, так и для простых людей, оказавшихся в критической ситуации. Ещё ниже было несколько этажей с длинными отсеками, занятыми консервируемыми и сухими продуктами, о которых я писал выше. И самый нижний этаж, где была малюсенькая стилизованная часовня и склеп. Мы не понимали, зачем нам в Джон Робе склеп? Но вот он и пригодился…
Не могу писать…
2 сентября: – Вечер. Чувств нет никаких. Выпил много, но почти не пьян. Все сидят по комнатам. Хочется вспоминать, вспоминать, вспоминать.
Что там у нас? Где я остановился? Так, понятно.
На самом нижнем этаже, кроме склепа, есть комната, о которой знают домашние и Томас с Эваном. Но не знает Мэри и не знала Сандра с детьми.
Дело в том, что отец никогда не доверял банкам и денежным операциям по инету. К карточкам относился двойственно. С одной стороны удобно, с другой стороны испытывал к ним какое-то презрение. Уважение отец испытывал исключительно к материальным деньгам. К банкнотам, к золоту, к драгоценностям.
В церквушке, за маленьким алтарём, находилась потайная комната за несколькими дверями, в которой находились кейсы с денежными купюрами, футлярами с ювелирными изделиями, стоящих баснословных денег, ящичками с драгоценными камнями и слитки золота. Открыть эту комнату не просто. Кроме меня это знают только Фергус, Алекс, и, к сожалению, Кеннет. Ну и Томас с бабушкой Гленной, естественно. И Эван. Во всём бункере стоят видеокамеры, распознающие лица, чужой человек, если он проникнет, допустим, в один из верхних этажей, будет заблокирован дверями, которые моментально закроются. Это только одна из нескольких систем защиты. Сейчас она выключена.
Так, алё, зачем я это пишу?! Надо потом не забыть заштриховать всё густо-густо.
Мать болела очень долго, большую часть года проводила в больнице. Сказать, что на нас с братом её смерть произвела глубокие трагические чувства было бы сильным преувеличением, а вот отец после смерти жены совершенно ушёл в себя. Как-то по инерции вёл бизнес, и был крайне вежлив с подчинёнными. Иногда проводил время на конюшне, доставшуюся от деда. О чём-то говорил с лошадьми. Постоянно смотрел матчи «Хайберниана» и мюнхенской «Баварии», которую поддерживал в еврокубках. Причем смотрел матчи, никак не выражая свои эмоции.
Мы с братом были совершенно разные люди, хотя и были названы в честь одного человека. Отец дал нам имя того, чьё имя мог носить сам. Мы с братом носили имя олимпийского чемпиона Аллана Уэллса. Старший брат был Уэллсом, а я был Алланом. Отец говорил, что это имя его грело с детства, и всегда напоминало о деде. Что это имя поможет нам в жизни, и мы, в отличии от отца, оправдаем его, и выиграем все свои «забеги».
«Ну что, Аллан Уэллс, вы готовы к забегу?».
Мы с братом отличались во всём, и бег наш, соответственно, разнился. Он бегал галопом, и резвыми скачками, а я так, рысью. Брат был хваткий, быстрый и смекалистый, меня же с детства называли романтиком. Я вяло болел за «Хайберниан» и писал, точнее пытался писать лирические стихи. Брат был болельщиком не только «Хибс», но и активно поддерживал «Ливерпуль», «Барселону», кроме британских сборных переживал за сборную Аргентины и все клубы, в которых играл Лионель Месси. Еще ему нравилась сборная Нигерии. И сборная Новой Зеландии по регби, особенно их танец. Он также, как и я, писал стихи. Точнее, четверостишия на приятелей и друзей, от которых те краснели, так как там всё время кто-то кого-то активно трахал. Сам он распрощался с девственностью в тринадцать лет. И потом требовал того же от меня, прожужжав все мои красные от смущения уши. Стал я мужчиной, правда, немного позднее, также благодаря брату, который взял меня с собой в сауну, подсыпал в пиво возбуждающее, и толкнул меня в комнату с джакузи, где уже меня поджидали затаившиеся, заранее снятые братом девушки. Мне было очень приятно. Но потом так стыдно и отвратно, что я несколько раз мылся. Терзало что-то, сам не знаю, что. Хотя брата вот ничего никогда не терзало.
Мы были с братом первые в нашем семейном роде, кто поступил учиться в высшее престижное заведение. Первым поступил, пончтно, брат. В Кембридж на экономику с менеджментом. Уже на первом курсе брат дал отцу дельный совет возродить в Америке наш филиал, почти сошедший на нет после сентября 2001 года, и перевести туда значительную часть активов, а то, как говорил брат, «бостонцы наши живут как нищие». Никогда наши американские родственники не жили как нищие, но тем не менее отец последовал его совету, и в будущем укреплённый филиал полностью оправдал себя, принося барыши в десятки раз больше прежних.
А потом появилась Она.
Я не помню, чтобы в школе у брата были друзья. (Хотя у кого в нашей семье они были?) Но в Кембридже такой друг появился. Джеймс Харди, его однокурсник из Глазго, ходивший с усами с тех пор, как над губой появился первый пушок. К 18-ти годам усы у него были хоть и довольны жидковаты, но Харди умудрялся их завивать, и в кембриджском костюме был похож на джентльмена с открытки начала двадцатого века, таких называли ещё «эффектными мужчинами». Семья Джеймса не обладала большим капиталом, но, тем не менее, они были весьма уважаемыми шотландскими бизнесменами. И брат, и Джеймс были во многом похожи. Оба высокие и статные. Оба обожали серфинг, женщин, мировую политику и футбол. Оба были «бело-зелёными». Брат был, понятно, «хибс», а Харди болел с пелёнок за «Селтик» из родного Глазго. И ещё они яростно поддерживали «Ливерпуль», и по возможности старались ездить на матчи, особенно на матчи Лиги Чемпионов, причём смотрели их на фанатских трибунах в бело-зелёных майках своих клубов. Их любили и уважали самые агрессивные и остервенелые хулиганы с Мерсисайда. И вот там, в «Ливерпуле», на стадионе «Энфилд Роуд» в один прекрасный день они и познакомились с лучшими подругами, ирландками Джуди и Эйлис, которые и стали их жёнами.
Это было как-то совсем быстро и невероятно. Я помню этот день. Была суббота поздней осени. Было темно. За окном шёл дождь и дул ветер, и удары капель в окна нашей гостиной в поместье в Лотиэне были отчётливы и гулки, будто по стеклу били маленькие молоточки, обёрнутые ватой. У меня закончилась школьная неделя, Уэллс приехал на уик-энд из Кембриджа, и мы ужинали. За столом прислуживал Томас, ему помогала Мирдза, его жена, выполнявшая по дому работу от служанки до кухарки. (Отец распускал часть прислуги на уик-энд, и вообще после смерти жены её сократил, считал, что это расточительно, и расслабляет нас, мы с братом застилали кровать и убирались в своих комнатах сами). По традиции бабушка Гленна за чаем и глинтвейном, (мне-безалкогольный), расспрашивала всех о том, как он провёл свою неделю, и какую пользу он из неё вынес. Я не помню, кто что рассказывал, но брат в конце своего, как всегда весьма смешного рассказа о недели сделал паузу, и добавил, что решил жениться. Добавил как-то в проброс, будто сказал, что на бензоколонке не было бензина, пришлось ехать на следующую бензоколонку. Возникла пауза, после которой отец, запинаясь и подбирая слова, стал протестовать, что жениться брату рано, что надо закончить университет, получить профессию, и уж тогда, но брат перебил его, и сказал, что вообще-то кто-бы говорил, и что отец сам зачал его, брата, будучи студентом финансового колледжа. Отец сказал, что не хочет, чтобы его брали в пример, и что у брата есть своя голова на плечах. Брат усмехнулся, и сказал, что еще можно ожидать от шотландца, которому дали имя Уэллс. Отец, что с ним случалось очень редко, стал говорить крайне пылко, но его перебила бабушка Гленна, до этого молчавшая, и сказала, почему бы брату не познакомить нас всех со своей возлюбленной. Брат кивнул, достал телефон, отошел в угол холла, сделал звонок, и шёпотом стал что-то говорить. До нас доносились обрывки разговора. «Какие к чёрту поезда?»… «только самолётом»… «все вместе-это даже лучше». Затем закончил разговор, подошёл к столу, и, улыбаясь, сказал, что завтра тут ожидается «очаровательная компанийка», после чего повернулся ко мне, и спросил, не хочу ли я что-нибудь сказать по этому поводу. Я ответил, что дождусь завтрашнего дня, и только после знакомства с пассией брата смогу ему уверенно сказать, жениться ли ему, или сломя голову бежать от венца. Мой ответ разрядил атмосферу, все заулыбались, мы помолились и пошли по своим комнатам готовиться ко сну, предвкушая день завтрашний.
А завтрашний день начался нестерпимо рано с возни внизу у парадных дверей, смехом, и восклицаниями: «А вот и мы! А вот и мы!». Мне не терпелось увидеть свою sister-in-law, мою сноху, но в выходной они могли бы приехать и попозже. В общем, позевывая, я неспеша оделся и спустился вниз. «А вот и наш младшенький!» – сказала бабушка Гленна, когда я появился в гостиной. Обычно во главе стола всегда сидел отец. Напротив него, на другом конце-бабушка Гленна, но сейчас, как говорится, уселись как уселись. Концы стола были свободны, на боковой стороне сидел брат с невестой, которая представилась Джуди, рядом с ним Джеймс с весьма похожей на Джуди девушкой, которая в свою очередь назвала своё имя-Эйлис. (Сейчас, вспоминая эти прекрасные дни, понимаю, что похожесть заключалась только в рыжих волосах и овальных лицах. Хотя этого достаточно). Бабушка Гленна с отцом сидели напротив брата с Джуди, и мне ничего не оставалось, как сесть напротив Джеймса и Эйлис. Подруги, чуть перебивая друг друга, скорее от смущения, чем от бестактности, рассказывали, что в Ливерпуле шёл проливной дождь, по дороге в аэропорт они были уверены, что рейс перенесут на несколько часов, но не успели они подъехать к Джону Леннону, как дождь прекратился, во время посадки светило солнце, получасовой полёт прошел отлично, Джеймс их встретил в Эдинбурге, и вот теперь они здесь. Томас и Мирдза принесли чай с теплым хлебом, маслом и джемом, сэндвичи с яичницей и беконом, и мы продолжили знакомство. Девушки были первокурсницами ливерпульского университета, и учились на археологии, к чему их привела любовь к древней истории Англии, к её замкам и древним балладам. Бабушка Гленна тут же заметила, что я тоже люблю литературу, не забыв сказать, что я пишу стихи в школьную газету, которые учитель литературы счёл весьма зрелыми для моего возраста, и напоминающие ему раннего Вордсворта. Эйлис сказала, что у настоящего трубадура рано или поздно появятся настоящая дама, и улыбнулась. Потом я довольно смутно помню, о чём мы говорили за столом. Вроде Джуди и Эйлис рассказывали что-то про будущую летнюю практику в Корнуолле, про какие-то раскопки. Затем брат меня спросил, одобряю ли я его выбор, и я ответил, что давно заметил, что самые красивые девушки часто выбирают себе в мужья полнейших остолопов. Бабушка с отцом смутились, но смутились абсолютно зря, так как подруги засмеялись, а брат с Джеймсом вообще заржали, как лошади. Через некоторое время мы уже слышали ржанье настоящих лошадей, так как пошли на конюшню хвастаться своими красавцами и красавицами с шёлковыми гривами. Мы покатались на лошадках. Ну, как покатались, Джуди сидела на серой Эсмеральде, любимице брата, который медленно вёл её под узды, Эйлис сидела на моём белом Мерлине, которого вёл, в свою очередь, под уздцы я. Джеймс шёл с другой стороны Мерлина, и всё время говорил, чтобы Эйлис крепко держалась, и была аккуратна. Но Эйлис, в которой ирландская кровь играла ярче, чем в подруге, всё время просила меня отпустить узду, и взяла с меня обещание, что я в будущем научу её, как она выразилась, «скакать как вакханка». Слезая с коня, она случайно задела коленом мою грудь. Я вспоминаю это колено, эти выбившиеся рыжие волосы, этот смех и родинку на подбородке, и вспоминаю, вызвала ли во мне в тот день Эйлис какие-то чувства? Точно нет. Я тогда был влюблён в Салли, свою одноклассницу по элитной школе, она перевелась к нам полгода назад откуда-то со стороны. Салли была храброй и имела абсолютно мальчишечий характер, курила на переменах, часто употребляла довольно жесткую лексику, и была совершенно нестеснительной. Я сидел за ней, и часто слышал, например, что, когда моя возлюбленная хотела по-маленькому, она громко шептала: «Что-то Саллинька, девочка, давненько не делала пи-пи!», после чего просила ей ненадолго покинуть класс. Когда же она хотела в уборную на больший срок, то говорила соседке: «Хоть отдохну от вас в тишине!». У Салли были голубые глаза, тонкие губы, крепкие груди и широкие плечи. Говорили, что она давно не девочка, но я не хотел в это верить. Я считал, что очень сильно люблю её, и почему-то думал, что и она меня рано или поздно полюбит. Я был уверен, что люди с именами Аллан и Салли просто обязаны быть вместе, несмотря ни на что. Салли на меня внимание совсем не обращала. Помню, на перемене, подходя к своей парте, увидела обложку книги, которую я, сидящий за ней, читал.