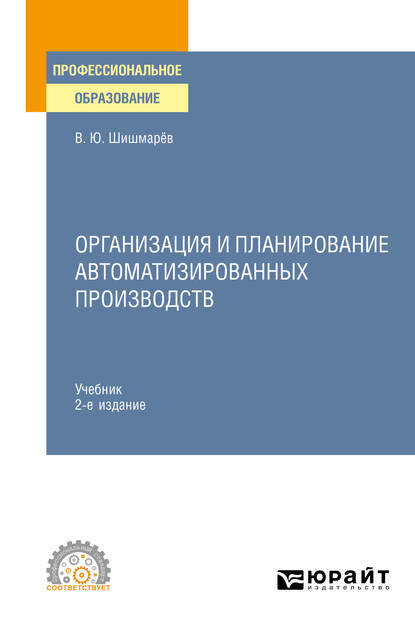- -
- 100%
- +

© Александр Остроухов, 2025
ISBN 978-5-0068-2473-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1 часть
Его звали Паши. Не Паша, с твёрдым, обкатанным, как галька, окончанием, а именно Паши – с мягким, неслышным «и» на конце, уходящим в шепот. Это была не ошибка в метрике, а осознанный выбор матери, которая, едва взяв его на руки, прошептала: «Он не громкий, он тихий. Он мой Паши». Это «и» стало его вечным спутником – тихим, почти невидимым знаком, меткой иной, более мягкой сущности, которую мир, впрочем, замечал редко.
Технариум, как он сам в шутку называл свое учебное заведение, на деле был обычным политехническим колледжем, выцветшим, как джинсы после множества стирок. Паши учился здесь уже третий год по специальности «ремонт и обслуживание электронной техники». Знания копились в его пальцах – быстрых, чутких, с обкусанными ногтями, – которые чувствовали неисправность лучше, чем ум. Он уже мог с закрытыми глазами собрать и разобрать паяльник, отличить конденсатор от резистора по одному весу на ладони и по едва уловимому запаху горелой платы понять, что именно пошло не так. Колледж был его панцирем, миром проводов, микросхем и строгой, понятной логики, где у каждой поломки была причина, а у каждой причины – решение.
Но за стенами колледжа логика давала сбой. Там, в съемной однокомнатной квартирке, пахло не паяльной кислотой, а пылью и тишиной. Именно тишиной – густой, тягучей, звенящей. Ей было всего полгода, а казалось, что целую вечность. Раньше её разрывал на части детский смех, потом – испуганный плач, а теперь не разрывал ничего.
Его сына… их сына… забрали. Не воры и не бандиты, а люди в белых халатах, с непроницаемыми лицами и стопкой бумаг. Маленькое сердечко, оказавшееся таким же хрупким, как стеклянный диод, перестало биться во сне, без причины и объяснений. Это горе не поддавалось починке. К нему нельзя было подобрать деталь или найти обрыв цепи. Оно было тотальной, абсолютной поломкой мироздания.
Анна не вынесла звона этой тишины. Она смотрела на Паши и не видела мужа, отца своего ребенка – она видела живую тень, молчаливого напоминания о том, что случилось. Её уход был тихим, как и всё, что их теперь окружало. Она не хлопнула дверью, а прикрыла её за собой, словно боясь разбудить кого-то. Оставив его одного в комнате, где каждый уголок, каждый лучик пыли на полу кричал о пустоте.
Так и жил Паши. Между колледжем, где его руки могли чинить чужие сломанные вещи, и квартирой, которую он разучился чинить для себя. Он существовал в этом ритме: лекция – лабораторная – паяльная станция – пустой холодильник – звонкая тишина. Проблемы в колледже казались ему смешными и мелкими: зазнавшийся одногруппник, строгий мастер, несданный вовремя чертеж. Они были из другого мира, мира, где поломки всё-таки имели решение.
А его собственная жизнь была устройством, схема которого навсегда перегорела, оставив после себя лишь пепельное молчание и комнату, в которой раньше жил младенец. Комнату, которую он боялся открывать.
…Комнату, которую он боялся открывать. Комнату, что стала склепом для его веры в людей, в любовь, в дружбу. Он добровольно заключил себя в одиночество, потому что это была единственная крепость, из которой его уже не могли предать.
Его дни сплелись в однообразную, серую пряжу. Подъем затемно, когда город только заводил мотор своего дня глухим гулом магистралей. Дорога в колледж – не видя окружающего, уткнувшись в тротуарную плитку, словно читая по трещинам на ней свой собственный маршрут. Парты, пахнущие старой древесиной и чужим потом. Лекции проплывали мимо, как подводные течения – он чувствовал их давление, но не видел смысла. Его руки на практиках работали сами, выдавая идеальные пайки и аккуратные соединения, пока разум витал где-то далеко, в прошлом, которого больше не существовало.
После занятий он не торопился. Брёл самым длинным путём, через промзону, где ржавые гаражи упирались в глухой забор. Здесь было тихо и безлюдно, и это было его территорией. Иногда он останавливался и просто слушал. Не городской шум, а его отсутствие. Звон в ушах от этой тишины становился самым громким звуком во вселенной.
Квартира встречала его запахом остывшего воздуха и пыли. Он никогда не включал музыку или телевизор. Эти звуки были бы наглым, чужеродным вторжением. Он научился двигаться бесшумно, как призрак в собственном доме. Приготовить незамысловатый ужин на одну конфорку. Съесть его, глядя в окно на зажигающиеся окна напротив. В каждом из них – своя жизнь, своя драма, свой смех. Он смотрел на них, как на экраны немого кино, не чувствуя ни зависти, ни интереса, лишь холодное, отстранённое любопытство учёного, наблюдающего за неизученным видом насекомых.
Дверь в ту самую комнату была всегда закрыта. Сначала наглухо, будто за ней скрывалось нечто, что могло вырваться наружу. Потом – просто прикрыта. Проходя мимо, он иногда замедлял шаг, и рука сама тянулась к ручке, но всегда останавливалась в сантиметре от холодного металла. Не сегодня. Ещё не сегодня.
Сон был единственным временем, когда контроль ослабевал. Тогда его навещали тени. Тёплый вес на сгибе руки. Запах детского молока и присыпки. Смех Ани, настоящий, не затемнённый болью. Он просыпался с одним и тем же ощущением – что всё ещё здесь, прямо сейчас, и нужно лишь протянуть руку. И каждый раз его ладонь встречала лишь холодную простыню и всепоглощающую тишину, в которой ясно отдавался стук его собственного, одинокого сердца.
Именно в этом ритме – стук-тишина, стук-тишина – и проходила его жизнь. Монотонный код, который он разучился расшифровывать и которому не видел конца. Он просто был. Дышал. Чинил чужие вещи. Существовал. Ожидая ничего и не надеясь ни на что, в плотном, непробиваемом коконе своего горя.
Возможно, так бы всё и продолжалось. Но даже самая прочная изоляция рано или поздно даёт трещину. И в эту трещину всегда просачивается что-то извне.
Дни текли, как густая, неподвижная смола. Каждый был похож на предыдущий: один и тот же маршрут, одно и то же безвкусное питание в столовой, одна и та же тишина, въевшаяся в стены его квартиры, становясь их частью. Он уже почти перестал замечать щемящую боль в груди; она стала таким же фоном, как и всё остальное – его тихий, личный саундтрек к концу света, растянувшемуся на полгода.
В тот день из колледжа он выходил позже обычного – пришлось перепаивать схему за нерадивого одногруппника, который умчался на свидание, бросив на столе клубок проводов и невнятных извинений. Паши сделал это молча, почти на автомате. Руки сами знали, что делать, а голова была пуста и тяжела, как чугунный шар.
Сумерки уже плотно легли на город, окрашивая его в сизые, грязные тона. Фонари зажглись нехотя, отбрасывая на асфальт жёлтые, размытые пятна. Он шёл привычной дорогой, через тот самый пустырь с гаражами, где его никто не ждал и не мог окликнуть. И это было единственным утешением.
Но сегодня что-то пошло не так.
Из-за угла гаража, куря и сплёвывая шелуху от семечек на тротуар, вынырнул силуэт. Высокий, чуть сутулый, в спортивном костюме, который сидел на нём мешком. Витька.
Паши внутренне сжался. Он попытался сделать вид, что не замечает, и пройти мимо, ускорив шаг. Но Витька уже поднял голову, и на его лице расплылась ухмылка, хищная и неприятная.
– Ну наконец-то! – голос у него был хриплый, прокуренный. – А я уж думал, ты тут ночевать собрался, ботаник.
Паши промолчал, пытаясь обойти его. Но Витька ловко шагнул в сторону, перегородив путь.
– Я тебе говорю, Паши-не-Паша. Ослышался, что ли? – он пустил дым прямо ему в лицо.
Паши сморщился, отшатнувшись. Молчание стало напряжённым, как струна.
– Чего тебе, Витька? – наконец выдавил он, глядя куда-то мимо его плеча.
– Чего-чего… Дело есть. – Витька огляделся по сторонам, хотя вокруг и так никого не было. – У меня комп тупит. Мать его, вообще ни че не грузится. Синий экран какой-то долбаный.
– Вызови мастера, – тихо, но чётко сказал Паши.
– Какой мастер? Ты ж у нас заправской Кулибин, все тебя нахваливают. – Витька хлопнул его по плечу с притворной дружелюбностью, от которой стало тошно. – Поможешь братве? Быстренько, на полчасика. Я тебе ящик пива сразу впарю, а? Считай, халява.
В этом было всё, что Паши ненавидел больше всего. Эта панибратская ложь, эта «братва», которое возникало только тогда, когда что-то было нужно. Это «халявное» пиво в обмен на его время, его силы, его покой.
– Я не могу, – сказал Паши, и в его голосе впервые зазвучали стальные нотки. – Я занят.
– Ты-то? – Витька фальшиво рассмеялся. – У тебя кроме этих твоих хрен пойми каких схем нихера нет! Какие дела? С привидениями общаться будешь?
Сердце Паши ёкнуло. Витька не знал, конечно, ничего. Но его слова попали в самую точку, в самую больную мозоль души.
– Отстань, – прошипел Паши, пытаясь снова пройти.
Но Витька схватил его за куртку. Ухмылка с его лица сползла, сменилась наглой злобой.
– Слышь, ты чё это возомнил о себе? – он притянул Паши ближе, и тот почувствовал запах перегара и дешёвого табака. – Я с хорошего к тебе. По-дружески прошу. А ты тут строишь из себя хренового интроверта. Комп почини, и все дела. Чего ты упёрся?
Последнее слово повисло в воздухе, тяжёлое и грязное, как плевок.
В Паши что-то сорвалось. Всё, что копилось эти месяцы – боль, ярость, бессилие, ненависть к этому миру и ко всем этим людям, – вырвалось наружу одним спрессованным, свинцовым кулаком. Он резко дёрнулся, вырвал рукав из Витькиной хватки.
– Пошёл нах! – его голос, обычно тихий, прорвался хриплым, чужим криком, который эхом ударился о ржавые стены гаражей. – Я тебе ничего не должен, понял? Ни-че-го! Иди свой комп сам чини, или пихай куда хочешь! Отвали от меня!
Он почти кричал, и его трясло. Витька отступил на шаг, глаза его округлились от искреннего изумления. Он видел перед собой не тихого затворника, а загнанного зверя, готового рвать и метать.
– Ты чего орешь-то? – уже без прежней уверенности пробормотал он. – Человек же по-хорошему…
– Я сказал, отвали! – Паши сделал шаг вперёд, и в его глазах стояло нечто такое, что заставило Витьку отпрыгнуть ещё дальше. – И чтобы я тебя больше не видел! Иди к чёрту!
Он не стал ждать ответа. Развернулся и пошёл прочь, быстрыми, сбивчивыми шагами, не оглядываясь. За спиной он слышал бормотание: «Да пошёл ты, псих больной… С дуба рухнул…» – но это уже не имело значения.
Он шёл, почти бежал к своему дому, и адреналин яростно стучал в висках. Руки дрожали. Он не кричал ни на кого полгода. Он вообще почти не повышал голос. Это была первая вспышка, первый слом в его идеально выстроенной апатии.
Добежав до подъезда, он прислонился лбом к холодному бетону стены, пытаясь отдышаться. В горле стоял ком, а внутри всё горело. Он ненавидел Витьку. Ненавидел себя за эту вспышку. Ненавидел этот мир, который снова, снова и снова заставлял его чувствовать что-то, пробивая его броню.
Он медленно поднялся к себе, запирая за собой дверь на все замки. Тишина квартиры снова поглотила его, но теперь она не казалась уютной. Она была зловещей. Он только что кричал. Он впустил в свой кокон внешний шум, грязь, агрессию. И теперь ему нужно было снова замолчать. Забыться.
Его взгляд упал на заветную, прикрытую дверь. Комната. Там было тихо. Там ничего не требовали. Там не было ни Витьки, ни его долбаного компа, ни этого всего мира.
Сжав кулаки, чтобы они не дрожали, он сделал шаг к ней. Потом другой. Рука сама легла на ручку. Сегодня не сегодня? Сегодня. Он медленно, почти бесшумно, толкнул дверь.
Воздух внутри был спёртым и неподвижным, пахнущим пылью и прошлым. Луч уличного фонаря пробивался сквозь щель в шторах, освещая контур кроватки, застеленной белой простынёй, как саваном.
И его взгляд, скользнув по полу, уловил во мраке под кроваткой какой-то иной, чужеродный силуэт. Что-то маленькое, угловатое, то, чего он раньше не замечал или не хотел замечать.
Что-то, что ждало своего часа.
Сны стали его второй, искажённой реальностью. Если днём он существовал в апатии, то ночью разум, скинувший оковы контроля, пускался в странные и путаные пляски. Ему снилась Аня, но её лицо всегда было размытым, как на старом, затертом снимке. Снился смех сына – нежный, пузырящийся, но он всегда доносился издалека, из-за плотной стены тумана, сквозь которую Паши не мог пробиться.
А потом в этих снах стала появляться Она. Игрушка. Та самая, что лежала под кроваткой, которую он заметил в тот вечер после ссоры с Витькой. Во сне она была не сломанной. Она была ярко-красной, глянцевой, и её пластмассовый корпус отливал маслянистым блеском. Она медленно ехала по паркету его старой квартиры, оставляя за собой не пыльные следы, а тонкие, чёрные полосы, словно от шин. И с неё доносился звук. Не весёлый детский напев, а далёкий, едва уловимый гул – как будто кто-то пытается докричаться через толщу воды или земли. Он просыпался с этим гулом в ушах, с ощущением тревоги, липкой и непонятной. Но днём, омытый серым светом утра, он отмахивался от этого, списывая на переутомление и нервы. Просто сон. Просто мозг выдает очередную порцию абсурда.
Но комната манила. Та самая комната. Она стала для него магнитом, болезненным и необходимым. После того случая с Витькой что-то в нём надломилось окончательно, и старая тактика – избегать, не видеть, не вспоминать – перестала работать. Боль стала настолько привычной, что он начал искать в ней какое-то извращённое утешение.
Он стал заходить туда. Ненадолго. Сначала всего на пару минут, просто постоять на пороге, чувствуя, как сжимается сердце. Потом начал позволять себе больше. Присаживался на корточки в центре комнаты, закрывал глаза и пытался поймать ускользающие остатки ощущений. Тёплое пятно солнечного света на полу, в котором когда-то лежал коврик с зверюшками. Специфический сладковатый запах детской присыпки, который, казалось, навсегда въелся в швы обоев. Эхо смеха, существовавшее теперь лишь в памяти.
Он приходил сюда, чтобы помнить. Чтобы не дать себе окончательно забыть, что такое счастье. Это было похоже на касание раскалённого железа – адски больно, но эта боль была доказательством, что он ещё жив, что он что-то чувствует.
Однажды, сидя так на полу и глядя в пыльную муть под кроваткой, он снова увидел её. Красную машинку. Он взял её в руки. Она была холодной и грубой. Колесико отломано, мелкие детали корпуса отходили, а в специальном слоте торчали оголённые контакты откуда-то выдернутого миниатюрного телефона. Сломанная вещь. Утиль. Его пальцы сами по себе, по привычке, начали обследовать её, ища причину поломки, оценивая масштаб работ. Мысль мелькнула автоматически: «Можно починить».
Он отшвырнул машинку обратно под кровать, как будто она ужалила его. Нет. Чинить чужие вещи – это одно. Чинить это – это уже слишком. Это значило прикасаться к прошлому с паяльником в руках, пытаться оживить то, что умерло. Он не был к этому готов.
А потом появились они. Два пацана, лет по четырнадцать, жившие в соседнем подъезде. Назойливые, как мухи, вездесущие. Они то гоняли мяч во дворе, то что-то ломали, то просто сидели на лавочке, громко споря о чём-то своём. Они заметили Паши, который всегда ходил один, с опущенной головой, и он, видимо, показался им загадочным и странным.
Как-то раз, когда он возвращался из колледжа, они подошли к нему. Не так, как Витька – нагло и с угрозой. А с глуповатым, но не злым любопытством.
– Эй, мужик, – крикнул один, тот, что повыше и худее. – Ты чё такой хмурый всегда?
Паши сделал вид, что не слышит, и продолжил идти.
– Слышь, мы не прикалываемся! – добавил второй, коренастый, в кепке, надвинутой на самые глаза. – Просто интересно. Ты типа философ, что ли?
Они шли рядом с ним, не отставая.
– Отстаньте, – буркнул Паши беззлобно. В их навязчивости не было злого умысла, лишь скука двора.
– О, заговорил! – оживился первый. — Я Женя, а это Валерка.
Паши молчал.
– Ты на компе шаришь? – не унимался Валерка. – У меня тут в телеге херня какая-то творится…
Паши лишь отрицательно качнул головой и ускорил шаг. Он ждал, что они начнут грубить, обзываться, как все. Но они просто пожали плечами и отстали.
А на следующий день, когда он вышел из подъезда, на перилах крыльца лежал аккуратный кулёчек из газеты. Паши машинально поднял его. Внутри были семечки. Жареные, ещё тёплые.
Он обернулся. Из-за угла подъезда тут же высунулись две любопытные рожи.
– Это мы! – крикнул Женя. – Это тебе! Мы в киоске взяли, там бабка всегда лишнюю горсть подсыпает.
– Ты не хмурься так, – добавил Валерка. – Вкусно же.
Они не ждали благодарности. Развернулись и убежали, громко топая своими кроссовками.
Паши так и остался стоять с кулечком в руках. Это был самый бестолковый и неожиданный подарок за последние полгода. В нём не было выгоды. Не было расчёта. Была какая-то дурацкая, подростковая, но искренняя попытка… чего? Подбодрить? Просто так.
Он не стал их есть. Он занес кулёк к себе и поставил на полку в прихожей, рядом с ключами. Просто стоял. Как артефакт из другого мира, мира, который продолжал жить своей жизнью, иногда порождая вот такие странные и непонятные жесты.
Он снова посмотрел на дверь в комнату. А потом на кулёк с семечками. Два символа. Одно – мёртвое, больное прошлое, которое он боялся, но к которому его тянуло. Другое – глупое, живое, навязчивое настоящее, которое он отталкивал, но которое почему-то не уходило.
И где-то в глубине, на самом дне его сознания, красная машинка из сна тихо гудела, ожидая своего часа.
Жизнь, казалось, входила в какое-то новое, странное русло. Призрачное, но всё же подобие рутины. Утром – колледж. Днём – молчаливая дорога домой, где он уже машинально искал глазами двух знакомых подростков. Они стали частью пейзажа, как бездомный рыжий кот с подбитым глазом, греющийся на трубе у теплотрассы. Иногда они просто кивали ему, иногда кричали что-то невнятное и смешное, а иногда, как те первобытные люди, приносили своему угрюмому «божеству» дары – то пачку жвачек, то банку газировки, оставленную на перилах крыльца.
Паши не поощрял этого, но уже и не отмахивался. Он просто брал и кивал. Это было… терпимо. Небольшая трещина в его броне, через которую просачивался слабый свет чужого, глупого, но незлобного внимания.
Однажды, возвращаясь с очередной партии, где он почти механически чинил учебный стенд, он услышал у своего подъезда громкие голоса. Громкие, юные, полные бравады и страха. И один взрослый, хриплый, знакомо-омерзительный.
– Чего вы, сопляки, тут крутитесь, а? – это был голос Витьки. – Подожгёте тут чего-нибудь, мусорники опять перевернёте!
– Мы ничего не трогаем! – это кричал Женя, его голос срывался на фальцет от возмущения. – Мы ждём человека!
– Какого человека? Меня? – Витька фальшиво рассмеялся. – Вам папик нужен, что ли?
– Ты чё, тупой? – вступил Валерка, всегда более резкий. – Отстань от нас! Мы ничё не делаем!
Паши ускорил шаг. Он не хотел ввязываться, но какое-то неприятное предчувствие сжало ему горло. Он свернул за угол и увидел картину: Витька, широко расставив ноги, блокировал вход в подъезд, а перед ним, сжавшись в комок готовой взорваться обиды, стояли Женя и Валерка.
– А, это вы того психованного технаря ждёте? – Витька плюнул себе под ноги. – Ну конечно, птицы одного поля ягоды… Такие же придурки недоделанные. Он вам мозги промыл, да? Рассказал, какой он несчастный?
– Да пошёл ты! – выкрикнул Женя.
В этот момент Витька заметил Паши. Его ухмылка стала ещё шире и злее.
– О! А вот и наш главный герой! Припёрся! Иди сюда, лох, своих забери, а то щас по рогам им надаю за спам!
Паши подошёл молча. Он попытался просто пройти сквозь него, проигнорировать, как делал всегда. Но Витька грубо толкнул его плечом.
– Куда прёшь? Я с тобой разговариваю. Твои подопечные тут территорию метят. Объясни им, как у людей принято.
– Отстань, Витька, – тихо, без эмоций сказал Паши. – Иди себе.
– Опа! – Витька округлил глаза. – Опять учить меня будешь? У тебя самого жизнь разъебана в хлам, а ты тут умничаешь!
Паши попытался снова пройти. Сердце начало стучать чаще, в висках загудела знакомая тревожная кровь.
– Я серьёзно, отвали.
– А что это ты такой злой? – Витька не унимался, поворачиваясь к нему спиной, обращаясь к пацанам, как к аудитории. – Ребятки, а вы в курсе, почему ваш новый друг такой битый? А потому что его самого жизнь отхреначила по полной! Девушка его, самая нормальная, свалила от этого задохлика! А ребёнка ихнего… – Витька сделал драматическую паузу, наслаждаясь моментом, – короче, того самого младенца, забрали! К чёрту в лапы! Вот так вот! Он один остался, как пердак раку после шторма! Лох чистой воды!
Всё внутри Паши оборвалось. Воздух перестал поступать в лёгкие. Он замер, ощущая, как по спине расползается ледяная волна, сменяющаяся адским жаром. Пацаны смотрели то на Витьку, то на него, не понимая до конца, но чувствуя, что произошло что-то ужасное.
– Да… – Витька, довольный эффектом, уже собирался продолжать свою ядовитую тираду. – Вот и получай, ботаник…
Он не успел договорить.
Паши двинулся с места неожиданно быстро для своего всегда замедленного темпа. Не крича, не рыча, в полной, звенящей тишине. Его рука молнией взметнулась и впилась в грудную клетку Витьки, сжимая мятый спортивный костюм в стальном захвате. Он дёрнул его на себя, и их лица оказались в сантиметрах друг от друга.
Витька ахнул от неожиданности и боли – пальцы Паши впивались в него через ткань с нечеловеческой силой.
Глаза Паши были пустыми. Бездонными. В них не было ни злобы, ни ярости. Только абсолютный, космический холод.
– Слышишь ты, – его голос был не громким, а низким, сиплым, будто скребущим по ржавому железу. Он висел в воздухе, заставляя онеметь даже пацанов. – Кончай этот базар. Я не из твоей старомодной братвы.
Витька попытался вырваться, но не смог. Хватка была мёртвой.
– Думаешь, если всё знаешь обо мне, то это повод говорить? – Паши притянул его ещё ближе, и Витька увидел в этих глазах нечто такое, отчего по спине побежали мурашки. – Ещё раз услышу что-нибудь подобное… Я тебя по кускам разберу. Тебя тут красивого никогда не узнают.
Он говорил почти шёпотом, но каждое слово падало, как увесистая гиря.
– Вали отсюда, а то беду накличешь, – он с силой оттолкнул Витьку от себя. Тот отлетел, споткнулся и едва удержался на ногах, глаза его были заполнены искренним, животным страхом. – А то дезинфицирую, нечисть.
Они стояли несколько секунд, измеряя друг друга взглядами. Витька что-то пробормотал, поправил костюм, но больше не сказал ни слова. Он лишь с ненавистью и опаской посмотрел на Паши, развернулся и, стараясь сохранить остатки достоинства, зашагал прочь, ускоряя шаг.
Тишина во дворе стала оглушительной. Паши стоял, тяжело дыша, сжав кулаки. Дрожь, мелкая и неконтролируемая, бежала по его рукам.
Женя и Валерка смотрели на него широко раскрытыми глазами. Они не боялись. Они были шокированы и, странным образом, восхищены.
– Офигенно… – прошептал Валерка.
Паши обернулся к ним. Дрожь понемногу стала утихать. Пустота в глазах медленно заполнялась привычной усталостью.
– Идите домой, – тихо сказал он им. – И… не болтайте тут лишнего.
Он не стал ждать ответа. Развернулся и вошёл в подъезд, оставив их одних во дворе, под впечатлением от только что увиденного спектакля, где тихий и странный сосед неожиданно превратился в грозную и устрашающую силу.