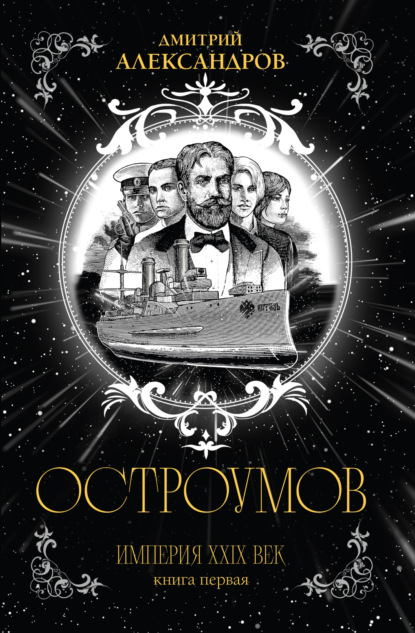- -
- 100%
- +
– Обрублено наспех. Сигнальная и огнеборная тоже там проложены?
– Точно. Вот они-то в крыле и не сработали. Гришка! Гришка, где ты?
Подбежал автомат. Купец показал ему на дыру в потолке и на провода.
– Пойди возьми у Селиверста Петровича план, вскройте потолки, где провода идут, все проверьте. Отметьте на плане, где еще они перерезаны.
– Слушаюсь!
Автомат бросился наружу, по пути ударившись плечом об угол и чуть не загремев на пол. Остроумов покачал головой.
– Странный он. Всегда такой?
Остальные автоматы пожали плечами. Купец снова повернулся к Илье.
– Поджог, не считаешь?
– Очень вероятно. Теперь надо быть аккуратнее.
Остроумов, поняв, куда клонит охранник, вдруг похолодел. Рядом с ним может находиться человек или автомат, ставший причиной пожара, происшествия, которое и привлекло купца на Марс.
– Где там от полиции пристав, как его фамилия…
– Господин Варнавский, – подсказал подошедший с бумагами мастер. – Они уже изволили уехать.
– Вернуть! Давай гони в участок! Это оставь мне, посмотрю позже…
* * *Поздно вечером Остроумов, расположившись на диванах и поставив рядом с собой вертикально машинку (ее чехол, исполненный в виде книжицы, позволял это проделать), вызвал номер супруги, с которой чуть ранее уговорился соединиться. На экране появилась зала с белым роялем, залитая теплым утренним светом. Анна Константиновна поправила камеру.
– Володенька, ну как у вас дела?
– Хорошо! Проблема пустяковая, даже не стоило пропускать ужин! – улыбнулся Остроумов. – Все бумаги, бумаги… Я рассказывал тебе, какая на Марсе бюрократия? О, это не дай бог испытать! А так все тихо. С Ильей Матвеевичем и Селиверстом Петровичем (ты же помнишь его?) чудесно посидели. Ни в чем нет у нас затруднений. – Купец снова улыбнулся, насколько умел мягко и расслабленно. – Ну, раз прилетел, приведу тут в порядок дела – накопилось. Чтобы после уж не летать.
– Селиверста Петровича помню, как же не помнить! Такой тонкой души человек! Ах, ему, верно, неуютно на этом Марсе. Ты, может, вернул бы его в московскую факторию? Ведь годы, Володя, годы! А на Марс кого-нибудь молодого, кому там будет интересно.
– Подумать можно. Я, впрочем, скажу тебе, что он упрямец и скорее откажет. – Купец отхлебнул красного чая с розой и земляникой. – Ты мне скажи, как Ольга?
После краткой паузы, вызванной тем, что изображению и звуку, превращенным в набор цифр, требуется известное время, чтобы добраться до искривителя, появиться из такого же у Земли и долететь до Якиманки, послышался вздох, на который способна только любящая мать. Остроумов прищурился.
– Не пара Ольге этот Радин, пусть он хоть на весь космос знаменит. Совсем бы не пускать ее… Ну ладно, не о том. Послушай, – голос его стал опять мягче, вернулась улыбка, – с Ермаковым летавший офицер, что был у нас, Волховский, – он ведь из Петербурга. А тут дела такие, что должен он в Москве задержаться. Я предложил ему разместиться в зеленом доме через дорогу от нашего. Там сдаются совершенно чудесные пять комнат. И тихо, и высокие своды, и при этом обставлено скромно, то есть в его вкусе, – такая вот удача. Он заселится – пошли к нему, пригласи на обед или ужин. Мне кажется, хорошая сложится меж всеми нами дружба.
На Анну Константиновну это поручение произвело ровно то действие, какого ожидал Остроумов. Ей не нравился космос, но понравился молодой офицер, и теперь, как это свойственно вообще мыслям настоящей женщины, а особенно женщины ее лет и положения, закрутились в голове ее различные возможности: найди этот офицер себе любовь на Земле – не будет более страшных полетов; поговорить с таким человеком любо-интересно… Но главное – быть может, есть такой шанс (особенно при правильном участии), что именно Ольга его заинтересует, а он заинтересует Ольгу, и значит, все может стать так хорошо, как только может быть.
Она сразу решила, что Волховский не занят. Он, во всяком случае, не носил кольца, и теперь эта история с комнатами как будто подтвердила ее предположение. Расстраивали Анну Константиновну лишь две вещи: во-первых, то, что Волховский не оставит космос. Это ее желание, неизвестно насколько осуществимое, и страшно даже представить, как придется провожать, только породнившись, зятя в дальний полет. И во-вторых, что в таком случае делать с интересом старшей дочери, как будто проявившимся в первый же визит, стало решительно непонятно.
Анна Константиновна как-то давно уже определила для себя, что за Ярославу ей не придется волноваться, что для нее обязательно сыщется прекрасный жених и что природная стеснительность старшей дочери есть проявление самого лучшего качества для девушки, а именно разборчивости в чувствах. Ольга же пропадала, пропадала на глазах у матери, и нельзя было ничего не делать по этому поводу.
«В конце концов, – думала Анна Константиновна, – есть не только Волховский. Есть, например, сын Федора Яковлевича Коровина, Сергей, они с Ярославой всегда ладили чудесно. Он, конечно, молод, одного с ней возраста, но времена такие, что это даже приветствуется. А потом, не происходило ли волнение Ярославы только оттого, что приехали космоплаватели, к тому же знаменитые? Ведь она всегда была увлечена этим космосом…» Легко убедив свое сердце в том, что да, никакой любви с первого взгляда у Ярославы не случилось и, даст бог, не случится по отношению к Волховскому, Анна Константиновна вернулась к домашним делам.
8. Не зная вечности
С того самого дня, как Остроумов принял решение строить на Марсе фабрику, для него начали существовать два разных Марса. Один – настоящий, переживший войну, сложный, никак не становящийся лучше, наполненный опасностями Марс, с которым он вынужден иметь дела. Второй – тот Марс, о котором он рассказывал семье. Марс, на котором все куда спокойнее, чем пишут в новостях, где ничего интересного нет, но нет и ничего опасного. Если такая ложь и грех, то брал он его на себя ради спокойствия тех, кого любил всем сердцем. Ради спокойствия и защиты.
Ради этой же защиты сумел он за один вечер устроить так, что офицер и помощник капитана Дмитрий Волховский обосновался (по крайней мере, на время) по соседству с его усадьбой. Таким образом он мог быть рядом в случае неблагоприятных событий, мог как-то защитить его семью.
* * *Группа офицеров Корпуса дальних изысканий, в которую входил и Дмитрий, оставлена была в Москве по меньшей мере на два месяца. На плечи Волховского легло написание отчетов о путешествии, а кроме того, в московском штабе должен был состояться отбор кандидатов в команду корабля новой системы – корабля, который должен был позволить человеку дотянуться до самого центра Вселенной.
Степан Дорохнин, друг Волховского со времен Академии, предложил Дмитрию остановиться у своей семьи, в родовой усадьбе на Воробьевых горах, но Дмитрий (отчасти из вежливости, отчасти не желая лишать себя привычного уединения) отказался. Теперь он должен был что-то искать, какие-нибудь номера, подходящие для приемов, которых теперь было не избежать, и удобно расположенные. То есть заниматься тем, что он совсем не умел делать.
По этой причине предложение Остроумова было встречено офицером с большой радостью.
Визит назначили на семнадцатое число. Анна Константиновна, желая по возможности сделать все как можно менее формальным и церемонным и беспокоясь в том числе о комфорте гостя, потому что от хозяйки не скрылась его скованность во время первой встречи, выбрала время между обедом и ужином, часто именно таким образом у купцов использовавшееся и называемое «чай».
Утром она зашла к младшей дочери. Ольга сидела перед зеркалом в утреннем углу спальни. Рядом стояла Марфа, горничная-автомат. В руках ее был поднос с белилами, пенками и прочими принадлежностями, дорогими и редкими. Увидев хозяйку, Марфа тихо отошла к двери, ведущей в Ольгину комнату для занятий, или занятенную, как обыкновенно называли в то время такое помещение.
– Оля, ты помнишь, что сегодня у нас гость? Я очень прошу тебя быть в светлом. Я не препятствую твоей жизни и ты имеешь свободы столько, сколько у молодых твоего круга редко бывает, поэтому…
– Моего круга? – прервала ее Ольга, которую застал этот разговор погруженной совершенно в свои мысли. Не поворачиваясь и делая теперь вид, что занята лицом, она тотчас продолжила: – Что же, если я не желаю быть частью этого круга? Так ли это плохо?
Анна Константиновна, только что собиравшаяся укорить дочь за то, что не умеет она выслушать, была сбита с толку этим продолжением и хотела что-нибудь возразить, но убедительные слова никак не приходили.
Ольга умела сказать не то, чего ждут или чего требуют, и поставить взрослых в неловкое положение, еще будучи ребенком. Это вскоре превратилось для нее в игру, и конечно, с таким поведением велась немилосердная борьба. Но неверно судить о характере девушки лишь по такому своеволию. Если Ольга находила себя виноватой, она была послушна и тиха. Она была намного строже к себе, чем казалось окружающим, умела раскаиваться, признавать, но никому другому она не желала отдавать право судить себя.
Ответа так и не нашлось, а уйти молча означало бы ссору, что сегодня было некстати.
– Ради меня и отца, прошу тебя. Сейчас так много сложностей!
Сказано это было с едва заметной ноткой отчаяния, и, хотя означало Ольгину победу, как девушка называла про себя такие повороты, ей вдруг стало жалко родителей. Она представила Марс, на котором никогда не бывала, представила эту несвободу, зависимость от денежных дел, которая преследует ее отца, несвободу матери, любящей своих детей искренне, но не понимающей и не принимающей изменений и того, чем живет молодое поколение…
– Хорошо, – мягко ответила она.
Некоторое время после того, как двери закрылись, девушка, не меняя позы, повторяла про себя это «хорошо», ловя тонкое ощущение мученичества, жертвы, на которую она сейчас пошла сама. Это будто бы возвышало ее, но помимо примитивного чувства такого возвышения ей было приятно само состояние самопожертвования, хотя и неприятен повод.
Ольга бросила на кровать перстни, которые собиралась надеть. Один, рубиновый, ударился в край тяжелого покрывала, которое спадало до самого пола, и тихо скатился на ковер. Строки стихов, сложенных Евгением, вспыхнули в ее голове…
Мы лишь песок. И, вечности не зная,По ветру носимся в пространстве мировом,Угрюмо, бессловесно ожидая,Не помня, не жалея ни о чем…* * *Ольга выбрала перламутрово-белое платье, пошитое у Ламановых – в то время ателье Ламановых считалось одним из лучших в Москве. Длинное узкое платье с воротником-стойкой, без рукавов, открывающее плечи и выгодно подчеркивающее стройную, несколько хрупкую фигуру девушки; платье, разумеется не подходящее для простого домашнего приема, но годное для того, чтобы ноткой холодной официальности задеть мать, молча напомнив про утренний разговор.
Задела Ольга и сестру без умысла. Ярослава, старательно улыбаясь, с волнением подавая руку гостю, вместе со всеми направляясь сначала в китайскую гостиную, затем к столу, думала о том, как просто и невыгодно выглядит сейчас она рядом со своей сестрой, и ей уже отчаянно не нравилось любимое льняное платье-рубашка, не нравилась со всем старанием заплетенная Анфисой коса, а собственные движения, отражающиеся в каждом из множества любимых отцом высоких зеркал, казались движениями медведя, следующего за пантерой Ольгой.
Сели за круглый стол: Анна Константиновна сочла, что это будет спокойнее и все почувствуют, что они наравне. К собственному своему удивлению и, как ему показалось, к радости хозяйки, Дмитрий без всякого волнения стал рассказывать про космос, про удивительные миры, в которых ему удалось побывать, про совершенную красоту галактик, созданных точно такими, чтобы возможны были в них планеты, населенные жизнью. Никогда ранее не выдавалась ему возможность быть в рассказе главным, или он по характеру своему упускал ее. Офицер слыл малословным, холодным, хотя в душе таковым не являлся. Должны были сложиться такая обстановка и такое общество, чтобы смог он раскрыть себя, и вот они наконец сложились.
Ярослава, позабыв про платье, про сестру, про все на свете, слушала офицера с блестящими глазами, затаив дыхание. Девушка встретилась наконец-то с тем космосом, который был ей желанен: с настоящим, большим, неизученным. Утром, когда Анфиса занималась ее платьем и волосами, Ярослава думала о том, как правильнее вести себя, что делать и не делать, что говорить и так далее. Теперь же все это вылетело из ее головы, и она, словно счастливый ребенок, забылась в атмосфере разговора. Не было никакого страха спросить о чем-то, выразить восхищение, удивление или переживания.
Ольга, напротив, держалась отстраненно, показывая неявно, но достаточно для того, чтобы мать это заметила, что находит все это глупым. Ее отношение к космосу проистекало из философии, распространенной среди мрачников и оставлявшей возможность истинного романтизма только человеку: красота рождается внутри человека, в чувствах, сохраняется только в искусстве, и искать ее у природы – отсталое стремление.
После чая и сладостей все прошли в зал для музицирования. У Остроумовых был великолепный «шредеровский» салонный рояль с памятью и самонастроем. Супруги любили музыку и то же старались привить своим детям. Надо сказать, что Ольга не любила играть на людях. Это было известно Анне Константиновне, но все же она попросила именно Ольгу что-нибудь исполнить. Мать надеялась таким образом обратить внимание гостя на талант младшей дочери. К некоторому удивлению матери, девушка согласилась. Не доставая нот, она начала пьесу. Музыку не узнавал никто из присутствующих, отчего все с особым вниманием вслушивались в нее. Ольга играла удивительно легко, и мелодия неизвестного ноктюрна в ее исполнении все больше напоминала плач. Не доиграв одну ноту, которая явно угадывалась и ожидалась, девушка убрала руки с клавиатуры. Пауза затянулась, и Анна Константиновна тихо захлопала. Ее аплодисменты сразу подхватили Дмитрий и Ярослава. Ольга коротко поклонилась, встала и попросила позволения уйти к себе.
Анна Константиновна представила дело так, что дочери с утра нездоровится, и начала рассказывать пораженному музыкой Дмитрию про таланты Ольги, про то, как хорошо чувствует она современное искусство, но поскольку рассказ этот становился опасно затянутым и все более и более неестественным, смущенная собственной неловкостью, хозяйка, открыв на машинке будто бы пришедшую телеграмму и пообещав вернуться позже, оставила Ярославу и Дмитрия одних.
Попробовав по разу сыграть на инструменте известные вещи, они вместе посмеялись своей неловкости и снова принялись говорить о космосе. Ярослава рассказывала о книгах, которые воспитали в ней любовь к путешествиям, и оказалось, что многие из них Дмитрий и сам читал в детстве. Дошел разговор и до нашумевшего нового романа К.Н. Астролябина «Гибель Земли».
– Скажите, а вы не боитесь, что наше Солнце в самом деле может взорваться? Кажется, есть даже какие-то наблюдения, расчеты… Вы думали всерьез об этом?
Дмитрий задумчиво посмотрел на окно, а точнее, на солнечный свет, теплые, почти вечерние лучи которого дробились узорчатым тюлем на лучики.
– Как вам сказать… Я был свидетелем больших космических событий, знаю не понаслышке, какие опасности таит в себе Вселенная. Звезды огромны и порой непредсказуемы; человек и мал, и слаб, но он в то же время вершина, нечто особенное. Мы разительно отличаемся от любой прочей жизни и тем более неживой материи. Среди офицеров принято считать, что космос дан человеку в качестве испытания – испытания наших сил, нашей веры. Нет, я не боюсь.
– Я тоже не боюсь. Большие катастрофы… они увлекательны! Я имею в виду это волнение, столкновение со стихией. Даже не знаю, как объяснить… Мне нравятся такие романы, такие кинофильмы. Но книги больше. Кинематограф все-таки навязывает образы и будто спорит с воображением.
– Насчет книг я всецело на вашей стороне. А вот лицезрение космических катастроф, пожалуй, будет для меня мучением, – улыбнулся Дмитрий.
– Да-да, конечно, я вас очень понимаю! Но какие тогда вам нравятся кинофильмы? Исторические?
– Вы правы, я люблю историю. Даже если многое выдумано. Тысячи лет назад человек открывал Землю почти так же, как мы сейчас открываем космос. Океан был для него чем-то вроде космоса, огромной стихией, скрывающей новые земли, тайны, опасности. Сколько мужества надо, чтобы отправиться в неизведанное на хрупком деревянном судне, приводимом в движение переменчивым ветром!
Автомат-лакей тихо вошел в залу с большим подносом в руках, переставил на столик у окна вазы с фруктами и шоколадом, бокалы и высокий графин из цветного стекла. Затем он, дождавшись паузы в разговоре увлеченных господ, поинтересовался тихо, не желает ли Ярослава чего-нибудь еще, и, получив в ответ отрицательный короткий поворот головы, удалился.
Они сели за столик друг напротив друга.
– Папа очень любит груши, – улыбнулась Ярослава, накалывая дольку двузубой вилочкой. – У нас всегда в доме есть груши. Есть свой фруктовый сад, но эти, конечно, нездешние. Честно говоря, понятия не имею, откуда их привозят.
– Должно быть, из Южного полушария, из Русской Америки или еще откуда-нибудь, – предположил Дмитрий. – Там сейчас осень.
– Не может быть, чтобы с других планет?
Волховский усмехнулся.
– Это вряд ли… Впрочем, я бесконечно далек от мира торговли.
– А как вы вообще смотрите на торговлю? Я хочу сказать… должно быть, для вас, космических пионеров, это занятие очень скучное?
– Отчего же? Нет, я не думаю, что это скучно. Купеческий флот буквально за нами следует, и, вы знаете, мне кажется, именно купцам мы обязаны тем, что новые планеты растут и заселяются так быстро. Повторю, я далек от экономики, но ведь, как пишется в книгах, «деньги – это шестерни в машине империи».
– То есть вы не видите дурного в том, чтобы стремиться зарабатывать большие деньги?
– В честном заработке не может быть дурного. К тому же Владимир Ростиславович, как я понимаю, не только торговец, но и производитель. Он говорил о заводе… Простите мне мое невнимание, не запомнил, какой именно завод…
Ярослава смутилась того, что Волховский точно угадал причину ее вопросов и, должно быть, сделал и следующее предположение, а именно – что ее интересует отношение офицера к ее семье. Все вместе стало похоже на попытку познакомить его поближе с семьей. Из-за этого возникла пауза, и легкий румянец тронул щеки девушки.
Она, впрочем, продолжила, почти не выдавая волнения и с некоторой даже гордостью:
– У нас парфюмерная фабрика. Даже две. Да, папа занимается совершенно чудесными вещами! Мы и духи теперь выпускаем. Только, боюсь, вы про них не слышали. Они не очень известны.
– В этих вещах я точно не эксперт! – рассмеялся Волховский. – Но, по крайней мере, запах розы от жасмина отличаю. Вы знаете, на Андромеде Первой есть розовое дерево. Розового по цвету в нем ничего нет, листья серо-зеленые, кора и сама древесина черные как уголь. Но древесина, пока не высохнет, пахнет розой.
– Кажется, я что-то такое слышала или читала. Отчего же это дерево не стало популярным? Из него не строят, не делают мебель?
– Этих деревьев осталось очень мало. Когда на Андромеде запустили оземельные станции, атмосфера и климат начали меняться. То, что подходит человеку, не слишком подходит розовому дереву.
– Это грустно!
– Ничего не поделаешь, мы не можем созидать, совсем не разрушая. Может быть, это вопрос меры, а не решения как такового.
Они снова перешли к космическим путешествиям, и Дмитрий стал рассказывать, какие еще удивительные растения доводилось ему встречать на далеких планетах. Разговор их был легок, полон простых шуток и порой совсем не походил на разговор взрослых людей, но им не было до этого никакого дела.
9. Анфиса
Вечером, ходя в возбуждении по своим комнатам, Ярослава пересказывала горничной, автомату по имени Анфиса, дневные впечатления.
Надо заметить, что такого рода общение между автоматом и человеком было в то время делом редким и считалось странностью. В детстве ребенок не различает людей и автоматы, те и другие для него одинаково «живые». При этом довольно рано он начинает чувствовать разницу положения первых и вторых. Ярослава все это как будто игнорировала. Ребенком она приглашала Анфису участвовать в играх наравне с людьми и защищала ее, когда та в силу естественного несовершенства программы допускала какую-нибудь смешную ошибку. Сложности в общении с младшей сестрой, замкнутость, нежелание (или, лучше сказать, боязнь) искать друзей в междусети постепенно превратили автомат в тайную ближайшую подругу, которой девушка пересказывала свои удачи и неудачи, волнения, надежды, желания, обиды.
В возрасте шестнадцати лет – а в некоторых семьях даже раньше – принято менять автомат-няню на новую прислугу. Вступающему во взрослую жизнь позволяют выбрать внешность автомата, голос, и это действо обычно вызывает только радость. Такая замена считается докторами правильной еще и по той причине, что позволяет взрослеющему разуму скорее перешагнуть всякие неловкие и стыдные события из детства, свидетелем которых является няня.
Ярослава не хотела расставаться с Анфисой.
Перед своим шестнадцатым днем рождения девушка заболела. Подозревали воспаление легких, и, хотя лечение как будто не представляло для медицины больших сложностей, восстановление шло медленно. Причина телесной и душевной слабости открылась только батюшке, настоятелю Иверского храма отцу Михаилу, навестившему по просьбе матери больную, в том храме крещенную.
– В автомате она видит друга, – объяснил отец Михаил родителям то, что узнал от Ярославы. – Нет причин этого стыдиться, так как разум автомата – производное от человеческого разума, пускай измененное и упрощенное. Милосердие к меньшим – в наше время понятие очень широкое, и, хотя церковь специально объясняет все, что касается автоматов, я не думаю, что надо насильно разделять их. По крайней мере, не сейчас, когда страх расставания стал равен по силе недугу и может являться его причиной.
Анфиса осталась в доме Остроумовых. Как и положено автомату, к тому же не новому, она перенесла несколько ремонтов, и всякий раз Ярослава сопровождала ее до техника, а потом забирала обратно. Разумеется, Ярослава осознавала вполне, что Анфиса – создание искусственное и не способна отвечать ей так, как ответила бы реальная подруга. Но богатое воображение приходило на помощь, и эти удивительные отношения длились не разрушаясь, как должны были бы разрушиться, если бы происходили единственно из особенностей и заблуждений детского растущего сознания.
– Понимаешь, с ним легко. Мне редко бывает так легко с людьми, тем более с практически незнакомыми, – говорила Ярослава, обращаясь к Анфисе. – Ты скажешь, что у меня, вероятно, сложилась к нему сразу какая-то симпатия. Если бы я знала, что это такое! Нет, вот послушай: что было первым?.. Не отвечай. Я знаю, ты скажешь: «А если бы на его месте был какой-нибудь другой офицер?» Да, он офицер Корпуса. Он летал так далеко! Ты представляешь, где он был? Он знаменит, он герой! Разве возможно, чтобы такой человек запросто смеялся со мной какой-нибудь нашей неловкости? И если так скоро случилась эта легкость, разве не подтверждает она особое предназначение?
Ярослава часто использовала этот оборот – «ты скажешь» – как средство поддержания иллюзии общения. Придумался он как-то сам собой и вскоре уже произносился не нарочно. Иногда девушка давала ответить Анфисе, когда знала, как та ответит, но специально поправкой программы автомата под свои желания не занималась, и даже мысль об этом была ей неприятна («Мы понимаем друг друга!»).
Единственное, что поменяла Ярослава в Анфисе, – это обращение. Автоматы обращаются к хозяевам и их семье не иначе как «господин» и «госпожа», однако девушке хотелось слышать «сударыня». Это тоже делало их ближе, нарушало будто бы барьер, существующий между человеком и автоматом.
* * *Стемнело. Взошла луна, почти полная. Ярослава, зарывшись в большое летнее одеяло, которое еще не нагрелось и холодило, заставляя сворачиваться под ним и выжидать, когда придет в кровать тепло, вспоминала пролетевший словно одно мгновение вечер. Занавески едва заметно колебались, оживляя чуть розоватую луну, низко висящую над большим городом, который жил своей городской жизнью – торопливой, насыщенной. Звуки этой жизни казались девушке звуками с других планет, записанными и теперь воспроизводимыми, чтобы ей легче засыпалось. Усадьба постепенно превращалась в космический корабль, который посещает эти диковинные миры. Можно было смотреть на них из окна-иллюминатора, не выходя в них и не касаясь их, в безопасности, незаметно. Миры сменяли друг друга, шумели, переговаривались. Полусон становился сном.