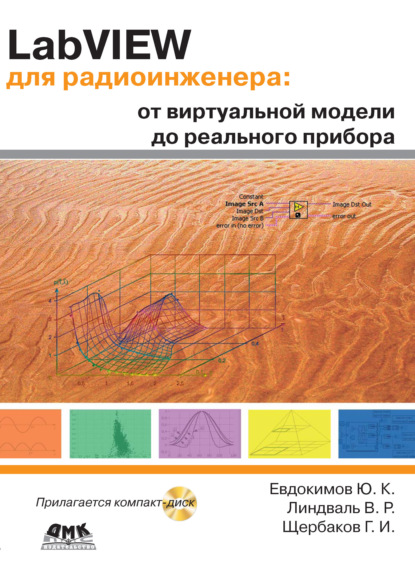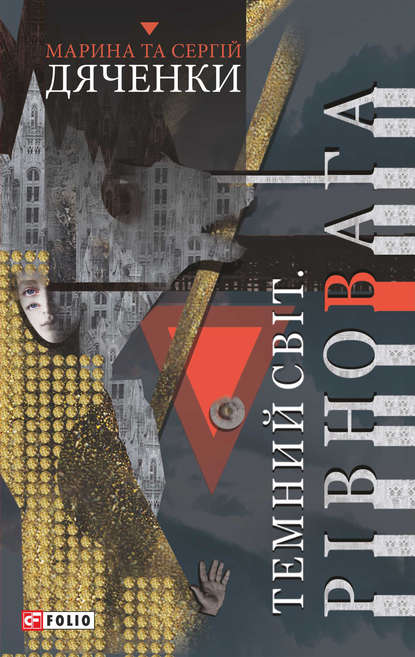Крибле-крабле-бумс!

- -
- 100%
- +
– Мы уж не в том возрасте, Кайчик, чтобы просто так смущаться! – весело объясняла она. – Так что вот. Посидели, чаю попили, покалякали о том о сём… Про спектакль вечерний, про срочный ввод Славочки Летягина в «Дядю Ваню», а то Тальман опять болеет… Про то, что финансирование в театре всё урезают, а требуют, наоборот, всё больше: и премьеры чтоб несколько раз в год, и спектакли шефские… А где мы им столько премьер возьмём? Актёры то уезжают, то умирают, то ещё чего. Ты меня слушаешь?
– Ага, – встрепенулся я. Я не слушал, если честно. У меня своих проблем хватало… И всё вспоминал, как мы сегодня с Мартой шли после её спевки в немецком хоре. С Мартой – и с её Эдинькой, естественно. Потому что его некуда девать. И Эдинька, как обычно, ныл, что ему «скуучно!», и меня от этого «скуучно!», как обычно, передёргивало… И старался не вникать в его скуку, а больше разговаривать с Мартой.
Она мне утром записала аудиосообщение в ответ на моё яростное «Не помогло!!!»
И я целый час не решался его послушать. Боялся, что она там каких-то гадостей наговорила. Типа – не её проблемы, и вообще, по какому праву я с ней так разговариваю, и прочее…
Но потом всё-таки не выдержал. Закрылся в ванной, надел наушники, вздохнул поглубже и нажал на «Прослушать аудиосообщение».
Вот оно:
«Кай, привет, я очень тебя понимаю. И сочувствую, что не помогло. Но пойми: такие вещи так просто не решаются. Иногда бывает недостаточно дождаться рассвета, недостаточно обнять тополь, залезть на лестницу, протянуть руки к солнцу… ну… и вот это вот всё. Понимаешь? На самом деле выздоровление – очень сложная штука. Но поверь: это не зря. Ты сделал первый шаг. Теперь, возможно, будут нужны сеансы. Поговори с мамой – если она не против, буду лечить тебя. Всё обязательно будет хорошо, даже не сомневайся! Приходи сегодня на спевку, посидишь, потом вместе погуляем, поговорим, я уверена, что смогу тебя успокоить! Держись, Кайчик! Если согласен, пиши, договоримся, во сколько встретимся».
Ну, и я, несмотря ни на что, был рад, что она вежливо ответила и – с пониманием. И даже Кайчиком назвала, а это уж на меня совсем хорошо действует. И я ей написал в ответ: «Ладно, давайте встретимся»…
Мама на этот раз даже не спросила, куда я иду, потому что она всё думала о своём Давиде Викторовиче и как она сегодня с ним поговорит после вечернего спектакля. Снова будет подталкивать его к действиям, чтобы не стеснялся. Ключик подбирать. Она, кажется, даже не заметила, что я ушёл…
Марта с Эдинькой уже стояли у подъезда, и Эдинька даже улыбнулся, когда меня увидел, даже ныть перестал на секунду. И это тоже было приятно.
А потом я сидел в первом ряду, Марта играла на фортепиано и пела, и её немецкий хор тоже пел, внимательно на неё глядя, и я тоже тихонько подпевал из солидарности. Надеюсь, я их не сильно сбивал, потому что мама про моё пение говорит, что мне не просто медведь на ухо наступил, а – целая медвежья стая. И я как раз Марте про это рассказывал, когда мы шли со спевки.
Марта засмеялась и сказала:
– Медведи стаями не живут.
– А как живут медведи? – спросил я.
– Медведи – животные одинокие, – Марта усмехнулась. – По крайней мере, самцы. Как и люди, собственно, – Марта снова усмехнулась и задумалась. И у неё глаза стали прозрачными. То есть, они и так у неё светлые, но я заметил: когда Марта о чём-то важном рассказывает или задумывается – у неё зрачки вообще, как будто сквозь стекло смотришь, становятся! Даже жутковато. Ну, может, у экстрасенсов так и должно быть.
– В общем, медведи – типичные мужики, – сказала Марта. – Пока медведица с медвежатами возится, медведь шляется со своими дружками бог знает где. Или заляжет в берлогу да лапу сосёт. Ненавижу, – внезапно добавила Марта.
И я подумал: она, наверное, вспомнила отца Эдиньки. Он же их бросил… Вот и разозлилась. И я, чтобы перевести разговор, спросил:
– А вы были в Третьяковской галерее?
– В детстве была, – рассеянно ответила Марта.
– Круто! – сказал я. – Я вот никогда не был, но очень хочу. Я люблю разные картины.
– Молодец, – пробормотала Марта.
Мы идём по осенней улице. Первый снег почти растаял, потеплело, даже дождь был ночью. И лужи оттаяли.
– Эдинька, ну куда ты в лужу? – кричит Марта.
– Ну, ма-ам!
– Что «мам»? По шее захотел? – совсем что-то Марта расстроилась. А я думал, экстрасенсы всегда спокойные. Потому что, когда знаешь больше, чем остальные, и видишь больше – всегда как-то спокойней. Хотя, может, и наоборот…
– А вы видели в Третьяковке «Утро в сосновом лесу?» – я всё пытаюсь отвлечь Марту, и, может, постепенно, вывести на разговор о своей болезни.
– Конечно, – кивает Марта. – Как раз там медведи шикарные.
– Ну да, я потому и вспомнил, – говорю. – А правда, что там медведей нарисовал другой художник?
– Правда, – отвечает Марта. – Шишкин замечательный пейзажист, а животных рисовал не очень. Вот и попросил друга. Савицкого.
Марта очень умная. Много знает. Наверное, институт окончила. Мама моя – только училище, а потом я родился, и совсем не до учёбы ей стало… Ну, мама тоже умная. Просто не знала, что медведи стаями не живут.
– А есть, наоборот, художники-анималисты, – продолжает Марта, потихоньку успокаиваясь. – Александр Дёгтев, например, такой… Так здорово всяких собак и медведей рисует – как живые они у него! Но у анималистов животные хорошо получаются, а люди, бывает, не очень. Так и в музыке у нас. Кто-то хороший концертмейстер – но плохой педагог, скажем. А кто-то, наоборот, может отлично научить играть на фортепиано, а сам играет не очень. Всякое бывает. Кто-то хороший композитор, но плохой аранжировщик. И наоборот.
– А в театре так же? – спрашиваю я.
– Наверное, – отвечает Марта. – Кто-то плохой режиссёр, но при этом хороший актёр. И наоборот.
– А бывает, что – и режиссёр хороший, и актёр? – спрашиваю я, вспомнив Давида Викторовича.
– Почему бы и нет, – улыбается Марта. – Так же, как, бывает – и режиссёр плохой, и актёр при этом тоже… Эдинька, да хватит в лужи лезть, кому сказала!
– Ну ма-а-ам!!!
Мне всё хочется заговорить о болезни, спросить, что за лечебные сеансы у нас будут, если мама согласится, и сколько они будут стоить – с деньгами-то всегда у нас не густо, я и про это тоже думаю, как не думать, когда мама постоянно жалуется насчёт денег… Но Марта молчит про это, и мне неловко ни с того ни с сего перевести разговор на себя, и я нервничаю и чувствую, что опять подкатывает к горлу и становится тяжелей дышать, и быстро вытаскиваю из кармана ингалятор, брызгаю в горло, и снова идём… И снова лужи, и чуть-чуть снега кое-где, и деревья голые высокие, тянут чёрные руки к белому небу… И свежо, и хорошо. Ещё бы я выздоровел и Эдинька не ныл…
– А что за песню вы сегодня с хором разучивали? – спрашиваю у Марты.
– «Ди фишерин фон Бодензэ»?
– Ну да.
– А, это старинная… Эдинька! Еще раз в лужу прыгнешь – убью!
– Не убьё-ёшь… – ноет Эдинька и всё-таки нехотя обходит очередную лужу.
– Почему это не убью?
– Ну, ты же моя ма-ама… Мамы детей не убива-ают…
– Ещё как убивают.
Эдик морщится, готовясь зареветь.
– Шучу, шучу, ну не прыгай ты по лужам, правда! Простудишься, кто лечить будет?
– Ты!
– Почему?!
– Ну, ты же моя мама!
– И не поспоришь, – усмехается Марта.
– «Ди фишерин»… – напоминаю я. – Это про что?
Ну просто – очень мелодия такая задорная у песни, веселая, аж танцевать хочется!
Марта задумывается, глаза снова становятся прозрачными, беззвучно шевелит губами.
– Ну, там примерно про то, что… Рыбачка Боденского озера – прекрасная девушка, она ловит рыбу, и большую, и маленькую, и всё у неё получается… И даже старая щука попадает в её сеть, хоть, конечно, щука мудрая и всё такое… Но рыбачка и щуку ловит. Вот такая она, значит, прекрасная, и отличный рыболов. Вся рыба попадает в её сети – и старая, и молодая, и большая, и маленькая…
– Ловись, рыбка, и большая, и маленькая? – перебивает Эдинька. – Как в сказке про Лису и Волка?
– Ну да, вроде того, – соглашается Марта. – Только сказка – русская, а песня – немецкая.
Марта – русская немка. Потому, может, и в этот хор её взяли. И, может, она тоже думает улететь в Германию, как её подопечные, которые поют про рыбачку. Не знаю. Спрашивать неудобно опять же. Ну, пусть летит, только сперва вылечит меня.
Марта берёт Эдиньку за руку, чтоб легче было вытаскивать его из луж. Мы идём дальше, и я думаю про эту немецкую старинную песню. Какая она веселая – но, в общем-то, ни о чём. Ну, рыбачка. Ну, ловит рыбу. Даже старую щуку поймала. Подумаешь, какой сюжет… Но всё равно – петь весело, потому что очень уж мелодия прикольная. А что от песни требуется? Чтобы петь её было приятно. Все пели, и всем было приятно, я видел. И Марта тоже здорово пела и играла на фортепиано. И даже я подпевал, несмотря на медвежью стаю, наступившую мне на ухо. Хоть медведи стаями, как выяснилось, и не ходят.
– А дальше? – спрашиваю Марту.
– Что дальше? – удивляется Марта.
– Ну, рыбачка, – говорю, – прекрасная женщина и отличный рыболов. А дальше там что?
– Дальше – тишина, – улыбается Марта. – Ну, то есть, дальше – всё. Вся песня – просто констатация факта.
Мы подходим к её дому.
Марта протягивает мне руку, я пожимаю в ответ, и, наконец, решаюсь спросить:
– Так это… Что насчёт меня?
Марта вопросительно смотрит.
– Ну, вы сказали, мы встретимся, поговорим, насчёт моего лечения – потому что утром не получилось ничего… Когда на лестнице стоял, солнце встречал…
– А, да, извини, – говорит Марта. – Начали про медведей – и я забыла, – улыбается. – Давай так. Как минимум, нужно будет десять сеансов. Скажи маме, пусть она мне позвонит, или, может, зайдёт, как время будет. Посидим, я ей погадаю, заодно и насчёт тебя обсудим.
Ну и хорошо, думаю. Пусть и насчёт цены сами обсудят, а то мне неудобно спрашивать.
– Не грусти, – улыбается Марта, а через секунду уже не улыбается, смотрит очень серьёзно, и глаза такие, будто видит насквозь и меня, и весь мир… Глаза насквозь, да. Странная всё-таки. – Не грусти, Кайчик. – И кладёт руку мне на плечо.
И мне стало приятно: и что снова назвала Кайчиком, и что рука её на моём плече, и я засмущался и подумал, что всё это как-то немного странно. А Марта ничего такого, конечно, не думала. Так что это я просто такой – очень смущающийся, говорю же.
– Эдинька, попрощайся с Каем.
– Пока-а-а! – протянул Эдинька.
– Пока, – сказал я.
– А ты к нам скоро придёшь? – вдруг спросил он.
И мне это тоже было приятно. Что даже такой вечно недовольный ребёнок по мне скучать будет. Если я правильно его понял. Надеюсь.
И вот теперь, поздним вечером, почти ночью, мама всё рассказывала про Давида Викторовича, как они общались за чаем, а я очень хотел спать, тем более подскочил же в пять утра. Но мне было неловко сказать об этом маме, она была такая счастливая.
И я терпеливо дослушал до того момента, когда Давид Викторович допил последнюю кружку чая и сказал:
– Ну, Маргарита Сергеевна, спасибо за компанию. Развеяли мои горькие думы… Пора мне, – и снова очень смущённо на неё поглядел.
– И тут я решилась! – воскликнула мама так, что я аж вздрогнул, поскольку, оказывается, начал задрёмывать. – И прямо ему сказала: Давид Викторович, что мы будем ходить вокруг да около? И он обрадовался и ответил: действительно, чего мы будем ходить? А вы, мол, собственно, о чём?
Мама тогда ответила, что – мы уже не молоды, и всё такое, и, тем не менее, женщина не должна первой предлагать отношения, но она всё-таки решилась, потому что видит: Давид Викторович очень уж интеллигентный и сам первый поэтому не предложит. И Давид Викторович совсем смутился и сказал:
– Да, вот, понимаете, Маргарита Сергеевна, странно. Как актёр кого угодно могу сыграть – хоть клоуна без штанов, извините: и такое приходилось изображать… И как режиссёр – довольно жёстким бываю, сами знаете…
– Да уж знаю, – мама усмехнулась.
– Извините, – бормочет Давид Викторович.
– Всё правильно, – мама его успокоила. – Режиссёр и должен быть жёстким иногда. Иначе съедят.
– Это точно, – смеётся Давид Викторович. – Скушают и не подавятся… Так я и говорю: на сцене, понимаете, раскрепощённый, а вот в личной жизни – всё чего-то стесняюсь. Потому и с жёнами так выходит, наверное, и дети толком не общаются до сих пор… – И режиссёр загрустил.
– Они просто не понимают, какой вы! – мама воскликнула.
– А какой я? – Давид Викторович спрашивает.
– Вы – такой! – мама горячо отвечает. Ну, и дальше разные слова приятные ему…
В итоге Давид Викторович решился – и пригласил маму в ресторан. Посидеть, поговорить. Завтра, после репетиции. И мама прямо на крыльях домой прилетела, и…
– Кай!
– А? – я вздрогнул и проснулся.
– Бедненький, я тебя тут мучаю своей личной жизнью, – чуть обиженно сказала мама.
– Всё хорошо, – сказал я. – Просто, извини, рано встал же… Потом с Мартой ходили к ней на работу…
– Хм, – сказала мама. – Чего это ты с Мартой ходил?
– Она предложила, – сказал я, мучительно борясь с желанием снова закрыть глаза. – Про лечение моё поговорить… Там, про сеансы… Она сказала, чтоб ты ей позвонила… или зашла… Насчёт меня…
– Ну, хорошо, – растерянно сказала мама. – Ты ложись, Кайчик, отдыхай…
И дальше я опять ничего не помню, потому что заснул. И снова задыхался во сне, и снова просыпался, и искал ингалятор, и нашёл не сразу, и было дико страшно, что не успею найти и умру, и думал: надо срочно договариваться с Мартой насчёт сеансов, надо срочно что-то делать, я так больше не могу… Надо срочно… Потом брызгал в горло и постепенно начинал дышать, сперва с хрипом, потом чище, чаще, но уже боялся снова засыпать и лежал в темноте с открытыми глазами, а по потолку бежали блики проезжавших машин, и шум машин слушал…
А теперь – никаких бликов. Уже шестой день подряд. И шума никакого. Я в темноте. Проснувшийся. Снова задыхавшийся во сне. И теперь постепенно отхожу, дыхание восстанавливается, с хрипом и болью…
И я не могу лежать. Я лучше встану.
Я встану у окна и буду смотреть на снег. Буду смотреть на снег, и на голые деревья, и на заснеженную крышу домика напротив. Домика с нарисованной на окне кошкой. Интересно всё-таки, кто там живёт. Ну, то есть, жил… Я буду смотреть, как снег заметает землю. И как голые деревья тянут в светло-серое небо худенькие руки. Я буду смотреть на белую пустую дорогу и на одинокий дорожный знак у пешеходного перехода… Я буду смотреть на снег и думать, что всё когда-нибудь проходит. И многое без следа…
Всё проходит, и только я остаюсь и остаюсь. Зачем? Чтобы смотреть в окно, за которым больше нет людей, смотреть, и вспоминать, и записывать этот подкаст неизвестно зачем и для кого.
Но, может, только когда остался совсем один на Земле, ты, наконец, и можешь сказать что-то важное? Когда больше не перед кем притворяться, некого смущаться или бояться, а, значит, можно, наконец, быть самим собой? Только тогда ты всё и расскажешь, когда – некому? Когда никого нет. Даже и тебя, может, нет… И какая тогда разница?
Марта тогда, на первом сеансе, сказала:
– Ты должен рассказать. Чтобы идти дальше.
Вот и рассказал ей. А теперь и вам расскажу. Чтобы идти дальше. Даже если рядом со мной больше никто никогда идти не будет… Но, даже если я навсегда остался один на Земле, я всё равно должен идти. Пусть хоть от дома до станции и обратно. Я должен идти. Я так чувствую.
Поэтому расскажу. Но – утром. А теперь я должен хоть немного поспать.
С вами был пятый выпуск моего подкаста «Последний человек». Оставайтесь с нами, и вы узнаете об удивительных приключениях Кая Ивановича, то есть меня. Подписывайтесь. Вас уже целых ноль. Это огромная цифра. Всем хрю.

Выпуск шестой
Уникальный зверь – понимышь!!! И немного личного

Всем привет, с вами шестой выпуск подкаста «Последний человек», и я его автор и ведущий Кай Иванович. Я по-прежнему один. Каждое утро я просыпаюсь и надеюсь, что всё вернулось и все вернулись. И в надежде, и в страхе подхожу к окну, но там – по-прежнему никого. Ни людей, ни машин. Ни родителей, ни детей. Ни старушек с сумками, ни старичков с собачками. Ни-ко-го.
Я сегодня дошёл до дома Марты. Постоял у подъезда. Вспомнил, как мы с ней и с Эдинькой тогда стояли, после очередного лечебного сеанса. Это уже следующим летом было. На каникулах. Зимой Марта начала моё лечение и всю зиму, и всю весну пролечила, десятью сеансами ограничиться не удалось, потому что так ничего и не проходило. Немного легче становилось иногда, а потом снова… И вот, это уже было новое лето.
Была почти ночь, но довольно тепло. И фонарь горел над крыльцом.
И Эдинька мне говорил испуганно:
– Знаешь, тут летучие мыши! Ты видел?
– Нет.
– Да-да! Осторожней! Ты вот – в белом, а они на белое летят!
– Ну и что? – спросил я. – Они же не кусаются.
– Ага, не кусаются! – Эдинька сделал большие глаза. – Они даже кровь пьют! Вампиры!
– Эдинька, ну что за глупости! – Марта оторвалась от телефона. – Какие у нас вампиры? Они только в тропиках да в субтропиках… У нас обычные летучие мышки.
И она снова исчезла в своём телефоне, а Эдинька всё пугал:
– Ага, «обычные»! Как схватят когтями! Как вцепятся в твою футболку белую! Мама на кухне однажды еду готовила и вдруг – как заорёт! Я прибежал – «что случилось»? А там – летучая мышь, огромная! Наверное, за бабочкой гналась и к нам в окно залетела! Мама кричит, полотенце схватила, выгоняет ее: «Кыш! Кыш!» Как будто это птичка.
– Ну, выгнали в итоге? – спрашиваю.
– Выгнали, но у мамы потом долго руки и ноги тряслись. Прямо села на табуретку и говорит: «Ой. Чуть не умерла. Теперь вечером всегда на кухне окна буду закрывать!» А теперь говорит – «обычные летучие мышки»! Забыла, что ли? Мам?
– Что? – Марта недовольно отрывается от телефона.
Наверное, с Тимофеем опять общается. Есть у неё такой знакомый. Тоже экстрасенс… Мы ещё в начале этого лета шли с ней и с Эдинькой после спевки, и Марта была грустная, и глаза у неё снова были прозрачные.
И она всё рассуждала, уехать или остаться. Половина её хора уже уехала… С одной стороны, говорила, надо уезжать. А с другой – чего там делать с профессией пианиста? Тем более языка она не знает. И Эдинька такой чувствительный, как он в чужой почве – приживётся, нет?
И я шёл рядом, слушал и не знал, что посоветовать.
И Марта наконец тряхнул головой и сказала:
– Зайдём к Тимофею.
И мы остановились у какого-то дома старого, довольно облезлого, и Марта набрала номер и сказала в телефон:
– Тимофей, ты дома? Хорошо. Мы тут, у дома твоего. Пойдём на пляж?
И я ничего не понял. С чего вдруг – на пляж? Да ещё с каким-то Тимофеем? А главное – при чём тут тогда я? И я сказал:
– Я тогда домой.
– Нет-нет, – Марта выставила вперёд ладонь. – Ты с нами!
Я не понял, зачем я – с ними, но спрашивать было неловко. Тем более Эдинька в этот момент взял меня за руку. Это первый раз он меня взял, и я растаял.
Мы ждали Тимофея, и Марта мне про него рассказывала, какой он хороший, и какие у него сверхспособности, на этой почве она с ним и познакомилась, и с тех пор дружат. А лечит он даже лучше, чем Марта и, если что, тоже за меня возьмётся…
Наконец, из подъезда вышел Тимофей. Высокий и худой. В очках. А так ничего особенного. Посмотрел на меня.
– Это Кай, мой знакомый, – сказала ему Марта. – Кай, это Тимофей.
– Кай? – удивлённо переспросил Тимофей.
Ну да, все удивляются. Почему б и ему не удивиться.
– Да, представляешь? – улыбнулась Марта.
– А почему – Кай? – спросил Тимофей.
– Мамина любимая сказка «Снежная королева», – вздохнув, привычно объяснил я.
– Круто! – улыбнулся Тимофей. Улыбка у него оказалась широкая – аж до самых дужек очков. – Ну, привет, дорогой! – Это он уже Эдиньке.
Эдинька довольно мрачно ему кивнул. Видно было, что не очень этот Тимофей ему по душе.
И мы пошли на пляж. Оказалось, Марта изначально туда и планировала после хора, у неё в сумке и полотенце было, и прочее…
И вот Марта и Тимофей шли впереди со своими пляжными сумками и оживлённо беседовали, а мы с мрачным Эдинькой шли сзади. Марта иногда оглядывалась на нас – убеждалась, что с Эдинькой всё в порядке, и снова возвращалась к болтовне с Тимофеем.
Пляж у нас маленький, конечно. Но всё-таки летом вполне можно и загорать, и купаться. И вот Марта расстелила простыню под акацию, усадила своего Тимофея и уселась с ним рядом.
А мы с Эдинькой стояли и не знали, что делать.
– Последи, пожалуйста, чтоб не утонул, – сказала мне Марта, кивнув на Эдиньку. – А мы с Тимофеем посидим немножко, надо поговорить… Не пускай его в воду, главное!
Мы подошли к воде. Эдинька снова сунул свою ладошку мне в руку. Мы стояли и смотрели на речку. На плещущихся детей и взрослых. Я молчал, молчал и Эдинька. Даже не ныл, что ему скучно.
Я посмотрел на него, щурясь от солнца. Из-под кепочки виднелся Эдинькин нос. Нос был подозрительно красный. Я наклонился. Глаза тоже были красные. Из них текли большие слёзы. Но Эдинька плакал молча, даже не всхлипывая.
– Ты чего? – испугался я.
Эдинька молча замотал головой.
– К маме хочешь?
Эдинька молчал и лил слёзы.
– Да что случилось-то?
Я испугался и повернул с ним назад, к Марте.
Мы не сразу нашли их с Тимофеем. Просто народу было много, день солнечный, все загорали… Ещё и солнце слепило…
– Ты маму видишь? – спросил я.
Эдинька молча указал пальцем.
Марта с Тимофеем уже вовсю загорали: она в купальнике, он в синих плавках. Неудивительно, что я их не увидел, раз они теперь по-другому стали одеты. Тем более с моим зрением…
Они по-прежнему о чём-то болтали.
Марта увидела нас, удивлённо посмотрела своими «глазами насквозь».
– Он чего-то плачет, – сказал я.
– Эдинька, сыночек, ты что? – удивилась Марта. – Ну, иди ко мне, иди.
Она обняла Эдиньку, он положил ей голову на плечо, и по плечу Марты текли его огромные слёзы.
Он потом не отходил от Марты, всё сидел рядом на простыне, и она то кормила его каким-то пюре, то обнимала. При этом продолжала общаться и с Тимофеем. И я, в конце концов, решил, что я – ну совсем тут лишний, и, набравшись духу, сказал:
– Может, я пойду?
И Марта кивнула.
И Тимофей кивнул рассеянно.
А заплаканный Эдинька подал мне на прощанье тёплую, мягкую ладошку.
И я шёл и думал: зачем мне всё это надо? Марта лечит меня уже полгода, а толку никакого. Правда, она за символическую плату согласилась лечить. Потому что очень хорошо к маме моей относится. А уж мама в ней вообще души не чает: всё, что Марта нагадывает ей – всё сбывается!
И с Давидом Викторовичем мама уже полгода как вместе, ну, правда, он с нами не живёт, встречаются «на нейтральной территории», как мама говорит. Ну, это и хорошо… И Давид Викторович поговаривает о своём возможном переводе в Москву – может, и не во МХАТ, но это же только пока, а там…
Но это маме она помогает. А мне – совсем наоборот. И толку от лечения никакого, и ещё больше я после каждого приступа теперь расстраиваюсь!
И той же ночью, как назло, опять случился приступ, и я задыхался, и брызгал, и заспанная мама прибегала… А потом, как всегда, боялся уснуть, смотрел в темноту на блики на потолке – блики от едущих за окном машин, и думал о маме, о Давиде Викторовиче, о театре вообще… О том, что я, может, тоже стал бы артистом. Мне нравится изображать кого-то.
Я даже в детском саду всё время кого-то играл. Однажды, например, играл тётю Лошадь в «Сказке о глупом мышонке» по Маршаку. У меня была маска лошади. И я в ней ходил и пел глупому мышонку колыбельную.
ПРИХОДИ К НАМ, ТЁТЯ ЛОШАДЬ,НАШУ ДЕТКУ ПОКАЧАТЬ! —
это мне Мышка-мать говорила, а играла её Ника Селиванова. И она на утреннике так разволновалась, что вместо «тётя Лошадь», глядя на меня, сказала «дядя Лошадь». Родители так смеялись! Мама моя чуть со стульчика не свалилась. А Никин папа свалился.
Ника Селиванова вообще хорошая была. Она меня спасла, можно сказать. Когда у меня на тихом часу приступ начался, это первый раз тогда случилось, и я реально чуть не задохнулся. Она увидела – наверное, не спала – и побежала к воспитательнице. А та меня схватила и потащила в медкабинет. Потом маме моей позвонили, она с работы прибежала… Ну, в общем, так всё и началось. Но не будем о грустном.
Кстати, про лошадь. Мама моя иногда повторяет такой странный стишок, я его наизусть запомнил: