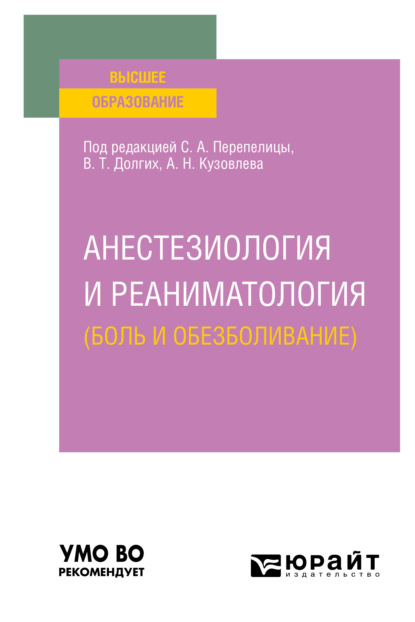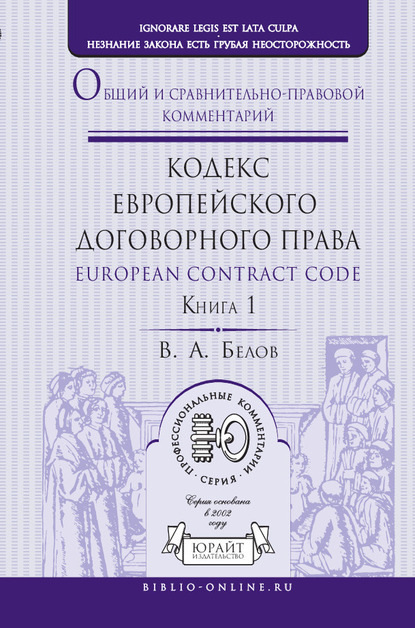Портрет с кровавым мазком

- -
- 100%
- +

Предисловие
Дорогой читатель,
Перед вами – не просто история. Это исследование одной из самых мучительных граней человеческого существования, особенно там, где личность скована долгом и знаком принадлежности. Эта книга – о чести мундира и о том, как она порой вступает в жестокое, неразрешимое противоречие с честью собственной, с голосом совести, звучащим глубже любых уставов.
«Честь мундира»… Эти слова отлиты в бронзу традиций, пропитаны кровью предков, выстраданы поколениями. Мундир – это больше, чем одежда. Это клятва. Это братство. Это незыблемая стена, за которой прячется смысл служения, гарантия порядка, сама идея верности. Он дает силу, защиту, принадлежность к чему-то большему, чем ты сам. Он обязывает. Беспрекословно.
Но что происходит, когда приказ, диктуемый этой самой честью мундира, шепчет тебе на ухо нечто, от чего холодеет душа? Когда долг перед системой требует поступиться тем, что ты считаешь единственно верным и человечным по меркам своей собственной, внутренней чести? Когда молчание или действие во имя «общего блага» или «высших интересов» становится предательством самого себя?
Вот в чем суть выбора, о котором эта книга.
Этот выбор – не между черным и белым. Он разворачивается в зыбкой, кроваво-серой зоне, где любое решение – это поражение. И иногда он решает всё и ничего одновременно.
Холодный лик, как мрамор гробовой,
Улыбка – лед, а в зрáчках – черный страх.
Беда скрывается во тьме ночной
И в сердце, в правде, что как нож, остра
Глава 1. Мазок раздора
Петербург, ноябрь 1867 года. Холод, пришедший с Финского залива, впивался в камни Английской набережной ледяными иглами. Особняк графа Зарницкого – тяжеловесное, ампирное здание с колоннами, казавшееся высеченным из серого петербургского тумана – тонул в ранних сумерках. Окна второго этажа, где располагались парадные покои, светились желтым, неровным светом свечей, словно заплывшие глаза.
Внутри, в малой гостиной, царила тишина, натянутая, как струна перед разрывом. Воздух был густ от запаха скипидара, дорогих духов «Вербена» и тлеющих в камине березовых поленьев. Графиня Елизавета Арсеньевна Зарницкая восседала на потертом бархатном кресле, поставленном специально для сеанса перед громоздким мольбертом. Ее красота была ослепительной и тревожной одновременно – золотистые волосы, уложенные по последней парижской моде, высокий, чистый лоб, большие глаза цвета морской глубины, в которых сейчас плескалось раздражение. Платье из палевого шелка с кружевами couleur de poussière1 подчеркивало ее хрупкость и делало похожей на фарфоровую статуэтку, готовую разбиться.
Художник, Владимир Петрович Лыков, стоял к ней спиной. Его фигура в скромном, но чистом сюртуке казалась еще более угловатой на фоне роскоши гостиной. Он работал с почти яростной сосредоточенностью, его кисть – тонкая колонковая – наносила мазки резко, уверенно, но в движениях чувствовалась дрожь. Не от холода – от напряжения.
– Владимир Петрович, – голос графини прозвучал резко, нарушая тишину. Он был чистым, звонким, но сейчас в нем слышались стальные нотки.
– Вы сегодня пишете, как извозчик, гоняющий клячу по мостовой. Ваша кисть… – она сделала паузу, наслаждаясь эффектом, – она груба. Совершенно лишена изящества. Прямо лыко драть ею, а не портрет писать!
Лыков замер. Спина его напряглась под тонкой тканью сюртука. По скулам, обычно бледным, расползлось нездоровое пятно румянца. Он медленно опустил кисть, не оборачиваясь.
– Виноват, ваше сиятельство. Я… ищу нужный тон. Оттенок вашего настроения сегодня… неуловим. – Голос его звучал глухо.
В проеме двери, затянутом темно-бордовой портьерой с вытканными золотыми орлами, застыла тень. Анфиса Семеновна Благовидова, компаньонка и негласный хранитель фамильных устоев Зарницких, в своем неизменном сером шерстяном платье и кружевном воротничке до подбородка. В руках – потрепанный молитвенник. Ее острый, как шило, взгляд метнулся от вздрагивающих плеч Лыкова к неподвижному профилю графини. В уголках тонких губ застыло неодобрение.
– Настроение? – графиня коротко, беззвучно усмехнулась. – Ищите его в хересе, Владимир Петрович. Или в воспоминаниях о той… как ее… цыганке, что позировала вам на прошлой неделе у Шувалова? Говорят, она обладала весьма… выразительными формами. Не то что ваша покорная слуга.
Лыков резко обернулся. Краска сбежала с его лица, оставив его мертвенно-белым. Глаза, темные и глубокие, вспыхнули обидой и гневом. Пальцы сжали ручку кисти так, что она затрещала.
– Я… – он запнулся, глотнул воздух. – Я не имею привычки обсуждать моделей, ваше сиятельство. Моя задача – запечатлеть красоту. Любую. – Он бросил кисть в старую фаянсовую палитру с грохотом, несоразмерным маленькому предмету. Краски – киноварь, охра, ультрамарин – брызнули.
Из глубины особняка донесся приглушенный, но властный голос графа Арсения Владимировича, требовавшего немедленно секретаря. В дверях гостиной возник Павел Игнатьевич Глухов. Он был безупречен: черный сюртук без единой пылинки, белоснежный крахмальный воротничок, галстук-бабочка завязан с математической точностью. Его лицо – правильное, холодное, с высокими скулами и глазами цвета мокрого асфальта – было непроницаемой маской. Взгляд, тяжелый и оценивающий, медленно скользнул по комнате: замершему Лыкову, бледной графине, сжавшей руки Благовидовой. Поправил и без того безупречный воротничок.
– Графиня, – голос его был тихим, но резал тишину, как нож. – Граф просит вас пожаловать в кабинет. Вопрос о завтрашнем визите к княгине Щербатовой требует вашего… одобрения.
Елизавета Арсеньевна встала резко, почти срывисто. Шелк платья зашелестел.
– Наконец-то! Сеанс окончен, Владимир Петрович. – Она прошла мимо мольберта, не удостоив портрет взглядом. – Оставьте все как есть. Ваши сегодняшние «поиски настроения»… утомили меня донельзя. Дуняша! – Ее голос позвал, резкий и требовательный. – Помоги мне снять это тряпье! Голова трещит, как колокол перед бунтом.
Молодая камеристка, Дарья, тоненькая и незаметная, как мышь, выскользнула из тени за портьерой. Ее большие, всегда испуганные глаза мельком, с немым сочувствием, коснулись Лыкова, прежде чем она поспешила следом за госпожой, шурша жестким ситцевым подолом.
Лыков остался один перед холстом. На нем улыбалась графиня – загадочная, блистательная, неземная. Но в только что прописанных глазах, которые он так старался оживить, застыл необъяснимый страх. За окном снова вспыхнула зарница, осветив на миг призрачным синим светом улыбающееся лицо на портрете и искаженное болью и гневом лицо самого художника. Глухой раскат грома прокатился по невским облакам. Лыков вздрогнул, как от удара, и набросил на портрет грубую холстину, словно саваном.
Ночь не дала покоя, лишь разлад,
Где сердце билось, птицей о прутья́.
Кошмар немой в зрачках застыл навзгляд,
А дождь, как знак струится, не кляня.
Глава 2. Утро в трауре
Ночь не приносила покоя. Графиня Елизавета Арсеньевна ворочалась на широкой кровати под балдахином из итальянского шелка. Сквозь щели тяжелых штор пробивался тусклый свет петербургского утра – серый, водянистый. Голова действительно гудела, как набатный колокол. Воспоминания о вечере, о колком разговоре с графом: он опять завел речь о долгах, о ее «легкомыслии», о сплетнях, которые она, по его мнению, провоцировала, о злобном шипении Благовидовой и особенно о фразе, брошенной Лыкову… Все смешалось в тягостный ком.
Она встала, босыми ногами ступила на холодный узорчатый паркет. Подошла к туалетному столику. В большом зеркале венецианского стекла отразилось бледное лицо с темными кругами под глазами. Красота казалась потускневшей, уязвимой. С отвращением она схватила первую попавшуюся кисточку для бровей – не любимую гладкую костяную, а какую-то с розовой деревянной ручкой, подарок от незначительной приятельницы. Окунула ее во флакон с розовой водой. Влажная кисть скользнула по коже век – холодно, неприятно. Потом она провела ею по бровям – резко, небрежно. «Грубо, как лыко», – пронеслось в голове эхом ее же вчерашних слов. Она швырнула кисть на стол. Она упала на край, скатилась, но не разбилась.
В дверь тихо постучали.
– Барыня? Шоколад принесла… – голос Дуняши, робкий, как всегда.
– Войди! – графиня отмахнулась от зеркала. Она чувствовала странную сухость во рту, легкую тошноту. «Нервы. Одни нервы».
Дуняша вошла, неся на серебряном подносе маленькую фарфоровую чашку с дымящимся густым шоколадом. Поставила на столик у кресла.
– Барыня, вам нездоровится? – спросила она, заметив бледность хозяйки.
– Пустое. Голова. Уйди. Я сама.
Дуняша скользнула назад, как тень. Графиня взяла чашку, сделала глоток. Сладкий, терпкий вкус шоколада, обычно успокаивающий, сегодня показался приторным, противным. Она поставила чашку на блюдце с неловким движением. Край чашки звякнул о блюдце. Еще один глоток. Тошнота усилилась. В глазах заплясали темные точки. Сердце вдруг заколотилось с бешеной силой, как птица в клетке, ударившаяся о прутья. Она вскинула руку, прижала ладонь к груди. Воздуха! Не хватало воздуха! Горло сжал невидимый обруч. Перед глазами поплыли чудовищные, искаженные лица – графа с его вечным укором, Благовидовой с ее злобным шепотом, Глухова с его ледяным взглядом… Лыкова… с ненавистью в глазах…
Она попыталась вдохнуть, но в горле хрипло клокотало. Чашка выпала из ослабевших пальцев, разбилась о ковер с жалобным звоном. Темнота нахлынула, холодная и бездонная. Последнее, что она увидела в зеркале, было свое собственное лицо, искаженное немым, абсолютным ужасом.
* * *
Утро в особняке Зарницких начиналось вяло, как всегда. Горничные тихо перешептывались в коридорах, лакеи начищали медные ручки дверей. В будуаре графини было тихо и душно. Тяжелые шторы были полу задёрнуты, в воздухе витал сладковатый запах пудры, духов и… чего-то тяжелого, нездорового.
Дуняша, вошла неслышно, неся на руках аккуратно отглаженный утренний пеньюар госпожи – легкий, из кремового кашемира. Она осторожно подошла к огромной кровати под шелковым балдахином.
– Барыня? – тихо позвала она. – Проснитесь, солнышко уже высоко… десятый час… – голос ее сорвался на последних словах.
Елизавета Арсеньевна лежала на спине. Одна рука была судорожно прижата к груди, пальцы вцепились в тонкую ткань ночной сорочки, будто пытаясь вырвать оттуда что-то невыносимое. Другая рука бессильно откинулась на шелковое покрывало. Голова неестественно запрокинута на высокую подушку. Рот полуоткрыт. Но самый сильный ужас доставляли глаза. Широко распахнутые, невидящие, полные застывшего, немого ужаса, уставившиеся в потолок. И зрачки – неестественно огромные, черные, как дыры в пустоту, поглощавшие тусклый утренний свет.
– Барыня?! – Дуняша вскрикнула, роняя пеньюар. Она бросилась к кровати, схватила холодную, одеревеневшую руку хозяйки. – Барыня! Очнитесь! Господи! – Ее истошный, полный чистого ужаса крик разорвал утреннюю сонную тишину особняка, как нож полотно.
Первой, задыхаясь, вбежала Анфиса Семеновна Благовидова. Увидев тело, она вскрикнула, коротко и жалко, схватилась обеими руками за грудь и закачалась, как подкошенная. За ней, тяжело дыша, в ночном колпаке и роскошном бархатном халате, ввалился граф Арсений Владимирович. Его надменное лицо стало землисто-серым.
– Лиза? Что… Что случилось? – Он шагнул к кровати, заглянул в застывшие, полные нечеловеческого страха глаза жены и резко отпрянул, будто ударившись о невидимую стену. – Боже правый… Сердце? Доктора! Сию же минуту доктора! Глухов! Где Глухов?!
Павел Игнатьевич Глухов появился в дверях будуара уже полностью одетым, безукоризненным, будто только что сошел с журнальной картинки. Его бесстрастный взгляд, как у следователя, методично обошел сцену: тело, разбитую чашку на ковре, искаженное лицо графини, рыдающую Дуняшу, бледную Благовидову, растерянного графа. Он неспешно достал из жилетного кармана часы на толстой золотой цепочке.
– Девять часов сорок пять минут, ваше сиятельство. Доктор Морозов будет вызван немедленно. Я распоряжусь. – Его голос был ровным, металлическим, лишенным каких-либо интонаций. – Дуняша, отойдите от графини. Не прикасайтесь. Анфиса Семеновна, вам необходимо прилечь. Ваше сиятельство, вам следует одеться. Здесь сыро.
Хаос, вызванный криком Дуняши, стал постепенно сменяться похоронной, холодной организованностью под спокойным, властным взглядом Глухова. Графа, бормочущего что-то невнятное, увели в его покои. Благовидову, бормочущую молитвы и пророчества о «каре небесной», почти вынесли под руки служанки. Дуняша, беззвучно рыдая, съежилась в углу, не отрывая взгляда от своей госпожи, словно завороженная тем ужасом, что застыл в ее глазах.
Глухов остался один. Он подошел к туалетному столику. Его длинные, цепкие пальцы с безупречно чистыми ногтями осторожно, но методично перебирали флакончики с духами, пудреницы, коробочки с румянами, шпильки, гребни. Кисти в фарфоровой подставке… Он взял каждую, осмотрел ручку. Костяная… Деревянная темная… Зеленая… Синяя… Где-то тут должна была быть… Он слегка сдвинул одну из деревянных кистей. Нет, не та. Его взгляд скользнул по поверхности стола, потом вниз, на пол. Ничего. Тогда он подошел к окну, отодвинул тяжелую штору. За стеклом моросил мелкий, противный дождь. Лицо Глухова оставалось каменной маской, лишь в самых глубинах глаз, темных как колодец, мелькнуло что-то быстрое, острое, как взведенный курок.
Холодный дождь – как метроном разлуки,
Холодный взгляд скользит в потоке яда
Искали ложь меж гневом и испугом,
Но ключ таится в капле шоколада.
Глава 3. Вопросы в пепле
Дождь за окном кареты стучал монотонно, как метроном, отсчитывающий секунды до новой неприятности. Глеб Сергеевич Суровцев кутался в поношенную бекешу, но холод пробирал до костей – не столько от промозглого ноября, сколько от предчувствия. Особняк Зарницких, возвышавшийся над Английской набережной, напоминал ему надгробный памятник. «Особые поручения… – язвительно подумал он. – Особый мусор на особой свалке карьеры». История с растратой в Обуховской больнице все еще висела дамокловым мечом. Это дело – последний шанс. Или ловушка.
Глухов встретил его в вестибюле. Безупречный, как манекен из витрины Елисеева.
– Глеб Сергеевич. Тело в будуаре. Доктор Морозов уже завершил предварительный осмотр. Граф не в себе.
– Кто в доме с ночи? – отряхивая капли с треуголки, Суровцев окинул взглядом холл: портреты угрюмых предков, тяжелый дубовый паркет, запах воска и скрытого тления.
– Никто не покидал. Граф выехал в Сенат в семь утра. Художник Лыков – в гостевой. Компаньонка Благовидова, камеристка Дарья…
– Дарья? Та, что нашла?
– Она. В истерике. Анфиса Семеновна дала ей капель.
«Истерика или страх разоблачения?» – мелькнуло у Суровцева.
Будуар встретил их гробовой тишиной. Тело под простыней. Суровцев приблизился, движением привычным, но каждый раз леденящим душу. Откинул ткань.
Глаза. Они смотрели в никуда, широкие, остекленевшие, но не пустые – наполненные до краев немым, окаменевшим ужасом. Зрачки – черные бездны, поглощавшие скупой свет люстры. Не просто смерть. Пытка.
– Ваше благородие… – шепот Дуняши за спиной. Девушка сжимала подол фартука, костяшки белые.
– Как лежала? Детали. – Суровцев не отводил взгляда от трупа.
– Р-рука тут… – она судорожно прижала ладонь к груди. – Сжата… как клещами. А чашка… разбита… когда я вошла…
Суровцев подошел к Дуняше. Его тень, падающая от высокого окна, казалась ей виселицей. На дне чашки, точнее, на том, что от него осталось, виднелись следы напитка. Он поднял, понюхал – шоколад.
– Ты приносила графине шоколад? Когда именно?
– Часа в два… может, в три… – Дуняша едва слышно всхлипнула. – Барыня не спала. Я слышала по шагам и голосу… не могла уснуть. Нервы… как после вечера с графом бывало…Я принесла…
– Сама приготовила? – Голос Суровцева был ровен, он не чувствовал никаких эмоций касаемо этого дела. Слишком монотонный, будто читал присягу.
– Да… – Она кивнула, пряча лицо. – В буфетной на цыпочках… чтоб никого не разбудить. Как всегда… густой, венский, с миндальной эссенцией… и щепоткой красного перца для согрева… – Она вдруг осеклась, будто проговорилась.
– Щепоткой? – Суровцев наклонился, ловя ее взгляд. – Или чем-то еще?
– Нет! Только перец! – Дуняша отшатнулась. – Но… но я капнула валерьянки! Всего капельку! Из барыниной склянки на кухне! Она сама при бессоннице капала… Я хотела помочь! – Слезы хлынули ручьем. – Клянусь, только чтобы успокоилась!
– Ты пробовала этот шоколад? – вопрос врезался как нож.
– Никогда! – В ее глазах вспыхнула искренняя ярость от несправедливого подозрения. – Я знаю свое место! Это святое… барынин ночной шоколад!
– Что было дальше? – Суровцев не отступал.
– Поднесла чашку… Барыня сидела у зеркала… даже не обернулась. Махнула рукой и сослалась на головную боль. У нее бывает… – Дуняша сглотнула ком в горле. – Поставила на столик у кресла… и вышла. Больше не входила. Дверь закрыла. – Она замолчала, билась в рыданиях. – Утром… в десять… вошла… а она… а чашка… разбита на ковре… и барыня…
Суровцев мысленно восстанавливал картину: 2-3 часа ночи: Дуня готовит и приносит шоколад. Графиня выгоняет ее. Ночь: Графиня одна в будуаре. Что произошло? Выпила ли она шоколад? Когда почувствовала недомогание? 10 утра: Дуня находит тело и разбитую чашку.
Ключевой вопрос: Когда чашка разбилась? Сразу ночью? Или утром при падении тела?
Он еще раз взглянул на крупный осколок через платок. На вогнутом дне – густой, почти черный осадок. Шоколад не просто пролит – он засох. Значит, чашка разбилась не утром, а ночью или на рассвете, когда напиток был еще жидким или теплым!
– Этот шоколад… – Суровцев повернулся к Глухову, голос звучал как приговор. – И всё в буфетной: плита, кастрюля, ложки, упаковка какао, склянка валерьянки, ситечко – опечатать. Горничных, дежуривших в коридоре – установить, видела ли кто Дарью или других у буфетной после трех ночи. Его взгляд вернулся к дрожащей девушке.
– А вы, Дарья, пойдете со мной. Нам нужно выяснить, что еще, кроме валерьянки, могло попасть в эту чашку… и почему ваша барыня разбила ее до рассвета.
В дверях возникла Анфиса Семеновна. Ее черное платье сливалось с полумраком, лицо – восковая маска.
– Грех вопрошать сирых! – прошипела она, не глядя на Суровцева. Ее запавшие глаза прилипли к портрету в гостиной, едва видному из будуара. Холстина сползла, открыв лицо графини – и багровое пятно размером с монету прямо на месте сердца. Оно казалось влажным, пульсирующим в дрожащем свете свечей.
– Видите?! – Благовидова протянула костлявый палец. – Кровь на холсте! Морока! Она явилась вчера… а ныне плоть истлела! Не трогайте сие! Не гневите мертвых! Они и так неспокойны в этот час! Они покарают, вот увидите, покарают вас!!
Суровцев фыркнул:
– Сырость. Или плохой лак.
– Сырость?! – Старуха закачалась, голос взлетел до визга. – Это глаз Проклятия! Вы следующий, чиновник! Следующий! – Ее крик перешел в истерический шепот, прежде чем Глухов увел ее, бормочущую молитвы.
Суровцев подошел к портрету. Пятно… действительно странное. Не просто грязь. Как… запекшаяся капля. Он провел пальцем – поверхность была гладкой, сухой. Но в глубине сознания зашевелился холодный червь сомнения. «Не трогайте сие…».
– Дарья, – он резко обернулся к девушке, поймав ее испуганный взгляд на пятне. – Этот портрет… графиня что-то говорила о нем вчера?
– Н-нет… – Дуняша отвела глаза. – Только… только на художника Владимир Петрович гневалась, что он не справляется, – она заглотила воздух, – даже дорисовать не дала, удалилась на разговор с графом…
Суровцев задумчиво рассматривал пятно «крови» на портрете почившей графини. Он был запущенным реалистом, не верящим ни во что мистическое и даже в Бога. Он точно знал, что этому будет какое-то рациональное объяснение, а если он его и не найдет, то это не подтверждает отсутствие. Призраки существуют только в фантазиях слишком набожных людей, но точно не в графском поместье.
«Суровая правда – лучше милосердия» – его девиз по жизни. Он не знал, как именно это пятно попало на портрет, но знал точно, что никакая мистика не поможет ему закрыть это дело. Он собирался смотреть на факты и только, поэтому еще раз перебрал в голове новые обстоятельства. Обруганный художник и немилостивый граф. История играет новыми красками.
Разрезал ложь, но истина ушла,
Как след в воде кристальной чистоты.
Лишь капля "крови" на холсте светла,
Зовёт науку вскрыть свои черты.
Глава 4. Признание в тени
Кабинет графа, отведенный Суровцеву, дышал холодом подавленных эмоций. На дубовом столе лежала непочатая стопка бумаг – символ дел, которые могли подождать, в отличие от смерти. Дуняша сидела на краю жесткого кресла, ее пальцы с такой силой впились в колени, что костяшки побелели. Казалось, она вот-вот рассыплется в прах под тяжестью взгляда Суровцева.
– Начнем с главного, Дарья, – чиновник отодвинул чернильницу, демонстративно не прикасаясь к перу. – Ночной шоколад. Графиня не просила его. Вы решили приготовить его самостоятельно. Почему?
Вопрос, как удар хлыста, заставил девушку вздрогнуть. Она уже отвечала о своих причинах, и повторный вопрос заставлял ее нервничать и чувствовать себя, как на иголках от чувства недоверия и подозрения со стороны Суровцева. Она еще раз повторила свои слова, волнуясь, что и в этот раз останется под подозрением.
– Я… я слышала… – прошептала она, глядя куда-то в пространство за спиной Суровцева. – Сквозь дверь… Барыня ворочалась. Вздохи… Прерывистые шаги по ковру… Она плохо спала после… после вечера. – Дуняша проглотила ком в горле, не смея назвать причину – гнев графа. – Я знала, что венский шоколад с перцем… он ее успокаивает. Как бывало. Она сама говорила… Я подумала… помогу. Не навредит же…
– Значит, это была исключительно ваша инициатива? – Суровцев подчеркнул слово, заставляя ее съежиться. – Вы вошли в буфетную без приказа. Готовили в одиночестве. Кто мог вас видеть в этот момент?
– Ни-никто… – голос Дуняши прерывался. – Ночь… все спали. Тишина… только часы в холле… – Она вдруг вскинула голову, вспомнив. – Анфиса Семеновна! Она… она вышла из своей комнаты, когда я готовила. Прошла мимо…Увидела меня… спросила: «Барыне?» Я кивнула. Она покачала головой, пробормотала: «Нервы, нервы… Господь в помощь», и ушла. Больше никого!
Суровцев мысленно отметил: Благовидова подтвердит факт ночного приготовления Дуняши, но она не увидела сам процесс приготовления. Девушка была одна у плиты 10-15 минут. Достаточно, чтобы добавить что-то в чашку.
– Опишите все до мелочей, – приказал он, нависая над столом. – Как готовили? Где брали ингредиенты? Сколько чего клали?
Дуняша, запинаясь, поведала о полутемной буфетной: о жестяной банке с венским какао на верхней полке (три ложки), о фарфоровой сахарнице (две ложки), о маленькой фаянсовой баночке без этикетки с красным перцем (щепотка). Склянка с валерьянкой – стояла рядом с какао, желтая наклейка аптеки Бромптона. Она капнула две капли пипеткой прямо в горячий шоколад в чашке, помешала серебряной ложечкой.
– Почему валерьянка? – резко спросил Суровцев.
– Барыня… она сама иногда капала при бессоннице! – Дуняша всплеснула руками. – Я хотела помочь! Искренне! Она бы одобрила! – В ее глазах горели слезы отчаяния и непонятности.
– Вы задержались в будуаре? Видели, как графиня пьет? – Суровцев задал вопрос еще раз, ожидая, что если в первый раз Дуняша солгала, то все станет явным после второго вопроса.
Он слушал, внимательно вслушиваясь в каждое слово и стараясь уловить каждую эмоцию, хоть что-то, малейший вздох или секундную паузу. Но их не последовало, Дуняша отвечала, как и в первый раз.
– Н-нет… – девушка потупилась. – Барыня сидела у зеркала… не обернулась. Я поставила чашку на столик у кресла… и вышла. Больше не входила до утра! Клянусь всеми святыми! – Она перекрестилась дрожащей рукой.
Суровцев встал и медленно прошелся по кабинету. Его тень, отбрасываемая керосиновой лампой, колыхалась на стене, как призрак.
Инициатива Дуняши… Искренняя забота? Или идеальная маскировка для убийства? Она имела доступ, возможность, а мотив… Мотив мог крыться в страхе перед гневом графини за что-то, в тайной обиде или в чьих-то обещаниях. Пока – темный лес.
– Подождите здесь, – бросил он и вышел, оставив ее наедине с гнетущим портретом императора и собственным страхом.
* * *
Буфетная встретила Суровцева запахом старого дерева, воска и слабой сладостью застоявшегося какао. Глухов молча поднес лампу, высвечивая тесное пространство. Суровцев действовал как хирург: каждое движение – точное, осмысленное.