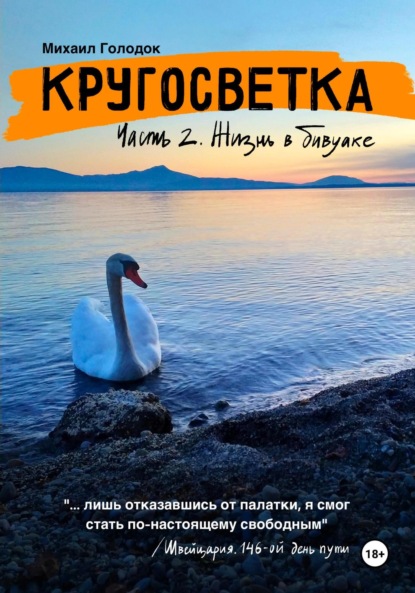Метафизика Аристотеля. Пятая книга
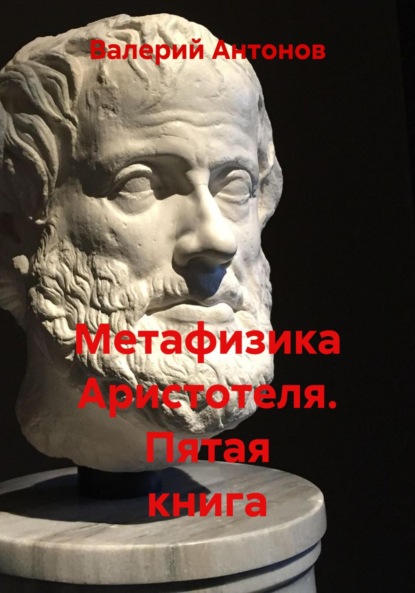
- -
- 100%
- +
Комментарий: Бугай акцентирует, что движущая причина у Аристотеля часто телеологична и разумна. Она не просто механистична, а является проводником формы к материи.
Василий Петрович Зубов, «Аристотель» (1963):
«Учение Аристотеля о движущей причине… особенно важно для понимания его физики и космологии. Перводвигатель, неподвижный и вечный, является высшей движущей причиной всего мироздания. Однако в сфере возникающего и уничтожающегося движущие причины сами подвержены движению и изменению, что порождает бесконечный регресс, который можно остановить только принятием вечного двигателя.»
Комментарий: Зубов указывает на фундаментальную роль этого типа причинности в космологии Аристотеля, где цепь движущих причин требует существования первого, неподвижного источника всякого движения – Бога.
Древнегреческий текст:
ἔτι ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἡ πρώτη ἢ τῆς ἠρεμήσεως, οἷον ὁ βουλεύσας αἴτιος, καὶ ὁ πατὴρ τοῦ παιδός, καὶ ὅλως τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου καὶ τὸ μεταβάλλον τοῦ μεταβαλλομένου.
Разъяснения:
[3] ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἡ πρώτη (то, откуда начало первого изменения) – Это классическое определение движущей, или производящей, причины (αἰτία ποιητική или αἰτία κινητική).
ἀρχὴ (начало, принцип) – Указывает на источник и первопричину процесса. Это не просто элемент в цепи, а то, с чего процесс начинается.
μεταβολῆς (изменения) – Широкий термин, охватывающий любой вид изменения: качественное (ἀλλοίωσις), количественное (αὔξησις/φθίσις), перемещение (φορά) и возникновение/уничтожение (γένεσις/φθορά).
Как отмечает Росс (Aristotle's Metaphysics, p. 294), Аристотель часто отождествляет эту причину с сущностью (οὐσία) производящего агента, поскольку именно форма производящего определяет характер производимого действия (например, человек рождает человека). Таким образом, движущая причина тесно связана с формальной.
4. Целевая причина (причина-цель)
Текст (редакция):
«Кроме того, [причиной является] цель (τὸ τέλος), то есть «то, ради чего» [4]: например, здоровье есть причина [совершения] прогулок. Ибо [если спросить:] «почему он гуляет?», мы ответим: «чтобы быть здоровым», и, сказав так, мы полагаем, что указали причину [5].»
Комментарии:
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«Endlich in einer vierten Bedeutung heißt Ursache das Endziel (τὸ τέλος), das Worumwillen (οὗ ἕνεκα), z.B. die Gesundheit als die Ursache des Spazierengehens. Denn auf die Frage: warum geht er spazieren? antworten wir: um gesund zu sein, und mit dieser Angabe meinen wir die Ursache angegeben zu haben.»
Перевод: «Наконец, в четвёртом значении причиной называется конечная цель (τὸ τέλος), то, ради чего (οὗ ἕνεκα), например, здоровье как причина прогулок. Ибо на вопрос: почему он гуляет? мы отвечаем: чтобы быть здоровым, и с этим указанием мы полагаем, что назвали причину.»
Комментарий: Швеглер точно передаёт связь между τέλος (конец, завершение, цель) и οὗ ἕνεκα (ради чего). Он подчёркивает, что в обыденном языке мы интуитивно признаем ответ, указывающий на цель, как исчерпывающее причинное объяснение.
Ганс-Георг Гадамер (Hans-Georg Gadamer), «Идея добра у Платона и Аристотеля» (1978):
«Die causa finalis ist bei Aristoteles nicht eine unter anderen Ursachen, sondern sie ist die Ursache der Ursachen, die alles Geschehen durchherrscht. Denn das Gute und das Ziel sind es, was überhaupt erst Bewegung in die Welt setzt und sie lenkt.»
Перевод: «Causa finalis у Аристотеля – не одна из прочих причин, но причина причин, которая господствует над всем происходящим. Ибо именно благо и цель – это то, что вообще приводит движение в мир и направляет его.»
Комментарий: Гадамер, интерпретируя Аристотеля с герменевтических позиций, возводит целевую причину в ранг высшей, так как именно благо (τἀγαθόν) как конечная цель является главным мотиватором любого действия и процесса в природе и человеческой деятельности.
Алексей Фёдорович Лосев, «История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика» (1975):
«Телеология Аристотеля есть учение о целевой причине, которая есть не что иное, как тот же эйдос, но взятый не как статическая структура вещи, а как её конечное состояние, к которому она стремится и ради которого осуществляется весь процесс её становления. Здоровье как цель имманентно направляет процесс ходьбы, подобно тому как форма статуи направляет действия ваятеля. Цель – это эйдос в его провиденциальной функции.»
Комментарий: Лосев проводит глубокую связь между формальной и целевой причиной, видя в последней динамический аспект формы – её способность быть не только сущностью, но и конечной целью становления.
Статья: «Телеология Аристотеля: между физикой и метафизикой» (журнал «Философский журнал», 2020, Т. 13, № 2):
«Целевая причина (οὗ ἕνεκα) представляет собой наиболее специфический и оригинальный элемент аристотелевской причинности. Её введение позволяет Аристотелю преодолеть механистический детерминизм и объяснить целесообразность и гармонию в природных процессах. Важно различать внешнюю цель (как в искусстве: здоровье как цель, внешняя для прогулки) и внутреннюю цель (как в природе: желудь развивается в дуб, реализуя свою внутреннюю цель-форму).»
Комментарий: В статье подчёркивается новаторство Аристотеля и проводится ключевое для его натурфилософии различие между внешней (характерной для человеческого искусства) и имманентной (характерной для природы) целесообразностью.
Древнегреческий текст:
ἔτι τὸ τέλος· τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ οὗ ἕνεκα, οἷον τοῦ περιπατεῖν ἡ ὑγίεια· διὰ τί γὰρ περιπατεῖ; φαμέν, ἵνα ὑγιαίνῃ, καὶ οὕτως λέγοντες οἰόμεθα ἀποδεδωκέναι τὸ αἴτιον.
Разъяснения:
[4] τὸ οὗ ἕνεκα (то, ради чего) – Это стандартное обозначение целевой причины у Аристотеля. Оно указывает на конечную точку процесса, ради достижения которой процесс и осуществляется. Эта причина отвечает на вопрос «ради чего?» (διὰ τί в телеологическом смысле). В «Физике» (194b 33) Аристотель прямо говорит: «А то, ради чего [нечто происходит] – это цель, а цель – это ради чего всё остальное».
[5] οἰόμεθα ἀποδεδωκέναι τὸ αἴτιον (полагаем, что указали причину) – Эта фраза крайне важна. Аристотель апеллирует к обыденному языку и практике объяснения, чтобы обосновать реальность и первичность целевой причины. Как отмечает комментатор Т. Ирвин (Aristotle's First Principles, p. 97), Аристотель показывает, что телеологические объяснения не являются надуманными философскими конструкциями, а укоренены в самом нашем способе понимания действий и событий. Если объяснение через цель считается удовлетворительным, то цель является реальной причиной.
5. Промежуточные причины как средства достижения цели
Текст (редакция):
«Далее, всё то, что находится между производящим началом и целью, также является причиной [6]: например, причиной [обретения] здоровья служат похудение, или очищение, или лекарства, или [применение] инструментов [врача]. Ибо всё это существует ради цели, будучи отличным [от неё]: так, одни из них суть орудия, а другие – действия [7].»
Комментарии:
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«Ferner können auch alle Mittelursachen, die zwischen der wirkenden Ursache und dem Endzweck liegen, als Ursachen bezeichnet werden; z.B. sind Ursachen der Gesundheit das Abmagern, das Reinigen, die Arzneien, die Instrumente. Denn alle diese sind um des Zieles willen da und unterscheiden sich nur dadurch, daß die einen Werkzeuge, die andern Handlungen sind.»
Перевод: «Кроме того, все промежуточные причины, лежащие между действующей причиной и конечной целью, также могут называться причинами; например, причинами здоровья являются похудение, очищение, лекарства, инструменты. Ибо все они существуют ради цели и различаются лишь тем, что одни суть орудия, другие – действия.»
Комментарий: Швеглер вводит термин «Mittelursachen» (причины-средства), точно схватывая суть аристотелевской мысли. Он подчёркивает, что эти элементы причинной цепи получают свой причинный статус не самостоятельно, а исключительно через своё отношение к конечной цели.
Томас Аквинский (Thomas Aquinas), «Комментарий к Метафизике Аристотеля» (Sententia Metaphysicae, Lib. V, Lect. III):
«…sunt quaedam media inter agens et finem, quae sunt causae, sicut purgatio, et medicinae, et instrumenta, sunt causae sanitatis. Quae omnia sunt propter finem, sed differentia est inter ea: quia quaedam sunt operationes, quaedam sunt instrumenta.»
Перевод: «…есть некие посредствующие звенья между действующим началом и целью, которые суть причины, как очищение, и лекарства, и инструменты суть причины здоровья. Все они существуют ради цели, но различаются между собой: ибо одни суть действия, другие – орудия.»
Комментарий: Аквинат, следуя за Аристотелем, акцентирует функциональный статус этих причин: их бытие как причин полностью определено и оправдано их служением цели (propter finem).
Михаил Николаевич Волков, «Причинность и телеология в философии Аристотеля» (журнал «Вестник Московского университета. Серия 7: Философия», 2014, № 3):
«Здесь Аристотель вводит важное различение внутри самой причинной цепи. Промежуточные звенья (лекарства, процедуры, инструменты) являются причинами лишь в производном, инструментальном смысле. Их причинность полностью заимствована у целевой и движущей причин. Они – “причины-условия” или “причины-средства”, чья сущность определяется тем, что они суть “то, через что” (δι’ οὗ) достигается цель. Это демонстрирует иерархический характер аристотелевской причинности, где целевая причина выступает верховным принципом, организующим все остальные причинные связи.»
Дмитрий Владимирович Бугай, «Аристотель» (Серия «ЖЗЛ», 2006):
«Этот пассаж раскрывает операциональный аспект целевой причины. Цель не просто витает в воздухе, но структурирует весь процесс своего достижения, превращая отдельные действия и инструменты в звенья единой цепи. Похудение является причиной здоровья не само по себе (оно может быть и вредным), но лишь как средство, предписанное целью “здоровье” и направляемое движущей причиной – врачом. Таким образом, Аристотель описывает сложную сеть причинных отношений, где подчинённые причины обретают свой смысл лишь в свете высшей – целевой.»
Древнегреческий текст:
καὶ ὅσα δὴ τούτων μεταξὺ ποιήσει τέλους, οἷον τῆς ὑγιείας ἰσχνάσια ἢ κatharsis ἢ φάρμακα ἢ ὄργανα· πάντα γὰρ ταῦτα τοῦ τέλους ἕνεκά ἐστιν, διαφέρει δὲ ἀλλήλων ὡς ὄντα τὰ μὲν ἔργα τὰ δ’ ὄργανα.
Разъяснения:
[6] ὅσα… τούτων μεταξὺ ποιήσει τέλους (всё то, что находится между производящим началом и целью) – Речь идёт о полной причинной цепи: движущая причина (ὁ βουλεύσας – советчик/врач) → промежуточные средства (лекарства, процедуры) → целевая причина (ὑγίεια – здоровье). Промежуточные звенья (τὰ μεταξύ) сами по себе являются следствиями движущей причины и причинами последующих состояний, ведущих к цели. Их причинный статус производен. Как пишет В.Д. Росс (Aristotle's Metaphysics, p. 295), они являются «причинами лишь постольку, поскольку ведут к цели».
[7] διαφέρει δὲ ἀλλήλων ὡς ὄντα τὰ μὲν ἔργα τὰ δ’ ὄργανα (но различаются между собой, будучи одни действиями, другие – орудиями) – Аристотель проводит тонкое различение внутри самих средств:
ἔργα (делания, действия, акты) – Это процессы, осуществляемые движущей причиной (врачом) или самой материей (телом) для достижения цели. Например, «истощение» (ἰσχνάσια) или «очищение» (κatharsis) – это действия-процедуры.
ὄργανα (орудия, инструменты) – Это пассивные средства, используемые движущей причиной для осуществления действий. Например, лекарства (φάρμακα) и медицинские инструменты (ὄργανα).
Это различие показывает, как цель организует не только вещи, но и процессы, подчиняя их себе.
6. Множественность причин и их взаимосвязь
Текст (редакция):
«Причина говорится в стольких значениях, [сколько было указано]; и поскольку значения эти множественны, может оказаться, что одна и та же вещь имеет несколько причин, и не привходящим образом… [7] Бывает и так, что [причины] являются причинами друг друга [8], как, например, труд есть причина благосостояния, а благосостояние – причина труда, однако не в одном и том же смысле: одно есть цель, другое же – начало движения. Кроме того, одно и то же может быть причиной противоположных [вещей]…»
Комментарии:
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«Die Ursache wird also in so vielen Bedeutungen gesagt… und da sie vielfach ist, so kann es kommen, daß ein und dasselbe mehrere Ursachen hat, und zwar nicht nur zufälligerweise… Ferner können die Ursachen wechselseitig Ursachen voneinander sein, wie z.B. die Arbeit Ursache des Wohlstandes und der Wohlstand Ursache der Arbeit ist, aber nicht in derselben Weise; die eine ist Endursache, die andere Wirkursache. Auch kann dasselbe Ursache von Entgegengesetztem sein…»
Перевод: «Причина, таким образом, говорится в стольких значениях… и поскольку она многозначна, может случиться, что одна и та же вещь имеет несколько причин, и притом не случайно… Далее, причины могут быть взаимно причинами друг друга, как, например, труд есть причина благосостояния, а благосостояние есть причина труда, но не в том же самом смысле; одно есть конечная причина, другое – действующая причина. Также одно и то же может быть причиной противоположного…»
Комментарий: Швеглер выделяет ключевые моменты: неслучайность множественности причин и crucialnoe различие способов причинения (не путать взаимность с симметричностью). Он подчёркивает, что Аристотель не утверждает, что благосостояние – движущая причина труда в том же смысле, в каком труд – движущая причина благосостояния. Нет, их причинные роли различны.
Дэвид Росс (W.D. Ross), «Aristotle's Metaphysics» (1924):
«Aristotle now draws two corollaries from the variety of senses of 'cause'. (1) The same thing may have more than one cause, e.g. the cause of a statue is both the sculptor (efficient cause) and the bronze (material cause). (2) Things may be causes of each other, but in different ways… This reciprocity of causation is of the highest importance in Aristotle's system; it is the basis of the eternal order of the universe.»
Перевод: «Аристотель теперь выводит два следствия из многообразия значений "причины". (1) Одна и та же вещь может иметь более одной причины, например, причина статуи – это и ваятель (действующая причина), и медь (материальная причина). (2) Вещи могут быть причинами друг друга, но разными способами… Эта взаимность причинения имеет высочайшую важность в системе Аристотеля; она является основой вечного порядка вселенной.»
Комментарий: Росс указывает на онтологическую значимость этого принципа для аристотелевской космологии, где небесные сферы, будучи приведёнными в движение Перводвигателем (целевая причина), сами являются движущими причинами для других сфер, создавая вечный и упорядоченный космос.
Алексей Фёдорович Лосев, «История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика» (1975):
«Учение о взаимности причин есть глубочайшее диалектическое прозрение Аристотеля. Он понимает, что действительность есть живое, подвижное взаимодействие всех четырёх причин, которые, оставаясь различными, переходят друг в друга и взаимно обусловливают друг друга. Труд ради благосостояния и благосостояние, дающее возможность трудиться, – это не порочный круг, а диалектическая спираль жизни, где причина и следствие постоянно меняются местами, но всегда в рамках строгого категориального различия (цель – не движение, а движение – не цель).»
Марина Сергеевна Солопова, «Аристотель: Метафизика и проблема единства науки» (журнал «Вопросы философии», 2017, № 5):
«Тезис о том, что одна вещь может иметь несколько причин, фундаментален для аристотелевского научного метода. Полное объяснение (ἐπιστήμη) любого явления требует его анализа со стороны всех четырёх причин. Например, чтобы полностью объяснить дом, нужно указать и материал (камни), и форму (план), и строителя (движущая причина), и цель (укрытие). Упущение одной из причин делает объяснение неполным. Этот принцип “многопричинного” анализа является методологической основой для систематизации всех наук.»
Древнегреческий текст:
λέγεται δὴ τὰ αἴτια τοσαυταχῶς· ὧν πλειονὰχως λεγομένων συμβαίνει πολλὰ αἴτια τοῦ αὐτοῦ εἶναι, καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός… ἔτι τὰ ἀντικαὶ αἴτια ἀλλήλοις, οἷον τὸ πονεῖν εὐεξίας αἴτιον καὶ αὕτη τοῦ πονεῖν, ἀλλ’ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς τέλος τὸ δ’ ὡς ἀρχὴ κινήσεως. ἔτι τὸ αὐτὸ ἐναντίων αἴτιον…
Разъяснения:
[7] πολλὰ αἴτια τοῦ αὐτοῦ εἶναι (одна и та же вещь имеет несколько причин) – Это прямое следствие учения о четырёх типах причин. Любой предмет или событие может и должно быть объяснено с разных сторон. Например, статуя имеет:
Материальную причину: медь.
Формальную причину: идея или форма, которую ваятель придаёт меди.
Движущую причину: ваятель и его искусство.
Целевую причину: цель ваятеля (украшение, почитание божества и т.д.).
Эти причины не исключают, а дополняют друг друга, давая полное объяснение.
[8] τὰ ἀντικαὶ αἴτια ἀλλήλοις (причины являются причинами друг друга) – Это важнейший диалектический момент. Аристотель не впадает в логический круг, ибо каузальные отношения не симметричны, а взаимны, но разнородны. В примере с трудом (πονεῖν) и благосостоянием (εὐεξία) мы видим два разных типа причинной связи, образующих цикл:
Труд (движущая причина) → Благосостояние (цель). Труд является деятельностью, направленной на достижение благосостояния как цели.
Благосостояние (цель/формальная причина) → Труд (действие). Обретенное благосостояние (как состояние, как форма жизни) становится целью, которая мотивирует и направляет дальнейший труд, или же условием, позволяющим трудиться. Таким образом, одно и то же (благосостояние) может выступать и как цель, и как условие. Это не тавтология, а описание динамической структуры целеполагающей деятельности.
7. Сводка четырёх основных типов причин
Текст (редакция):
«Все причины, перечисленные до сих пор, сводятся к четырём главным родам. [9] Буквы слогов, материал изделия, огонь, земля и все тела такого рода, части целого, посылки умозаключения – всё это причины в смысле того, «из чего» [10] [нечто возникает]; причём одни – как субстрат (например, части) [11], другие же – как суть бытия (как целое, складывание, форма) [12]. А семя, врач и советчик, и вообще то, что производит, – всё это есть причина как источник движения или покоя. Остальное же есть причина как цель и благо других вещей [13] (ибо то, ради чего [нечто происходит], есть наилучшее и цель [всего остального]; причём не будет ошибкой назвать благом и то, что лишь кажется таковым).»
Комментарии:
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«Alle Ursachen lassen sich auf vier Hauptarten zurückführen. Die Elemente der Silbe, der Stoff des Erzeugnisses, Feuer, Erde u.s.w., die Theile des Ganzen, die Prämissen der Conclusion – alle diese sind Ursachen als das Woraus (ὡς ἐξ οὗ); und zwar die einen als das Zugrundeliegende (z.B. die Theile), die andern als das Wesen (wie das Ganze, die Zusammensetzung, die Form). Der Same dagegen, der Arzt, der Rathgeber, überhaupt das Wirkende – sind Ursache als der Ursprung der Bewegung. Das Uebrige endlich ist Ursache als das Ziel und das Gute…»
Перевод: «Все причины сводятся к четырём главным видам. Элементы слога, материал изделия, огонь, земля и т.д., части целого, посылки умозаключения – все эти суть причины как то, из чего (ὡς ἐξ οὗ); причём одни – как лежащее в основе (например, части), другие – как сущность (как целое, составление, форма). Семя, напротив, врач, советчик, вообще производящее – суть причины как начало движения. Остальное, наконец, есть причина как цель и благо…»
Комментарий: Швеглер проводит чёткое структурное разделение: он группирует все примеры под тремя заголовками (материя, движение, цель), при этом внутри материальной причины тонко разделяет её на чистый субстрат и уже оформленную структуру (части целого), что предвосхищает различение материи и формы.
Вернер Йегер (Werner Jaeger), «Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung» (1923):
«Diese Zusammenfassung der vier Ursachen ist nicht eine bloße Klassifikation, sondern der systematische Schlussstein einer ontologischen Theorie der Erklärung. Jedes vollständige Wissen (ἐπιστήμη) muss diese vier Fragen stellen: Aus was? Durch was? Was ist es? Wozu? Die Antworten darauf erschöpfen die Wirklichkeit des Seienden.»
Перевод: «Это обобщение четырёх причин – не простая классификация, но систематический краеугольный камень онтологической теории объяснения. Всякое полное знание (ἐπιστήμη) должно задавать эти четыре вопроса: Из чего? От чего? Что это есть? Ради чего? Ответы на них исчерпывают действительность сущего.»
Комментарий: Йегер видит в этом пассаже не просто перечисление, а завершение стройной системы, которая становится методологическим императивом для научного познания.
Василий Фёдорович Асмус, «Античная философия» (1976):
«Классификация причин у Аристотеля – великое завоевание античной мысли. Она впервые даёт всесторонний охват процесса становления. Особенно важно, что Аристотель включает в число причин не только материю и механический двигатель, но и форму (сущность) и цель (благо). Тем самым действительность понимается не как слепой процесс, а как осмысленное, целесообразное становление, направляемое имманентной формой и стремящееся к благу как высшему совершенству.»
Дмитрий Владимирович Бугай, «Аристотель» (Серия «ЖЗЛ», 2006):
«В этом итоговом пассаже Аристотель совершает два ключевых движения. Во-первых, он показывает, что четыре причины – это не просто список, а универсальная матрица для анализа любой сущности. Во-вторых, он намеренно ставит рядом, казалось бы, разнородные вещи (огонь и посылки умозаключения), демонстрируя всеобъемлющий, трансцендентальный характер своих категорий. Причина у него – это не физическое понятие, а метафизический принцип объяснения, применимый equally к природе, искусству и мышлению.»
Древнегреческий текст:
πάντα δὴ τὰ αἴτια ἀνάγεται εἰς τέτταρας τρόπους τοὺς φανερωτάτους. τὰ μὲν γὰρ στοιχεῖα τῆς συλλαβῆς καὶ τὴν ὕλην τὰ σκευαστὰ καὶ πῦρ καὶ γῆν καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον σῶμα καὶ τὰ μόρια τοῦ ὅλου καὶ αἱ προτάσεις αἴτια ὡς τὸ ἐξ οὗ, τούτων δὲ τὰ μὲν ὡς τὸ ὑποκείμενον (οἷον τὰ μόρια) τὰ δὲ ὡς τὸ τί ἦν εἶναι (τὸ ὅλον καὶ ἡ σύνθεσις καὶ τὸ εἶδος). τὸ δὲ σπέρμα καὶ ὁ ἰατρὸς καὶ ὁ βουλεύσας καὶ ὅλως τὸ ποιοῦν αἴτια ὡς ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἢ τῆς ἠρεμήσεως. τὰ δὲ λοιπὰ ὡς τὸ τέλος καὶ τἀγαθὸν τῶν λοιπῶν αἴτια (τὸ γὰρ οὗ ἕνεκα βέλτιστον καὶ τέλος τῶν λοιπῶν εἶναι εἰώθει· οὐθὲν δὲ διαφέρει λέγειν ἀγαθὸν ἢ φαινόμενον ἀγαθόν).
Разъяснения:
[9] εἰς τέτταρας τρόπους τοὺς φανερωτάτους (к четырём самым явным способам) – Аристотель подводит итог своему анализу, сводя всё многообразие значений «причины» к четырём фундаментальным и ясным (φανερωτάτους) типам. Это не произвольная классификация, а результат анализа языка и мышления.
[10] αἴτια ὡς τὸ ἐξ οὗ (причины в смысле «из чего») – Здесь Аристотель объединяет под заголовком материальной причины (αἰτία ὡς ὕλη) широкий спектр явлений:
Буквы слогов (στοιχεῖα τῆς συλλαβῆς): материя для языка.