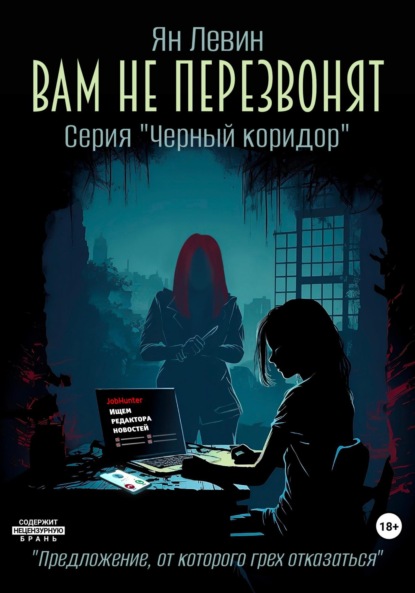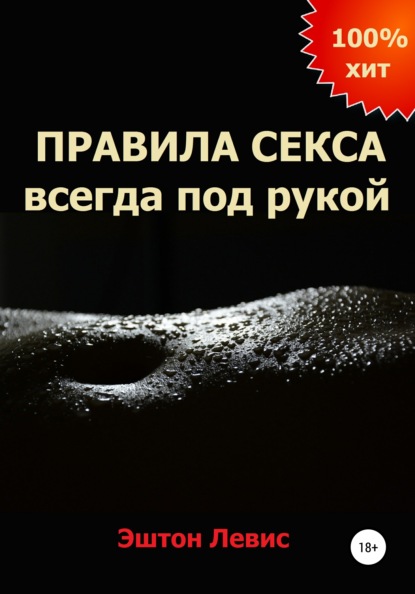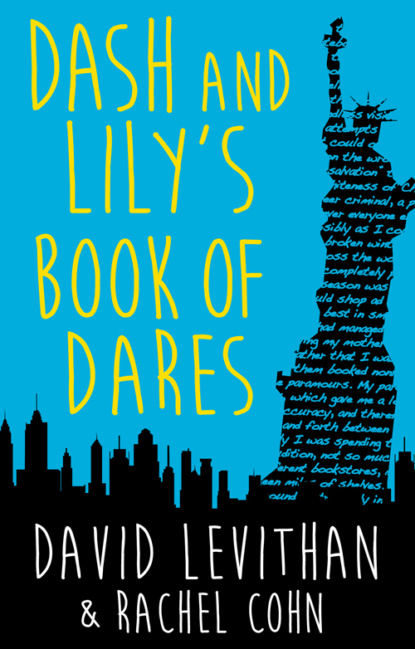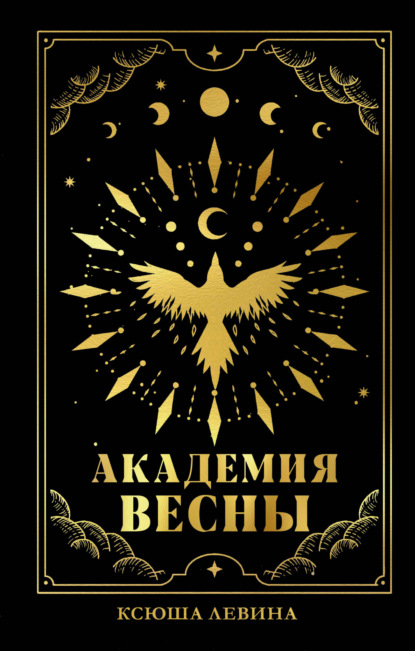Метафизика Аристотеля. Пятая книга
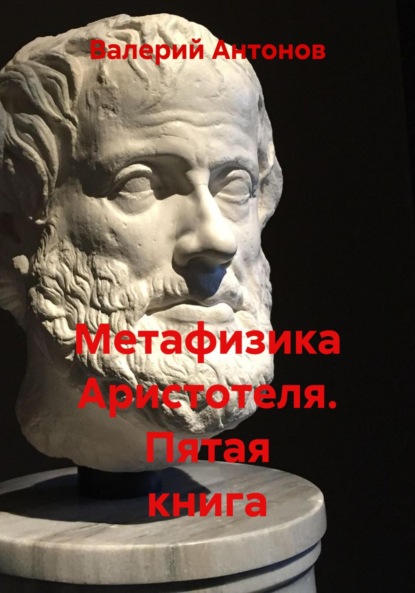
- -
- 100%
- +
Джозеф Оуэнс (Joseph Owens): В своей фундаментальной работе «The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'» Owens утверждает, что это определение является краеугольным камнем всей аристотелевской науки, поскольку демонстративное знание (ἐπιστήμη ἀποδεικτική) имеет дело именно с необходимыми, то есть не могущими быть иными, положениями.
Алексей Фёдорович Лосев: «Здесь дана самая сущность необходимости… Это – онтологическая и логическая необходимость, в отличие от физической или психологической, данных в предыдущих значениях. Это – необходимость в собственном смысле слова».
Михаил Николаевич Волков: В статье «Категория необходимости у Аристотеля» («Философские науки», 1985, №3) Волков пишет: «Аристотель совершает здесь решающий шаг от конкретно-ситуативных значений к абстрактно-логическому. "Не может быть иначе" – это формула, применимая к миру умопостигаемых связей, к сфере logos'а».
[7] Необходимое в логике и доказательстве
Содержание: Это прямое применение ключевого определения необходимости как «того, что не может быть иным» (ὃ οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν) к сфере логики и эпистемологии. Аристотель утверждает, что доказательство (ἀπόδειξις) по своей природе необходимо. Это означает, что заключение (συμπέρασμα) с логической неизбежностью следует из истинных и необходимых посылок. Если посылки установлены как истинные и необходимые (например, первые принципы науки или ранее доказанные положения), то заключение «не может быть иным» – его отрицание приводит к противоречию. Эта логическая необходимость, вынужденность вывода и составляет суть научного знания (ἐπιστήμη), которое, по Аристотелю, есть знание необходимого.
Ἔτι αἱ ἀποδείξεις ἀναγκαῖαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν ὁ συλλογισμός, εἰ γέ ἐστι ἀπόδειξις ἁπλῆ: αἴτιον δέ, ὅτι αἱ προτάσεις ἀναγκαῖαι, ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός.
(«Далее, доказательства необходимы, потому что умозаключение не может быть иным, если это простое доказательство; причина же в том, что посылки [из которых состоит умозаключение] необходимы»).
[Комментарии]
Альберт Швеглер (Albert Schwegler): «Die Nothwendigkeit, von der hier die Rede ist, ist die logische Nothwendigkeit des Schlussfolgerns… Die Conclusion kann nicht anders seyn, wenn die Prämissen gesetzt sind. Diese Nothwendigkeit ist aber eine hypothetische oder bedingte». («Необходимость, о которой здесь идет речь, есть логическая необходимость умозаключения… Заключение не может быть иным, если посылки установлены. Однако эта необходимость является гипотетической или условной»). Schwegler точно улавливает суть: необходимость вывода целиком зависит от необходимости посылок, что делает её условной, а не абсолютной.
Сэр Дэвид Росс (W. D. Ross): «Aristotle here applies his general definition of necessity to the special case of demonstrative syllogism. The necessity of the conclusion is conditional upon the necessity of the premises. This passage is a clear reference to the theory of demonstration in the Analytics». («Аристотель применяет здесь свое общее определение необходимости к частному случаю демонстративного силлогизма. Необходимость заключения является условной относительно необходимости посылок. Этот пассаж представляет собой ясную отсылку к теории доказательства в «Аналитиках»). Росс подчеркивает систематическую связь «Метафизики» с логическими трудами Аристотеля.
Йозеф Циммерн (Joseph H. von Kirchmann, переводчик и комментатор): «Die Nothwendigkeit des Beweises liegt also nicht in der Form, sondern im Inhalt der Prämissen». («Следовательно, необходимость доказательства заключается не в форме, а в содержании посылок»). Это важное уточнение: форма syllogism сама по себе не гарантирует необходимости; необходимыми должны быть сами суждения, составляющие посылки.
Алексей Фёдорович Лосев: «Здесь Аристотель перебрасывает мост от дианоэтической необходимости логического вывода к онтологической необходимости самого бытия. Истинное доказательство не просто формально правильно – оно отражает необходимые связи между самими сущностями и причинами. Логическая необходимость есть отражение и инструмент постижения необходимости онтологической».
Дмитрий Владимирович Бугай: В своих работах Бугай акцентирует, что для Аристотеля «логическое необходимое (ἀναγκαῖον) в доказательстве является эпистемической проекцией метафизически необходимого. Ум, строящий силлогизм, воспроизводит в себе необходимую структуру самого бытия, познавая таким образом необходимое как таковое».
Михаил Николаевич Волков (статья «Категория необходимости у Аристотеля», «Философские науки», 1985, №3): «В пункте [7] Аристотель завершает формирование концепта необходимости как краеугольного камня научного знания. "Не может быть иным" – это не гносеологическая метафора, а строгое описание работы научного разума, который имеет дело только с аподиктическими суждениями. Эта логическая необходимость является conditio sine qua non для любой ἐπιστήμη».
[8-9] Абсолютная необходимость простого и вечного
Содержание: Здесь Аристотель описывает высшую, абсолютную и безусловную форму необходимости, которая присуща не отношениям между вещами (как условие), не логическим конструктам (как доказательство) и не является чем-то внешним (как принуждение), но является внутренним, сущностным свойством самих определенных сущностей. Это то, что является простым (ἁπλᾶ – несоставным, лишенным материи и, следовательно, потенции к изменению) и вечным (ἀΐδια) и неподвижным (ἀκίνητα). Такие сущности (как, по мнению Аристотеля, перводвигатель или божественный ум-нус) не могут быть иными по самой своей природе. Их бытие тождественно их сущности и актуальности; в них нет никакой возможности (δύναμις) быть иными, так как сама эта возможность предполагает материю и сложность. Их необходимость не обусловлена ничем внешним – они сами являются причиной и основанием собственного бытия (αὐτὰ αὑτῶν). Это необходимость в самом первоначальном, собственном и абсолютном смысле слова – «метафизическая необходимость».
Τὰ δ' ἀΐδια ἀκίνητα ὄντα ἁπλᾶ καὶ ἀνάγκη αὐτὰ οὕτως ἔχειν καὶ ἁπλῶς, εἴπερ ἁπλῶς ἀναγκαῖα: τὰ μὲν γάρ ἐστιν αἴτια τοῖς ἄλλοις, αὐτὰ δὲ μηθενὸς ἔξωθεν αἴτια ὄντα, ἀλλ' αὐτὰ αὑτῶν, ὥστε καὶ μᾶλλον ἀναγκαῖα.
(«А вечные [сущности], будучи неподвижными и простыми, необходимо существуют так [как существуют] и просто необходимо, если уж они просто необходимы. Ибо одни [вещи] являются причинами для других, сами же они, не будучи причинены извне ничем, но [будучи причинами] сами себя, тем самым и в большей степени необходимы»).
[Комментарии]
Альберт Швеглер (Albert Schwegler): «Die höchste Stufe der Nothwendigkeit kommt den ewigen, unbeweglichen, einfachen Substanzen zu… Ihre Nothwendigkeit ist eine absolute, innere, durch nichts andres bedingte. Sie sind nicht blos relativ, sondern absolut nothwendig, weil in ihrem Begriffe selbst das Seyn liegt». («Высшая степень необходимости принадлежит вечным, неподвижным, простым субстанциям… Их необходимость является абсолютной, внутренней, ничем иным не обусловленной. Они не просто относительно, но абсолютно необходимы, потому что в самом их понятии заключено бытие»). Швеглер указывает на онтологический аргумент: сущность таких существ включает в себя существование.
Вернер Йегер (Werner Jaeger): «This absolute necessity is the hallmark of the divine in Aristotle's system. It is the final culmination of his search for a principle that is wholly actualized and free from all potentiality, which is the source of all becoming and contingency». («Эта абсолютная необходимость – отличительная черта божественного в системе Аристотеля. Это конечная кульминация его поиска принципа, который полностью актуализирован и свободен от всякой потенциальности, являющейся источником всякого становления и случайности»). Йегер связывает этот пассаж с теологическим измерением мысли Аристотеля.
Пьер Обенк (Pierre Aubenque): В «Le problème de l'être chez Aristote» Обенк задается вопросом: «Можно ли говорить о "необходимости" для простого бытия, которое, будучи лишено всякой потенции, вообще не имеет альтернативы? Его "не-может-быть-иным" есть не результат принуждения, а следствие его абсолютной простоты. Это скорее сверх-необходимость, находящаяся по ту сторону обычной дихотомии необходимости и случайности».
Алексей Фёдорович Лосев: «Это – вершина всей аристотелевской теории необходимости. Абсолютно необходимое – это вечный Ум, мыслящий сам себя, это чистая энергия, не знающая никакой потенции, никакой материи. Это необходимое уже не "не может быть иным" в силу внешнего принуждения или логического закона – оно вообще находится вне всякой альтернативы "иного", оно есть сама себе необходимость и основание, causa sui. Здесь онтология смыкается с теологией».
Василий Васильевич Зеньковский: В «Истории античной философии» Зеньковский отмечает: «Аристотель приходит к понятию абсолютной необходимости, которая есть синоним божественной самодостаточности и совершенства. Это необходимость не как принуждение, а как высшая свобода – свобода от всяческой ограниченности и изменчивости, полная актуализация всех возможностей, которые и есть сама сущность».
Арсений Владимирович Гулыга: «В учении об абсолютно необходимом простом существе Аристотель закладывает основы всей последующей европейской метафизики, вплоть до Спинозы с его "Богом, или Субстанцией, которая необходимо существует" и Лейбница с его учением о достаточном основании. Это необходимый предел, к которому устремлено всякое философское мышление, ищущее последнее основание мира».
Глава 6. О сущности Единого: виды и критерии единства.
[1015b16-1016b3]
1. Единство через соотнесённость (привходящее единство) [1015b16-1015b21]
Заглавие: Единство по присущности одному субъекту
Текст Аристотеля (отредактированный):
Единым называется то, сущее которого является одним по отношению к чему-то одному, но при этом [само] может быть и множественным. Это происходит, когда несколько свойств (предикатов) сказываются об одном и том же первичном субъекте (например, «образованный», «праведный» и «Кориск» суть едины, поскольку все они описывают одну и ту же сущность – конкретного человека). Такое единство является не сущностным, а соотнесённым (πρὸς ἕν), основанным на связи акциденций с их единым носителем-субстратом.
Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847–1848):
"Das Eine wird also hier nicht absolut, sondern relativ gefaßt; es ist die Einheit der Beziehung auf ein Subject. Diese Beziehung kann eine mannigfache seyn, und so gibt es auch eine Mannigfaltigkeit von Einheiten… Diese ganze Betrachtung steht im engsten Zusammenhange mit der Lehre von den Kategorien."
«Таким образом, Единое понимается здесь не абсолютно, а относительно; это есть единство отношения к одному субъекту. Это отношение может быть многообразным, и поэтому существует также многообразие единств… Вся эта концепция находится в теснейшей связи с учением о категориях».
Комментарий: Швеглер верно указывает на релятивный, а не абсолютный характер этого типа единства. Его замечание о связи с категориями подчеркивает, что единство здесь устанавливается через категорию сущности (ὁυσία), которая служит субстратом для всех остальных акцидентальных категорий (качества, количества и т.д.).
Комментарий У. Д. Росса (Aristotle's Metaphysics, 1924):
"The first type of unity is the least proper; it is the unity of an accidental compound. The 'one' thing is really a plurality of attributes in a substance."
«Первый тип единства является наименее собственным; это единство привходящего комплекса. "Единая" вещь на самом деле есть множество атрибутов в субстанции».
Комментарий: Росс четко определяет онтологический статус такого «единства» – это единство по совпадению (κατὰ συμβεβηκός), а не по сути.
Комментарий А. Ф. Лосева:
Лосев, анализируя это место, видит здесь проявление аристотелевского «системного подхода», где «единое не есть нечто оторванное от многого, но органически с ним связано, будучи его смысловым оформлением». Субстанция (человек Кориск) выступает как организующий принцип, придающий множеству акциденций видимость смыслового единства.
Комментарий Д. В. Бугая:
Бугай отмечает, что этот пример демонстрирует полемику Аристотеля с платоновской теорией идей: «Единство обеспечивается не причастностью множества вещей одной идее (как у Платона), а принадлежностью множества предикатов одной вещи, одному субъекту-субстрату».
Текст на древнегреческом:
1. Ἓν λέγεται ὧν ἡ οὐσία μία πρὸς ἕν τι, ἀλλὰ ταὐτὸ ὄντων πλήθει οἷον ἐπίσταται καὶ ἄδικος καὶ ἄνθρωπος ὁ αὐτός· λέγεται δὲ ταὐτὸ ἐκεῖνα ἅπερ καὶ ἓν τῷ ὑποκειμένῳ ἑνί, οἷον ἐπίσταται καὶ ἄδικος τῷ αὐτῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει.
[1015b16-1015b18] «Ἓν λέγεται ὧν ἡ οὐσία μία…» – Начало определения. Обращает на себя внимание использование термина «οὐσία» (сущность) не в основном значении, а как «сущееness», бытийность, то, что делает нечто сущим. Здесь – бытийность, отнесенная к одному.
[1015b18-1015b21] «…οἷον ἐπίσταται καὶ ἄδικος καὶ ἄνθρωπος ὁ αὐτός…» – Классический пример единства через привходящие свойства. «Ἄνθρωπος» здесь – не «человек вообще», а конкретный индивид, первая сущность, выступающая субстратом. Указание на «τῷ ὑποκειμένῳ ἑνί» (одному лежащему в основе) – ключевой онтологический принцип Аристотеля.
2. Единство через связность и целостность (само по себе) [1015b36-1016a17, 1016a24-1016a26]
Заглавие: Единство по связности и непрерывности
Текст Аристотеля (отредактированный):
Единое «само по себе» (καθ᾽ αὑτὸ) – это прежде всего непрерывное (συνεχές) и связное (ἁπλοῦν) целое. Оно может быть природным (как конечность тела) или искусственным (как свёрток, связанный верёвкой, или дерево, склеенное из частей). Важен не просто контакт (ἁφή) частей, а наличие некоего связующего начала (λόγος), обеспечивающего единое, неделимое движение или форму. Поэтому прямая линия едина в большей степени (μᾶλλον ἕν), чем ломаная или кривая, поскольку её движение (или взгляд, направленный вдоль нее) является одновременным и неделимым, тогда как у ломаной линии оно прерывается и меняет направление.
Комментарий Альберта Швеглера:
"Die Continuität ist die nächste und unmittelbarste Form der Einheit, die Einheit des Nebeneinander. Aber Aristoteles unterscheidet scharf die bloße Berührung von der wahren Continuität… Das Band, der Leim, ist nur das sinnliche Symbol des innern Zusammenhangs, der in der gemeinsamen Bewegung sich kundgibt."
«Непрерывность есть ближайшая и непосредственнейшая форма единства, единство сосуществования. Но Аристотель резко отличает простое соприкосновение от истинной непрерывности… Верёвка, клей – это лишь чувственный символ внутренней связи, которая проявляется в общем движении».
Комментарий: Швеглер акцентирует различие между внешним контактом и внутренним единством, которое демонстрируется через общую функцию (движение). Связующее начало (верёвка) – лишь внешняя причина, указывающая на внутреннее единство целого.
Комментарий Джозефа Оуэнса (The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics, 1963):
"The continuum is one through the actualization of a single form. The parts are potentially present, but the whole is actual as one. The straight line is more truly one because its form is simpler and more actual; it has no unrealized potentiality for division in its direction."
«Континуум един через актуализацию единой формы. Части присутствуют потенциально, но целое актуально как единое. Прямая линия более истинно едина, потому что её форма проще и более актуальна; у неё нет нереализованной потенции к разделению в её направлении».
Комментарий: Оуэнс переводит анализ с физического на метафизический уровень, интерпретируя непрерывность через понятия формы, акта и потенции. Прямая линия имеет более совершенную форму, чем ломаная.
Комментарий А. Ф. Лосева:
Лосев подчеркивает диалектику непрерывного и дискретного: «Единство континуума у Аристотеля не есть сплошной и неразличимый поток… оно содержит в себе момент дискретности, поскольку может быть разделено, но эта делимость есть лишь потенция, тогда как актуально целое есть нечто неделимое и единое».
Комментарий Д. В. Бугая:
Бугай обращает внимание на критерий «неделимости движения»: «Аристотель вводит функциональный критерий единства. Вещь едина, если её движение (или изменение) как целого не может быть разделено на независимые движения частей без уничтожения самой природы этого движения».
Текст на древнегреческом:
6. Ἓν λέγεται τό τε συνεχὲς ἁπλῶς καὶ μάλιστα τὸ φύσει καὶ μὴ ἁφῇ ἢ σπάρτῳ. τούτων δὲ μᾶλλον ἓν καὶ πρότερον ὃ ἔχει λόγον μᾶλλον τοῦ ποιοῦντος συνεχὲς ἕνωσιν.
9. Τῶν δὲ γραμμῶν μᾶλλον ἓν ἡ εὐθεῖα τῆς καμπύλης… ὅτι ἡ μὲν καμπύλη καὶ ἡ κεκαμμένη εἰς πλείω καὶ μὴ ἓν κινεῖται… ἡ δ᾽ εὐθεῖa ἁπλῶς κινεῖται.
[1015b36-1016a1] «Ἓν λέγεται τό τε συνεχὲς ἁπλῶς…» – Определение через непрерывность. «ἁπλῶς» – просто, безусловно, что указывает на первичность этого значения.
[1016a4-5] «…ὃ ἔχει λόγον μᾶλλον τοῦ ποιοῦντος συνεχὲς ἕνωσιν.» – Ключевая фраза. «Λόγος» здесь означает не просто «разум», а скорее «принцип», «форму», «организующее начало», которое является более важным для единства, чем физический связующий материал («верёвка»).
[1016a10-17] «Τῶν δὲ γραμμῶν μᾶλλον ἓν ἡ εὐθεῖα…» – Пример с линиями. Критерий – характер движения (κίνησις). Движение вдоль прямой мыслится как единое и одновременное действие, в то время как движение вдоль кривой или ломаной требует изменения направления, то есть множественности действий. Это показывает, что единство для Аристотеля – это не статическое свойство, а динамический принцип неделимости функции.
3. Единство через подобие и общность рода [1016a17-1016a24, 1016a31-1016a32]
Заглавие: Единство по роду и материи
Текст Аристотеля (отредактированный):
Далее, единым называется то, что имеет сходный или неразличимый чувственно субстрат (материю). Например, вино считается единым, и все жидкости могут называться едиными, если их конечная основа (вода или воздух) одна и та же. С другой стороны, едиными называются и виды, принадлежащие к одному роду (например, лошадь, человек и собака едины, поскольку все они суть животные). В этом случае единство является обобщающим и основано не на индивидуальной форме, а на общности материального начала или на тождестве более широкого класса (рода), объединяющего множество различных видов.
Комментарий Альберта Швеглера:
"Die Einheit der Gattung ist die Einheit der Abstammung oder der Definition. Sie ist abstracter und unbestimmter als die Einheit der Art. Die Dinge sind eins der Gattung nach, indem sie an derselben allgemeinen Natur theilhaben, obgleich sie specifisch verschieden sind."
«Единство рода есть единство происхождения или определения. Оно более абстрактно и неопределенно, чем единство вида. Вещи едины по роду, поскольку причастны одной и той же общей природе, хотя они и специфически различны».
Комментарий: Швеглер четко разделяет уровни единства: родовая общность ниже и абстрактнее, чем видовая. Его отсылка к «общей природе» указывает на платоновский подтекст, который Аристотель перерабатывает, связывая единство рода не с трансцендентной идеей, а с общностью в определении.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.