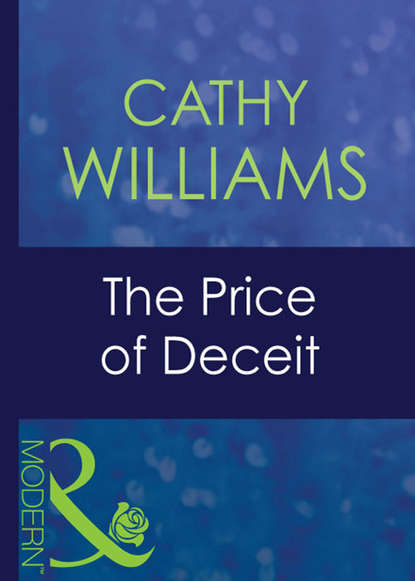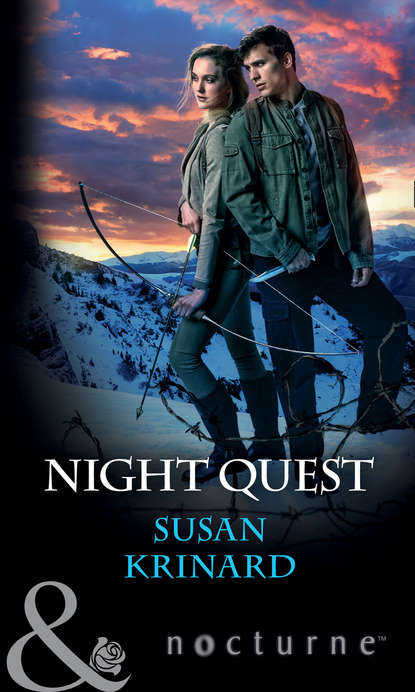Дом душ. Великий бог Пан

- -
- 100%
- +
– Вот клубневые глазгóвии, – сказал он, указывая на жесткий ряд чахлых растений, – это косоцвéтные2[1]; вот новинка, Молдáвия вечноцветýщая Андерсóна, а это прáттсия.
– Когда они цветут? – спросил Дарнелл.
– Большинство в конце августа или начале сентября, – коротко ответил Уилсон. Он был слегка раздосадован тем, что так много говорил о своих растениях, видя, что Дарнеллу цветы безразличны. И действительно, гость едва мог скрыть нахлынувшие на него смутные воспоминания: мысли о старом, диком саде, полном ароматов, под серыми стенами, о благоухании таволги у ручья.
– Я хотел посоветоваться с тобой насчет мебели, – наконец сказал Дарнелл. – У нас, знаешь ли, есть свободная комната, и я подумываю поставить туда кое-какие вещи. Я еще не решил окончательно, но подумал, что ты мог бы мне что-нибудь посоветовать.
– Пойдем в мой кабинет, – сказал Уилсон. – Нет, сюда, с заднего хода. – И он показал Дарнеллу еще одно хитроумное приспособление у боковой двери, благодаря которому, стоило лишь коснуться щеколды, по всему дому начинал пронзительно трезвонить звонок. Уилсон и впрямь так резво за нее взялся, что звонок поднял дикую тревогу, и служанка, примерявшая в спальне вещи своей хозяйки, в безумии подскочила к окну, а затем зашлась в истерической пляске. В воскресенье днем на столе в гостиной обнаружили штукатурку, и Уилсон написал письмо в «Фулхэм Кроникл», приписав это явление «некоему сейсмическому возмущению».
В тот момент он ничего не знал о грандиозных последствиях своего изобретения и торжественно повел гостя к задней части дома. Здесь был участок дерна, начинавший слегка буреть, с кустарниками на заднем плане. Посреди дерна, с важным видом, стоял в одиночестве мальчик лет девяти или десяти.
– Старший, – сказал Уилсон. – Хэвлок. Ну, Локки, что делаешь? И где твои брат и сестра?
Мальчик ничуть не смутился. Напротив, он, казалось, горел желанием объяснить ход событий.
– Я играю в Бога, – сказал он с обезоруживающей откровенностью. – А Фергюса и Джанет я отправил в гиблое место. Это там, в кустах. И им оттуда никогда не выйти. И они горят в вечном огне.
– Ну, как тебе? – восхищенно спросил Уилсон. – Неплохо для девятилетнего паренька, а? В воскресной школе его очень хвалят. Но пойдем в мой кабинет.
Кабинет представлял собой пристройку к задней части дома. Изначально он был задуман как черная кухня и прачечная, но Уилсон задрапировал медный котел кисеей, а раковину застелил досками, так что она служила верстаком.
– Уютно, правда? – сказал он, подвигая одно из двух плетеных кресел. – Я здесь обдумываю всякие вещи, знаешь ли, тут тихо. Так что там с мебелью? Хочешь провернуть дело с размахом?
– О, вовсе нет. Совсем наоборот. Собственно, я не знаю, хватит ли суммы, которой мы располагаем. Понимаешь, свободная комната у нас десять на двенадцать футов, окна выходят на запад, и я подумал, если получится, она будет выглядеть веселее с мебелью. К тому же, приятно иметь возможность пригласить гостя, например, нашу тетю, миссис Никсон. А она привыкла, чтобы все было очень хорошо.
– И сколько ты хочешь потратить?
– Ну, я не думаю, что мы вправе выходить за рамки десяти фунтов. Этого ведь не хватит, да?
Уилсон встал и внушительно закрыл дверь черной кухни.
– Слушай, – сказал он, – я рад, что ты в первую очередь пришел ко мне. А теперь просто скажи, куда ты сам думал пойти.
– Ну, я подумывал о Хэмпстед-роуд, – нерешительно ответил Дарнелл.
– Я так и думал, что ты это скажешь. Но я тебя спрошу: какой смысл ходить в эти дорогие магазины в Вест-Энде? Ты же не получаешь за свои деньги товар лучшего качества. Ты просто платишь за моду.
– Но я видел кое-какие симпатичные вещи у «Сэмюэла». В этих первоклассных магазинах они добиваются блестящей полировки. Мы ходили туда, когда женились.
– Вот именно, и заплатили на десять процентов больше, чем могли бы. Это выбрасывание денег на ветер. И сколько, ты говоришь, у тебя есть? Десять фунтов. Так вот, я могу тебе сказать, где достать прекрасный спальный гарнитур, самой лучшей отделки, за шесть фунтов десять. Как тебе такое? Посуда включена, заметь, а ковер, ярких цветов, обойдется тебе всего в пятнадцать шиллингов и шесть пенсов. Слушай, поезжай в любую субботу днем к «Дику» на Севен-Систерс-роуд, упомяни мое имя и спроси мистера Джонстона. Гарнитур из ясеня, они его называют «Елизаветинский». Шесть фунтов десять, включая посуду, и один из их ковров «Ориент», девять на девять футов, за пятнадцать и шесть. У «Дика».
Уилсон говорил на тему меблировки с некоторым красноречием. Он указал, что времена изменились и старый тяжелый стиль совершенно вышел из моды.
– Понимаешь, – сказал он, – сейчас все не так, как в старые времена, когда люди покупали вещи, чтобы они служили сотни лет. Вот, незадолго до того, как мы с женой поженились, у меня на севере умер дядя и оставил мне свою мебель. Я как раз подумывал об обстановке и решил, что вещи могут пригодиться. Но уверяю тебя, там не было ни единого предмета, который я бы захотел держать в доме. Все тусклое, старое красное дерево: большие книжные шкафы и бюро, стулья и столы на кривых ножках. Как я сказал жене (вскоре после этого она ею стала): «Мы ведь не собираемся устраивать у себя кунсткамеру, правда?» Так что я распродал все это барахло за сколько смог. Должен признаться, я люблю, когда в комнате весело.
Дарнелл сказал, что слышал, будто художникам нравится старомодная мебель.
– О, еще бы. «Нечистый культ подсолнуха», да? Видел ту статейку в «Дейли Пост»? Я сам всю эту гниль ненавижу. Это нездорово, понимаешь, и я не верю, что английский народ это стерпит. Но говоря о диковинках, у меня тут есть кое-что, что стоит денег.
Он порылся в каком-то пыльном ящике в углу комнаты и показал Дарнеллу маленькую, изъеденную червями Библию, в которой не хватало первых пяти глав Бытия и последнего листа Апокалипсиса. На ней стояла дата 1753 год.
– Я уверен, что она многого стоит, – сказал Уилсон. – Посмотри на червоточины. И видишь, она «неполная», как говорят. Ты замечал, что некоторые из самых ценных книг на аукционах – «неполные»?
Вскоре после этого их беседа подошла к концу, и Дарнелл отправился домой к чаю. Он серьезно подумывал последовать совету Уилсона, и после чая рассказал Мэри о своей идее и о том, что Уилсон сказал про магазин «Дика».
Мэри, выслушав все подробности, этот план весьма понравился. Цены показались ей очень умеренными. Они сидели по обе стороны камина (который был прикрыт симпатичным картонным экраном с нарисованными пейзажами), и она, подперев щеку рукой, смотрела куда-то своими прекрасными темными глазами, словно видела дивные сны. На самом же деле она обдумывала план Дарнелла.
– В некотором смысле это было бы очень мило, – сказала она наконец. – Но нам нужно все обсудить. Боюсь, в конечном итоге это выльется в сумму куда больше десяти фунтов. Нужно учесть столько всего. Вот кровать. Будет убого, если мы купим простую кровать без латунных наверший. Потом постельные принадлежности: матрас, одеяла, простыни и покрывало – все это тоже будет чего-то стоить.
Она снова погрузилась в мечтания, подсчитывая стоимость всего необходимого, а Дарнелл с тревогой смотрел на нее, считая вместе с ней и гадая, к какому выводу она придет. На мгновение нежный цвет ее лица, изящество фигуры и каштановые волосы, ниспадающие на уши и вьющиеся мелкими локонами у шеи, показались ему намеком на язык, которого он еще не выучил. Но она заговорила снова.
– Постельные принадлежности, боюсь, обойдутся в круглую сумму. Даже если у «Дика» значительно дешевле, чем у «Буна» или «Сэмюэла». И, дорогой, нам понадобятся какие-нибудь украшения на каминную полку. Я на днях видела очень милые вазочки по одиннадцать-три у «Уилкина и Додда». Нам понадобится как минимум шесть, и еще что-то для центра. Видишь, как набегает.
Дарнелл молчал. Он видел, что жена подводит итоги не в пользу его замысла, и, хотя он всем сердцем за него ухватился, не мог устоять перед ее доводами.
– Это будет ближе к двенадцати фунтам, чем к десяти, – сказала она.
– Пол вокруг ковра (ты сказал девять на девять?) придется покрасить, и нам понадобится кусок линолеума под умывальник. А стены будут выглядеть очень голыми без картин.
– Я подумал о картинах, – с жаром заговорил Дарнелл. Он чувствовал, что здесь, по крайней мере, он неуязвим. – Знаешь, у нас ведь уже есть «День Дерби» и «Вокзал», в рамах, стоят в углу кладовки. Они немного старомодны, возможно, но для спальни это неважно. И разве нельзя использовать фотографии? Я видел в Сити очень аккуратную рамку из натурального дуба, на полдюжины фотографий, за шиллинг и шесть пенсов. Мы могли бы вставить твоего отца, твоего брата Джеймса, тетю Мэриан и твою бабушку в чепце вдовы – и кого-нибудь еще из альбома. А еще есть та старая семейная картина в сундуке – она могла бы подойти над камином.
– Ты имеешь в виду твоего прадеда в позолоченной раме? Но это ведь очень старомодно, правда? Он так странно выглядит в своем парике. Не думаю, что это как-то будет сочетаться с комнатой.
Дарнелл на мгновение задумался. Портрет был погрудным изображением молодого джентльмена, щегольски одетого по моде 1750 года, и он очень смутно помнил какие-то старые истории, которые отец рассказывал ему об этом предке – истории о лесах и полях, о глубоких, заросших проселках и о забытом крае на западе.
– Да, – сказал он, – полагаю, он и впрямь несколько устарел. Но я видел в Сити очень милые гравюры, в рамах и совсем недорогие.
– Да, но все имеет свою цену. Что ж, мы еще поговорим об этом, как ты говоришь. Ты же знаешь, мы должны быть осторожны.
Служанка внесла ужин: жестяную банку с печеньем, стакан молока для хозяйки и скромную пинту пива для хозяина, с небольшим кусочком сыра и масла. После ужина Эдвард выкурил две трубки табака «Honeydew», и они тихо отправились спать. Мэри пошла первой, а муж последовал за ней четверть часа спустя, согласно ритуалу, установленному с первых дней их брака. Парадная и задняя двери были заперты, газ перекрыт у счетчика, и когда Дарнелл поднялся наверх, он застал жену уже в постели, повернувшую к нему лицо на подушке.
Она тихо заговорила, когда он вошел в комнату.
– Невозможно купить приличную кровать дешевле, чем за фунт одиннадцать, а хорошие простыни везде стоят дорого.
Он скинул одежду и мягко скользнул в постель, потушив свечу на столике. Шторы были ровно и аккуратно опущены, но ночь была июньская, и за стенами, за этим унылым миром и пустыней серого Шепердс-Буша, сквозь волшебную пелену облаков над холмом взошла огромная золотая луна, и земля наполнилась дивным светом, колеблющимся между багряным закатом, застывшим над горами, и тем чудесным сиянием, что лилось в леса с вершины холма. Дарнеллу казалось, что он видит отблеск этого волшебного сияния в комнате; бледные стены, белая постель и лицо его жены, лежащее на подушке среди каштановых волос, были озарены, и, прислушиваясь, он почти мог различить крик коростеля в полях, странный зов козодоя из тишины скалистых мест, где рос папоротник, и, словно эхо волшебной песни, мелодию соловья, что пел всю ночь в ольхе у ручейка. Он не мог ничего сказать, но медленно просунул руку под шею жены и стал перебирать колечки каштановых волос. Она не шевелилась, лежала, тихо дыша, и смотрела своими прекрасными глазами в пустой потолок комнаты, тоже, без сомнения, думая о чем-то, чего не могла высказать. Она послушно поцеловала мужа, когда он попросил, а он, говоря, запинался и колебался.
Они уже почти засыпали, Дарнелл был на самом пороге сна, когда она очень тихо произнесла:
– Боюсь, дорогой, мы никогда не сможем себе этого позволить.
И он услышал ее слова сквозь журчание воды, капающей с серой скалы и падающей в светлую заводь внизу.
Воскресное утро всегда было временем праздности. Они бы так и не дождались завтрака, если бы миссис Дарнелл, обладавшая инстинктами хозяйки, не проснулась, не увидела яркий солнечный свет и не почувствовала, что в доме слишком тихо. Она лежала неподвижно минут пять, пока муж спал рядом, и напряженно вслушивалась, ожидая, когда внизу зашевелится Элис. Золотой луч солнца пробивался сквозь щель в жалюзи и падал на каштановые волосы, разметавшиеся по подушке вокруг ее головы. Она неотрывно смотрела на туалетный столик-«дюшес», на цветной умывальный набор и на две фотогравюры в дубовых рамах – «Встреча» и «Прощание», – висевшие на стене. Она полудремала, прислушиваясь к шагам служанки, и на нее набежала тень тени какой-то мысли, и она смутно, на краткий миг сна, представила себе другой мир, где восторг был вином, где бродят по глубокой и счастливой долине, а над деревьями всегда восходит багровая луна. Она думала о Хэмпстеде, который представлялся ей видением мира за стенами, и мысль о пустоши привела ее к мыслям о банковских каникулах, а затем и об Элис. В доме не было ни звука; если бы не протяжный крик разносчика воскресных газет, внезапно раздавшийся за углом Эдна-роуд, и не предостерегающее бряцанье и визг молочника с его бидонами, можно было бы подумать, что на дворе полночь.
Миссис Дарнелл села в постели и, окончательно проснувшись, стала слушать еще внимательнее. Девушка, очевидно, крепко спала, и ее нужно было будить, иначе вся дневная работа пойдет наперекосяк. Она вспомнила, как Эдвард ненавидит любую суету или споры по хозяйственным вопросам, особенно в воскресенье, после долгой рабочей недели в Сити. Она с нежностью взглянула на спящего мужа, потому что очень его любила, и тихонько встала с постели, чтобы в одной ночной рубашке пойти разбудить служанку.
Комната служанки была маленькой и душной, ночь выдалась очень жаркой, и миссис Дарнелл на мгновение замерла у двери, гадая, действительно ли девушка на кровати – та самая чумазая служанка, что целыми днями суетится по дому, или даже то странно разодетое существо в лиловом, с лоснящимся лицом, которое появится в воскресенье днем, принося ранний чай, потому что у нее «выходной вечер». Волосы у Элис были черные, а кожа бледная, почти оливкового оттенка, и она спала, подложив одну руку под голову, напоминая миссис Дарнелл о странной гравюре «Усталая вакханка», которую она давно видела в витрине магазина на Аппер-стрит в Ислингтоне. И тут зазвонил треснутый колокол – это означало, что без пяти восемь, а ничего еще не сделано.
Она мягко коснулась плеча девушки и лишь улыбнулась, когда та, вздрогнув, открыла глаза и в смятении вскочила. Миссис Дарнелл вернулась в свою комнату и стала медленно одеваться, пока муж еще спал. И лишь в последний момент, застегивая вишневый лиф, она разбудила его, сказав, что бекон подгорит, если он не поторопится с одеванием.
За завтраком они снова обсуждали вопрос о свободной комнате. Миссис Дарнелл по-прежнему признавала, что план обставить ее ее привлекает, но не видела, как это можно сделать за десять фунтов, а поскольку они были людьми предусмотрительными, то не хотели трогать свои сбережения. Эдвард получал хорошее жалованье – сто сорок фунтов в год (с учетом надбавок за сверхурочную работу в загруженные недели), а Мэри унаследовала от старого дяди, своего крестного, триста фунтов, которые были разумно вложены под залог под 4,5 процента. Таким образом, их общий доход, считая подарок тети Мэриан, составлял сто пятьдесят восемь фунтов в год, и долгов у них не было, поскольку мебель для дома Дарнелл купил на деньги, которые копил в течение пяти или шести лет до этого. В первые годы своей жизни в Сити его доход, конечно, был меньше, и поначалу он жил очень свободно, не думая об экономии. Его привлекали театры и мюзик-холлы, и едва ли проходила неделя, чтобы он не сходил (в партер) в один из них; иногда он покупал фотографии понравившихся ему актрис. Он торжественно сжег их, когда обручился с Мэри; он хорошо помнил тот вечер: его сердце было так полно радости и удивления, а хозяйка квартиры, когда он вернулся из Сити на следующий день, горько жаловалась на беспорядок в камине. Тем не менее, деньги были потеряны, насколько он мог припомнить, десять или двенадцать шиллингов; и ему было тем более досадно думать, что, если бы он их отложил, их бы с лихвой хватило на покупку ковра «Ориент» ярких расцветок. Были и другие траты его молодости: он покупал сигары по три и даже по четыре пенса, последние редко, но первые часто, иногда поштучно, а иногда пачками по двенадцать штук за полкроны. Однажды пенковая трубка не давала ему покоя шесть недель; табачник с некоторым таинственным видом извлек ее из ящика, когда он покупал пачку «Одинокой звезды». Вот еще одна бесполезная трата – эти американские табаки; его «Одинокая звезда», «Долгий судья», «Старый Хэнк», «Знойный климат» и прочие стоили от шиллинга до шиллинга и шести пенсов за двух-унцевую пачку, тогда как сейчас он покупал отличный развесной «Honeydew» по три с половиной пенса за унцию. Но хитрый торговец, который приметил его как покупателя дорогих диковинных товаров, кивнул со своим таинственным видом и, щелкнув крышкой футляра, выставил пенковую трубку перед ослепленными глазами Дарнелла. Чаша была вырезана в виде женской фигуры, изображающей голову и торс, а мундштук был из самого лучшего янтаря – всего двенадцать шиллингов и шесть пенсов, сказал торговец, и один только янтарь, уверял он, стоит дороже. Он объяснил, что ему несколько неловко показывать трубку кому-либо, кроме постоянного клиента, и он готов продать ее чуть ниже себестоимости и «списать убыток». Дарнелл тогда устоял, но трубка не давала ему покоя, и в конце концов он ее купил. Некоторое время он с удовольствием показывал ее молодым коллегам в конторе, но курилась она не очень хорошо, и он отдал ее незадолго до свадьбы, так как из-за характера резьбы пользоваться ею в присутствии жены было бы невозможно. Однажды, во время отпуска в Гастингсе, он купил малайскую трость – бесполезную вещь, стоившую семь шиллингов, – и с горечью размышлял о бесчисленных вечерах, когда он отказывался от простой жареной котлеты своей хозяйки и отправлялся фланировать по итальянским ресторанчикам на Аппер-стрит в Ислингтоне (он жил в Холлоуэе), балуя себя дорогими деликатесами: котлетами с зеленым горошком, тушеной говядиной с томатным соусом, филе-миньон с картофелем фри, часто завершая трапезу небольшим кусочком грюйера, который стоил два пенса. Однажды вечером, получив прибавку к жалованью, он выпил четверть фляжки кьянти и добавил к уже постыдным расходам чудовищные бенедиктин, кофе и сигареты, а шесть пенсов официанту довели счет до четырех шиллингов вместо одного, который обеспечил бы ему здоровую и достаточную трапезу дома. О, в этом списке расточительства было много и других пунктов, и Дарнелл часто сожалел о своем образе жизни, думая, что если бы он был бережливее, к их доходу можно было бы прибавить пять-шесть фунтов в год.
И вопрос о свободной комнате вернул эти сожаления с удвоенной силой. Он убедил себя, что лишние пять фунтов дали бы достаточный запас для желаемых трат, хотя это, без сомнения, было с его стороны ошибкой. Но он ясно видел, что в нынешних условиях нельзя было трогать ту очень небольшую сумму денег, которую они скопили. Аренда дома составляла тридцать пять фунтов, а налоги и сборы добавляли еще десять – почти четверть их дохода уходила на жилье. Мэри изо всех сил старалась сократить расходы на хозяйство, но мясо всегда было дорогим, и она подозревала служанку в том, что та тайком отрезает ломти от жаркого и ест их в своей спальне с хлебом и патокой глубокой ночью, ибо у девушки были неупорядоченные и странные аппетиты. Мистер Дарнелл больше не думал о ресторанах, дешевых или дорогих; он брал свой обед с собой в Сити, а вечером ужинал с женой – котлеты, кусок стейка или холодное мясо от воскресного обеда. Миссис Дарнелл в середине дня ела хлеб с джемом и пила немного молока; но, при всей экономии, попытка жить по средствам и откладывать на будущие непредвиденные расходы была очень трудной. Они решили обходиться без смены обстановки по крайней мере три года, так как медовый месяц в Уолтон-он-те-Нейз обошелся довольно дорого; и именно на этом основании они, несколько нелогично, отложили десять фунтов, заявив, что раз у них не будет отпуска, они потратят деньги на что-нибудь полезное.
И именно это соображение полезности в конечном итоге оказалось роковым для плана Дарнелла. Они снова и снова подсчитывали расходы на кровать и постельные принадлежности, линолеум и украшения, и ценой больших усилий общая сумма расходов приобрела вид «чуть больше десяти фунтов», когда Мэри внезапно сказала:
– Но, в конце концов, Эдвард, нам ведь на самом деле не нужно обставлять эту комнату. Я имею в виду, в этом нет необходимости. А если мы это сделаем, это может привести к бесконечным расходам. Люди узнают об этом и непременно начнут напрашиваться в гости. Ты же знаешь, у нас есть родственники в деревне, и они, Мэллинги во всяком случае, почти наверняка станут намекать.
Дарнелл увидел силу этого довода и уступил. Но он был горько разочарован.
– Было бы очень мило, правда? – сказал он со вздохом.
– Ничего, дорогой, – сказала Мэри, видя, что он сильно пал духом. – Мы придумаем какой-нибудь другой план, который будет и приятным, и полезным.
Она часто говорила с ним таким тоном, тоном доброй матери, хотя была на три года моложе.
– А теперь, – сказала она, – мне нужно собираться в церковь. Ты идешь?
Дарнелл сказал, что, пожалуй, нет. Обычно он сопровождал жену на утреннюю службу, но в тот день он чувствовал некоторую горечь в сердце и предпочел посидеть в тени большого тутового дерева, стоявшего посреди их клочка сада – остатка просторных лужаек, которые когда-то лежали гладкими, зелеными и благоуханными там, где теперь в безнадежном лабиринте кишели унылые улицы.
Так что Мэри пошла в церковь тихо и одна. Церковь Святого Павла стояла на соседней улице, и ее готический дизайн заинтересовал бы любознательного исследователя истории странного возрождения. Очевидно, с механической точки зрения, все было в порядке. Стиль был выбран «геометрический декоративный», и узоры окон казались правильными. Неф, приделы, просторный алтарь были разумно пропорциональны; и, если говорить серьезно, единственной явно неправильной деталью была замена алтарной преграды с хорами и распятием на низкую «алтарную стену» с железными воротами. Но это, можно было бы убедительно доказать, было всего лишь адаптацией старой идеи к современным требованиям, и было бы довольно трудно объяснить, почему все здание, от простого раствора между камнями до готических газовых фонарей, было таинственным и изощренным кощунством. Гимны пели на мотив Джолла си-бемоль мажор, псалмы были «англиканскими», а проповедь была евангелием дня, дополненным и переведенным на более современный и изящный английский язык проповедника. И Мэри ушла.
После обеда (отличный кусок австралийской баранины, купленный в магазинах «Уорлд Уайд» в Хаммерсмите) они некоторое время сидели в саду, частично укрытые большим тутовым деревом от взглядов соседей. Эдвард курил свой «Honeydew», а Мэри смотрела на него со спокойной нежностью.
– Ты никогда не рассказываешь мне о людях в твоей конторе, – сказала она наконец. – Некоторые из них, должно быть, славные ребята, да?
– О да, они очень приличные. Надо бы как-нибудь привести кого-нибудь из них.
Он с болью вспомнил, что придется покупать виски. Нельзя же просить гостя пить столовое пиво по десять пенсов за галлон.
– А кто они? – спросила Мэри. – Мне кажется, они могли бы подарить тебе что-нибудь на свадьбу.
– Ну, не знаю. У нас как-то не принято. Но ребята они очень приличные. Ну, вот Харви; за глаза его называют «Соус». Он помешан на велосипедах. В прошлом году он участвовал в заезде на две мили среди любителей. И победил бы, если бы смог лучше подготовиться.
– Потом есть Джеймс, спортивный человек. Он бы тебе не понравился. Мне всегда кажется, что от него пахнет конюшней.
– Как ужасно! – сказала миссис Дарнелл, находя мужа несколько откровенным и опуская глаза.
– Дикенсон мог бы тебя позабавить, – продолжил Дарнелл. – У него всегда наготове шутка. Правда, ужасный лгун. Когда он что-то рассказывает, мы никогда не знаем, чему верить. На днях он клялся, что видел одного из начальников покупающим моллюсков с тележки у Лондонского моста, и Джонс, который только что пришел, поверил каждому слову.
Дарнелл рассмеялся при забавном воспоминании об этой шутке.
– И неплохая была байка про жену Солтера, – продолжал он. – Солтер – управляющий, знаешь ли. Дикенсон живет неподалеку, в Ноттинг-Хилле, и однажды утром он сказал, что видел миссис Солтер на Портобелло-роуд в красных чулках, танцующую под шарманку.
– Он немного грубоват, не так ли? – сказала миссис Дарнелл. – Я не вижу в этом ничего смешного.
– Ну, знаешь, среди мужчин это по-другому. Тебе мог бы понравиться Уоллис; он потрясающий фотограф. Он часто показывает нам фотографии своих детей – одна, маленькая девочка трех лет, в ванне. Я спросил его, как, по его мнению, ей это понравится, когда ей будет двадцать три.