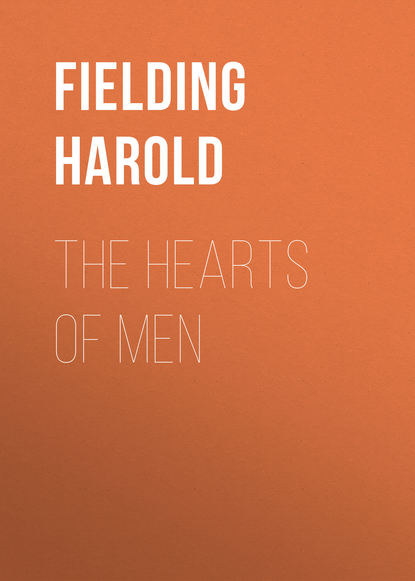Все как у людей

- -
- 100%
- +
Автобусная остановка находилась на широкой трассе. По одну сторону дороги тянулись дома, а по другую раскинулось поле пшеницы. В начале июля уборка зерновых уже началась, но пока что была далека отсюда. Слабый ветер дул с востока, и огненно-желтое поле колыхалось волнами так, что не было видно ни конца, ни края, и горизонт сливался с землей, будто падал от бессилия. Я помню, как Люда, видимо, устав от нашего молчания, ступила за обочину и по колено забралась в пшеницу. На мгновение остановившись, она глянула на далекие просторы, а потом сделала еще несколько шагов вперед, точно заходила в море. Перед ней раскинулся невиданный простор и, казалось, если нырнуть в него, то уже не вынырнешь никогда, настолько он был большой. Не оборачиваясь, девочка развела руки. Солнце охватило ее со всех сторон, и этот кадр образовал в моем сознании некий идеальный фрагмент. Я достал из кармана телефон и сделал фотографию.
Чуть позже эта фотография станет символом моей юношеской жизни. Девочка, точно готовая к полету над землей, огромное горящее желтизной поле, и никого вокруг. Связь реального с нереальным, настоящего с фантазией, действительного с воображаемым. Я подумал, что, если когда-нибудь напишу книгу, я выложу эту фотографию на обложку. Через несколько лет миллионы девочек будут фотографироваться на фоне подсолнухов и пшеницы, но это будет далеко от меня. Все они сольются в общую кишащую массу однодневок и безвкусицы, и только то, что было самым первым, внезапным и быстрым, останется в памяти навечно.
Люда ничего не заметила. Я сделал снимок и через секунду спрятал телефон в карман. Когда она обернулась, я стоял и смотрел на горизонт. Девочка сделала два шага мне навстречу и спросила, что я там разглядел.
– Птицы, – сказал я.
Ответ ее заинтересовал. Она стала крутить головой, но ничего не увидела. Я указал чуть левее, где далеко-далеко виднелось несколько точек.
– Как ты их разглядел?
– Сам не знаю, – я даже не был уверен, что вижу их. Над землей поднимался жар, воздух парил, и каждое черное пятнышко на фоне голубого неба казалось мне птицей. – Похоже?
– По-моему, совсем не похоже.
– Ну, значит, я ошибся.
Она выбралась на обочину и стала чесать голые коленки.
– Зачем я туда пошла? – На обнаженных икрах появились красные пятна. Кое-где виднелись царапины. – Теперь буду чесаться до скончания века.
Я не знал, чем ей помочь, но видеть ее рассерженную было легче, чем молчаливую. Что-то менялось в ней такими же плавными волнами, как колосилась пшеница.
– У меня есть вода, – предложил я. – Можно промокнуть полотенце и…
– Нет. Спасибо. Пройдет само. У меня, наверное, аллергия на такие штуки…
– Это не аллергия. Если я зайду туда, у меня тоже будут чесаться ноги. А если поваляюсь, то будет чесаться все, что не под одеждой.
– Ты серьезно?
– Любая солома раздражает кожу. Животным ее подкладывают далеко не из-за того, что она мягкая и ее можно есть. Солома колется и от этого греет. Вот и ты сейчас, наверное, согрелась.
– И правда стало тепло… в духоте тридцать градусов в тени, – сказала она, и мы засмеялись.
Когда мы расслаблялись, Люда не смотрела по сторонам, и мне не приходилось думать над чем-либо, что в последствии все равно разочарует. Мы говорили о простых вещах, совершенно над ними не задумываясь, и тогда я впервые осознал одну вещь: когда ты свободен и легок, люди тянутся к тебе, как по мановению волшебной палочки. И в то же время, когда ты тяжел и подавлен, все от тебя стремятся убежать. Одно мне оставалось неясным: как управлять своим состоянием. Как сделаться легким и веселым искусственно? Если в тебе нет никаких задатков притягивать людей, и тем более нравиться девушкам, что же сделать с собой такое, чтобы на них повлиять?
– Тебе никто не говорил, что у тебя очень приятная улыбка? – спросил я как бы невзначай.
– Да мне и некому сказать, – ответила она. – Об этом же девочкам говорят парни. А у меня в компании только девочки. Девочки на другое внимание обращают.
– А я думал девочки часто так подбадривают друг друга. Вроде «О, какое у тебя сегодня платье крутое» или «О, какая прическа!»
– Прическа? Я с распущенными волосами только дома хожу, – поразмыслив, она добавила: – Ладно, еще в школе иногда появляюсь. А так у меня всегда гулька на голове. Я как в зеркало посмотрю на себя, самой страшно становится. Но с гулькой играть легче. Ничего не мешает. В общем, я бы тебе тут рассказала о наших буднях, что мы носим и какие у нас прически, только ты потом ни с одной волейболисткой дружить не захочешь. Сбежишь тут же.
– А вот и не сбегу.
– Сбежишь. Если все тайны узнаешь.
– А какие у вас тайны?
– Ну… – она промедлила. – Одну ты уже знаешь. Мальчиков у нас нет. Где бы игры не проводились, волейбольные команды по отдельности возят. Поэтому комплименты друг другу мы обычно делаем такие: «Эй, у тебя что, руки кривые!? Ты что, по мячу попасть не можешь?!» Или «Во, длинная какая шпала пошла, все люстры посбивала!» Или «Смотри, какие у нее кроссовки крутые сорок пятого размера!» Но это еще не оскорбительные. Это, скорее, профессиональные. Мы от них смеемся. У нас есть две девочки, они не только ростом за метр девяносто, а еще и с носами огромными и острыми, как у Буратино. Вот им совсем не легко. Им если никто комплименты не делает, то это самый лучший комплимент.
– Но у тебя-то с этим все в порядке.
– У меня? – она посмотрела на носы своих кроссовок. – Вроде нормально. Хотя, если бы у меня размер обуви был чуть поменьше, было бы еще лучше.
– Размер ноги должен соответствовать росту, – сказал я и стал с ней плечом к плечу. – Видишь. Я выше тебя на полголовы. У меня и размер кроссовок сорок два. А у тебя, наверное, тридцать девять или сорок, не больше.
– Тридцать девять, – поправила она. – Да я не обращаю внимания. Я ж себе пальцы не отрежу.
Тут я засмеялся, а она печально вздохнула.
– Хорошо, что я хотя бы не толстая. С этим я бы точно не смирилась. А с размером обуви – пустяки.
– С чего ты взяла, что в тебе вообще есть что-то ненормальное? Ты выглядишь замечательно. Скромно и со вкусом одета. Без излишеств накрашена. Что тебе может в себе не нравиться? На таких девчонок в моей академии уже давно бы развязали охоту!
– Конечно, – смущенно отозвалась она. – Если только отстреливать нас будут. Из ружья. Чтоб популяцию уменьшить.
Я снова засмеялся.
– А у вас много девушек-волейболисток? – спросила она.
– Хватает.
– И какие они?
– Красивые, стройные и очень популярные.
Она провела по волосам.
– Очень приятно, когда ты кому-то нравишься. Мальчикам, как я понимаю, все равно. Но для девочек все по-другому.
Я не стал разделять ее мнение. Она была не права. В тот момент я почувствовал, что Люда хочет сказать нечто более важное, чем то, что уже сказала. И она почти было заикнулась, но потом спросила другое:
– У тебя, наверное, много подружек там, да?
– Где?
– Ну… среди тех волейболисток.
– Ни одной.
– Почему? Ты же сказал, что они все такие красивые.
– Да, они почти все красивые. И в тех, кто некрасивые, тоже есть что-то цепляющее. Но я ни с одной из них лично не знаком.
– Почему?
– Не довелось, – я не стал вдаваться в подробности. Их было слишком много.
Люда на какое-то время притихла. Возникла пауза, нарушенная водителем автобуса. Мужчина прокричал пассажирам возвращаться на свои места в салоне. Он торопился. До Краснодара оставалось около тридцати километров, но я знал, в какой бы спешке не действовали люди, из-за пробки, скапливающейся перед мостом в город, на автовокзал мы все равно приедем с опозданием. Так и случилось. Мы прибыли не по расписанию, и, как только автобус заехал на посадочную площадку, его тут же обступила толпа новых пассажиров. В Краснодаре мне предстояло пересесть с одного автобуса на другой и следовать уже по маршруту на север. И так еще двести километров до крохотного поселка, название которого не знал ни один из моих студенческих друзей в Новороссийске. Не узнала о нем и Люда. Когда мы прощались, она вскользь спросила, куда я еду. Я обмолвился, что еду домой к матери. Очень хочу с ней встретиться и планирую пробыть у нее до конца августа. Потом меня ждал третий курс, переезд в новое общежитие и совсем другие обязанности. Никого, кроме меня самого, они не интересовали.
Но кое-что Люда все-таки спросила:
– Мы еще увидимся… когда-нибудь?
На автовокзале ее встречали родители и поговорить нам уже не дали. Я, немного смущенный и озадаченный, кивнул. Тогда я еще не знал, что девушки быстро забывают случайных парней. Они думают о них ровно столько, сколько нужно, чтобы встретить другого парня, а потом не вспоминают вовсе. Вряд ли из их памяти начисто стирается твое лицо, но как дела у тебя уже точно никто не спросит и поздравительную открытку в день рождения тоже никто не пришлет. Таковы девушки в юном возрасте – прекрасные, свободные и легкомысленные. В том возрасте мир кружится вокруг них, но из-за бешеной скорости едва ли они это замечают.
Что значимого я мог внести в расцветающую жизнь шестнадцатилетней школьницы? Чем запомниться и чем заинтересовать? Ответы на эти вопросы не придут мне в голову и спустя несколько лет, когда я все же решусь ее отыскать. До того момента в моей жизни минует немало событий, о коих стоит упомянуть, но главного я не забуду. Между нами действительно что-то вспыхнуло. Оно загорелось далеко-далеко от того, что мы называем чувством, и если Люда, несмотря на свою девичью впечатлительность, сумела это потушить, то я, в силу своей мальчишеской неопытности, так и остался с огнем внутри. Он то угасал, то вспыхивал в зависимости от ветра, дувшего на меня в период с 2008 по 2013 годы, но он никогда не затухал полностью.
По дороге домой я думал, стоит ли рассказывать историю маме. Мне очень хотелось с кем-то поделиться, но, проехав двести километров, я настолько переутомился, что никому ничего рассказывать не стал. А через несколько дней я вдруг понял, что ни на какую волейбольную игру тоже не поеду. Быстрое знакомство – оно такое. Сначала ты думаешь о нем каждую минуту, потом оно становится от тебя дальше и дальше. В конечном итоге ты понимаешь, что оно вообще ничего не значит. И даже черты лиц новых знакомых стираются, точно их смывает дождем. Остается только грусть от того, как приятно это было, и как хочется, чтобы это случилось вновь.
Прошел день, прошел другой. Незаметно пролетел август.
Глава 2
Фотографии
Место, где я жил первые два года обучения в морской академии и где нас учили подчиняться руководству и воздерживаться от всех видов развлечений, имело статус казармы. Официально оно называлось «ЭКИПАЖ». Первое время для меня эта формулировка тоже казалась не логичной, потому что под именованием экипажа я привык понимать группу людей, работающей на каком-либо виде транспорта. Здесь же экипажем называлось здание. Все равно, что общежитие, семинария или пансион, только со своими порядками, законами и образом жизни.
Всего на территории академии экипажей было два. Один для первых и вторых курсов. Другой для третьих, четвертых и пятых. Самых строгих командиров отряжали на воспитание первокурсников. Второй курс от первого почти ничем не отличался, кроме разве что предметов в учебном курсе и более щадящем отношении командиров к курсантам. Наверное, с того времени и начались наши вылазки в запретное. На первом курсе нам вообще ничего не позволяли и контролировали каждый шаг, на втором все чаще закрывали глаза, и мы, как спущенные с поводка собаки, бежали по двору. Год от года жизнь менялась в сторону свободы, но далеко не каждого из нас эта свобода учила чему-то хорошему. Чаще получалось наоборот, и, глядя в далекое будущее, я не всегда видел его безоблачным и светлым.
В академии я научился многим полезным вещам, таким, как ходить на разборки, которые затевали самоуверенные ребята совершенно из ничего. Как стоять в нарядах с целью сохранить имущество роты от врага, а по факту наблюдать за тем, как это имущество уничтожает ее же личный состав. Как сбрасывать мусор с балкона, и с него же справлять малую нужду. Пить, курить, делать гадости соседям, держать язык за зубами, если случайно узнал то, что знать не должен. Было много интересного, и, как выяснилось потом, все эти деяния влияли на нашу жизнь скорее с отрицательной стороны, нежели с положительной. Проще говоря, чем свободнее мы становились, тем глупее.
Со второго курса за неуспеваемость и многочисленные нарушения устава академии отчислили двадцать человек. Часть из них – абсолютно оправданно. Другая часть, возможно, заслуживала менее строгого наказания, но получилось, как получилось. В начале весны две тысячи восьмого года подошла и моя очередь. До этого самым строгим наказанием для меня являлось взыскание от командира роты за то, что я проспал свою смену в наряде. Мне всыпали по полной, никакие извинения не помогли, и вместо одного наряда я отстоял еще три. После того случая я никогда не сачковал на своей вахте, честно хранил порядок ротного помещения и сдавал наряд, как и подобает послушным курсантам. Но однажды в пятницу пошел дождь…
Не будь дождя, возможно, не случилось бы ничего. Но дождь пошел, и весь город погрузился в странное состояние – затишье перед бурей.
Я помню, что в ту ночь долго не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, пытаясь согреться под одеялом. Уснуть не помогали даже мысли о завершившейся экзаменационной сессии. Я ее не провалил, но и удачно тоже не сдал. Теперь каждый понедельник я ходил на дополнительные занятия, чтобы завершить третий семестр. А для этого приходилось отпрашиваться у командира роты, читать учебник и запоминать кучу бесполезного материала. Из хорошего в ту ночь я помню только то, что меня не поставили в наряд, и с субботы на воскресенье я мог спать столько, сколько влезет. Однако и эти планы сорвались, потому что ровно в час ночи, когда затяжной дождь усилился и за окном воцарился ритмичный барабанный стук, по коридору понесся гул радостных голосов и, что было еще хуже, цоканье женских каблуков.
Все курсанты жили в комнатах по четверо. Места отводилось ничтожно мало, но хватало, чтобы уместить две двухъярусные кровати и письменный стол. Когда в комнате набивалось более четырех человек, стоять уже было негде, и до поры до времени я гордился тем, что со мной жили ребята, имеющие городскую прописку. После пяти часов вечера они разбредались по домам, и в комнате оставался я один. На выходных появлялись только те, кто нес службу в наряде. Жили мы прекрасно, без каких-либо разногласий. Упрекнуть местных ребят стоит лишь в одном – никто из них не считал экипаж своим домом, и каждый день мне приходилось наводить порядок, выносить мусор и мыть полы. В общем, я убирался за всеми, зато жил с определенным комфортом. Местных такой статус устраивал. Дружба у нас была не разлей вода, хотя по факту между нами была скорее не дружба, а дипломатические отношения. Ребята давали мне спокойно жить, а я убирался в комнате, чтобы наш командир за бардак не поставил их в наряд. В роте было по меньшей мере десятка полтора комнат, где местные жили с иногородними примерно на таких же условиях. И все было бы хорошо, если бы однажды один из этих местных не привел посреди ночи друзей и подруг и не перечеркнул нашу чистую безупречную дружбу.
Когда ключ вошел в замочную скважину, я оторвал голову от подушки и прислушался.
Дверь только распахнулась, а я уже сидел и смотрел на яркий луч света, ворвавшийся в комнату так же бесцеремонно, как и четыре пары ног, появившихся в просвете. Мой товарищ прошел на середину комнаты, скинул с себя куртку и показал друзьям, где они могут расположиться. Ни одного из них я не знал. В полутьме они казались мне уродами из какого-то фильма про апокалипсис. Один высокий, щуплый и с длинными волосами, другой маленький пухлый и короткостриженый. Оба повалились на нижнюю койку второй кровати. Минуту спустя толстый вытолкнул худощавого на пол и тому пришлось лезть наверх. Так они и уснули, не снимая ни верхней одежды, ни туфель. Уснули, будто умерли, даже не переворачиваясь: щуплый – на боку, лицом к стене, а толстый – на спине со скрещенными как у покойника на груди руками.
Мой товарищ проконтролировал, чтобы каждому из ребят было удобно. Укрыл щуплого одеялом, которое вытянул из-под толстого, после чего провел в комнату подругу. Внутри помещения они не задержались и через секунду вышли на балкон. Там они закурили, и я слышал, как они воркуют, точно голуби на чердаке, изредка посмеиваясь, а чаще целуясь и обнимаясь. Звуки расстегивающихся молний ненадолго затмили шум дождя. Было в них нечто резкое, будто кто-то кого-то догонял, но не решался приблизиться. Потом настала очередь курток. Шуршание прервалось лишь на мгновение, когда мой товарищ, видимо, решив, что дело идет в правильном направлении, и посреди ночи его уже никто не остановит, вспомнил о балконной двери. Не вставая с места, он дотянулся до ручки, прикрыл дверь, и звуки стали несколько тише. Но я все равно слышал каждый шорох, потому что нас разделяло одно тонкое балконное стекло. Сама дверь тоже плотно не закрывалась, и можно смело заметить, что парочка зря старалась что-то скрыть.
Еще минуту меня одолевала уверенность, что ничего не произойдет. До сей поры женщин я видел в ротном помещении лишь однажды, когда руководство академии устраивало день открытых дверей, давая родителям и друзьям посмотреть на то, как живут курсанты и как выглядит жилой блок изнутри. Все остальное время экипаж был закрыт для посторонних лиц, и пропускной режим контролировался сразу двумя вахтами: первая встречала на входе, вторая на каждом из пяти этажей. Как оказалось, в отсутствие командиров вседозволенность приобрела новый уровень, и то, что днем и представить было нельзя, весьма успешно осуществлялось ночью.
Я лежал с распахнутыми глазами, вслушиваясь, как совсем рядом за стеклянной балконной дверью совершается редкостное для этих стен событие. Мой товарищ вполголоса попросил подругу повернуться к нему спиной. Я отчетливо услышал, как щелкнула пряжка на ремне, расстегнулась молния, а потом с легким шорохом стянулись штаны. Мое сердце забилось быстрее, кровать стала неудобной, и я вдруг почувствовал, что сам нахожусь в крайней степени возбуждения, несмотря на то, что никакого участия в половом акте не принимал. Я всего лишь слушал, и в голове все выстраивалось само. Как они стягивают одежду, как касаются друг друга, как прижимаются, как им хорошо, в то время как со мной происходило нечто абсолютно противоположное. Я скрючился под одеялом, изнывая то ли от зависти, то ли от волнения. Невесть откуда нахлынул озноб. Я сцепил кулаки, чтобы унять дрожь, но стало только хуже. Я думал о том, что может сотворить с человеком похоть и вседозволенность, и почему-то в тот момент мне казалось, что грязь и пьянство делают нас лучше. Совершеннее. Напитываясь тем и другим, мы становились открытыми и изощренными. Из глубины души выходил мрак, и нам было легче.
В восемнадцать лет все мальчики мечтают, чтобы у них случился секс. Тот, кто посмелее, не только мечтает, но и действует, а кто более робкий, ждет своего шанса. Чуть позже я узнаю, что есть такая категория парней, кому шанс предоставляется, а они его не берут. Не пускает все та же внутренняя неуверенность, когда, чтобы дотянуться, элементарно не хватает удачи. Это мой случай. И когда тебе восемнадцать, ты воспринимаешь это совсем иначе, нежели, когда тебе тридцать пять. В восемнадцать еще кажется, что время придет, и нужно всего лишь подождать. С годами никаких перемен не происходит, и ты начинаешь понимать, что робость тебе не помощник. Робость – враг. Болезнь твоего тела, питающаяся твоей энергией и не дающая тебе право голоса. Чем больше робости, тем ярче воображение, потому что все, что ты не можешь воплотить в реальность, кипит внутри. А любая энергия, не выплеснутая на поверхность, оборачивается злостью и гневом. Нет в ней ни единого положительного элемента.
Я лежал под одеялом и мучился от ревности. Меня затрагивало то, что моему товарищу дозволено все, а дозволенное мне ограничивалось стенами, за которые я никогда не выходил. Он получал от жизни удовольствие. Он радовался. Он делал все, что хотел. А я сидел на цепи, не в силах сорваться с нее, потому как внутри меня стоял какой-то предательский ограничитель.
Та ночь, когда мой товарищ привел в экипаж подругу, послужила началом моего длинного тяжелого пути к взрослой жизни. Пути, наполненного провалами, обидами, завистью, страхом вперемешку с бессилием и прочими сопутствующими факторами, то усиливающих, то ослабевающих свое влияние в зависимости от того, как изгибался этот путь. В начале, видимо, ввиду молодого возраста, все проблемы казались мне решаемыми. Нужно было сделать из себя кого-то другого. Поиграть роль смелого, раскрепощенного юноши, чтобы поставить все на свои места.
Я не знал, что эффективнее меняет человека, злость или доброта, любовь или презрение, но, лежа под одеялом и вслушиваясь в звуки на балконе, я был готов вывернуть себя наизнанку, только бы в следующий раз на месте товарища оказаться самому. Во мне вдруг воспламенилась такая сила, что я едва не сорвался с кровати, только бы перевернуть в себе этот тяжелый камень.
Я буквально видел, как двигаются их тела. Тихонько позвякивала пряжка ремня. Чей-то бок с содроганием терся о стену. Иногда кто-то чуть слышно вздыхал, и движения замирали. Через секунду шорохи возобновлялись, и неустанные хаотичные движения снова обзаводились ритмом, от которого у меня кружилась голова. Звуки проникали в меня, точно иглы. Какой бы барьер я им не выставлял, они забирались внутрь, выворачивали меня наизнанку, гасили всякое желание замкнуться и уснуть. Я лежал, сгорая от любопытства заглянуть за тонкую преграду между балконом и комнатой, и не менее тонкую между жизнью свободных раскрепощенных людей и людей замкнутых и слабых.
Тот секс был для меня первым подобным событием в жизни, и эмоции, что я получил, сильно повлияли на мой внутренний мир. Можно пересмотреть сотни фильмов, где будут мелькать обнаженные мужчины и женщины, но ничто не сравнится с тем, как это выглядит по-настоящему. Ничто не заменит будоражащий реализм. Никакая фантазия, никакие эффекты, ничьи рассказы.
Той ночью я так и не уснул. Мой товарищ вместе с подругой вернулись в комнату, разделись и легли спать на нижнюю кровать, а я еще долго смотрел в потолок, пытаясь понять, что со мной происходит. Плохо это или хорошо? Мерзко или восхитительно?
Еще сильнее мой мир накренился, когда на следующее утро к нам в комнату зашел командир роты и на койках, где должны были спать курсанты, увидел трех посторонних личностей. Двух из них во главе с моим товарищем тут же сопроводили в канцелярию для выяснений обстоятельств, а девушка, наотрез отказавшись что-либо говорить, осталась в комнате. Имени ее я так и не узнал, зато внешность оценил с лихвой. Симпатичная дама с темными волосами и изящной фигурой. После вечерней попойки лицо ее приобрело мертвенную бледность. Пару раз мы пересеклись взглядами, и что-то во мне застонало, будто души наши соприкоснулись и невзлюбили друг друга. Чуть позже один из наших общих друзей сообщит мне, что ей было пятнадцать лет, и мой товарищ не был ее первым парнем. Оказывается, у нас в городе имелись такие девочки, которые в свои пятнадцать имели широкий сексуальный опыт и ничуть от этого не робели. Для меня это означало дикость, ошеломление и шок. Проще говоря, выстрел в голову.
Конечно, я знал, что люди способны и не на такое, но подобные вещи характерны крупным городам, где совсем другой ритм жизни, другие приличия, и вместо культуры и этикета процветает безрассудство и садизм. Новороссийск был маленьким городом, и пусть из-за торгового порта и большого количества иностранцев здесь приветствовались эскорт услуги и проституция, представить, как молоденькие школьницы «зажигают» в образе взрослых девиц, я не мог. Для меня это было слишком…
…Слишком. До той ночи.
Минул целый час, прежде чем старшина роты вернулся в комнату и предпринял еще одну попытку вытащить девушку на разговор. Получив отрицательный ответ, он повернулся ко мне и сказал, что я следующий, кого командир хочет допросить. Второй раз меня звать не пришлось. Я проследовал за старшиной в помещение, где бывал только на инструктажах перед заступлением в наряд, и провел там целых полтора часа. За то время меня успели допросить, припугнуть, задеть, в конце концов, точка была поставлена на том, что я все-таки виноват в инциденте в меньшей степени и ответственность понесу ту, что придумает командир роты. Мой же товарищ понесет наказание дисциплинарной комиссии морской академии.
В апреле 2008 года его исключили, и больше я его не видел.
В тот период у меня появился первый настоящий друг. Его звали Андрей Хмельков. Как мы с ним сдружились, сказать сложно, но в моей памяти еще хранятся дни, когда Андрей, как и я, раз за разом попадал в неприятные ситуации с соседями по комнате, из-за чего командир роты наказывал его нарядами вне очереди. Это была его фишка. По уставу академии в нарядах должны были стоять все, кроме старшин, но, как оборачивалось на практике, кто-то был на особом счету, кто-то отпрашивался, кого-то отмазывало вышестоящее руководство, и наряды, расписанные на несколько недель вперед, приходилось постоянно перекраивать. Перекраивались они за счет нас: тех, кто подчинялся, и тех, кого было легко сломить.