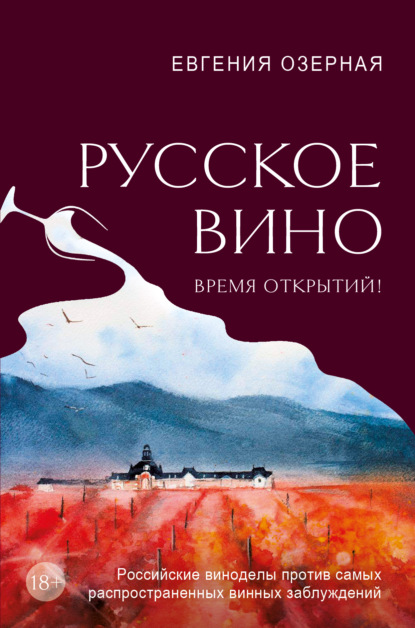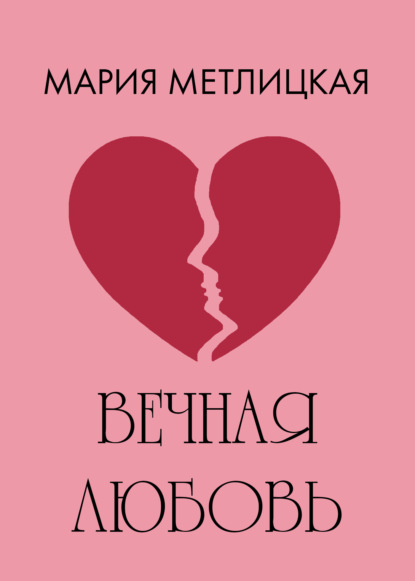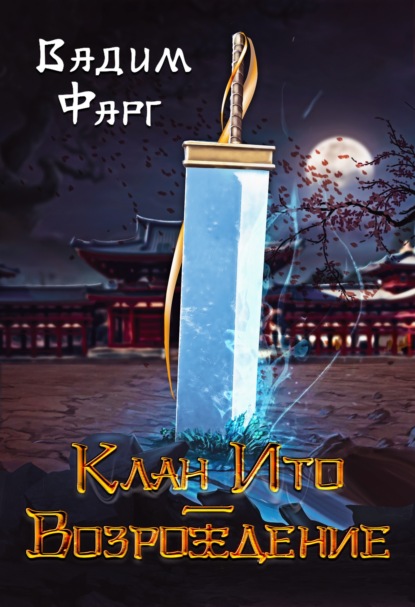Последний романтик. Банды Дзержинска

- -
- 100%
- +

Предисловие
Дайте мне эмоций! Наполните мою душу трепетом любви! Если вы не сможете этого сделать, тогда я сам зажгу пламя любви в вашем сердце!
Я заставлю ваше сердце биться в такт забытым мелодиям, вспоминать то, чего не было, тосковать по тем, кого вы никогда не знали. Я разолью в вас вино меланхолии и опьяню до головокружения – ведь только так, в этом сладком угаре, можно по-настоящему почувствовать, что значит любить…
И начну прямо сейчас – с этого мгновения, с этой строки, где буквы уже перестают быть просто чернилами, а становятся ключами к тем потаённым вратам, за которыми бьётся сердце, готовое загореться.
С уважением, искренне ваш Артур Богданов.
Любовь… Хм… А знаете ли вы, что есть любовь?
Конечно, каждый из нас когда-то чувствовал её трепетное прикосновение. Но у каждого – своя любовь, своя тайна, своя боль и своя сладость. Сколько раз я пытался отыскать в фильмах и книгах историю настоящей любви. Но, увы, их мало. Совсем мало. Разве что вспоминаются шекспировские Ромео и Джульетта, да и те скорее символ, чем правда.
Так где же отыскать настоящую историю любви? Может, она слишком обыденна, чтобы о ней писать? Или, быть может, слишком чиста, чтобы привлекать праздный взор?
Я решил проверить и потому взялся за перо. Перед вами – «Последний романтик. Банды Дзержинска». Это не сказка о страсти, пожирающей сердца, не мелодрама о несчастных влюблённых. Это правда – грубая, неидеальная, но настоящая. Та, что живёт не в книгах, а на улицах, в подворотнях, в сердцах тех, кто ещё способен любить без прикрас, без лжи и высоких слов.
Любовь приходит внезапно – как удар обухом в темноте. Не спросив, не предупредив. Ты ещё не видишь её лица, но уже узнаёшь по шелесту голоса, по тому, как воздух меняет плотность вокруг.
И первое, что ты чувствуешь – не восторг, не трепет. Страх. Глухой, животный страх, что вот сейчас – сию секунду – она развернётся и уйдёт. Уйдёт навсегда. А ты останешься стоять, как дурак, с открытым ртом. Мозг лихорадочно мечется в поисках слов, но найдёт лишь обрывки фраз, бессвязных и жалких. Сердце бьётся так, будто рвётся через рёбра. Кишки скручиваются в тугой узел. Ты пытаешься говорить – и язык, предатель, становится ватным. В голове одна мысль: Сейчас она увидит, что ты – никто. Ничтожество. Сумасшедший сбежавший с дурки.
Но это не останавливает. Наоборот – ты готов на всё ради неё, ради любви.
Броситься под колёса. Встать против толпы с голыми руками. Умереть. Потом, кто-то скажет: Он был дурак и ей это было совсем не нужно! И будут правы. Но в этот момент ты не принадлежишь себе!
Мой друг погиб в драке в одной из битв группировок, потому что его накануне бросила девушка. Он мог бы сбежать с поля боя, как сделали все остальные, и я в том числе, но та боль, которую он испытывал, не позволила ему это сделать. Он остался стоять один против целой толпы, вооружённой палками, металлическими прутьями, ножами и ещё бог знает чем. В то время я ещё не познал эту боль и понял причину произошедшего намного позже.
Ещё в детстве я впервые ощутил это – странное, звенящее чувство, будто кто-то провёл пальцем по самой грани души, оставив после дрожь и сладкое томление. Я запомнил эти мгновения и жаждал вновь их пережить. Жизнь вела меня извилистыми тропами: первая любовь, обжигающая своей чистотой, первые отказы, холодные, как осенний ветер. Но я шёл, преодолевая тени сомнений, пока однажды не обрёл то, чего так жаждал. Мы были вместе пару лет, но теперь те дни кажутся мне сном, ускользающим сквозь пальцы. Остались лишь обрывки: её смех, приглушённый полутьмой комнаты, тепло кожи под ладонью, тени на стенах, танцующие под мерный стук дождя. Всё остальное – как в густом тумане: я знаю, что там было счастье, но не могу разглядеть его черт. Лишь пустота на месте былых восторгов, будто кто-то выжег воспоминания паяльной лампой, оставив только пепел и осколки.
За эту любовь я заплатил сполна. Боль, что пришла после, была невыносима – острая, как лезвие, и глухая, как удары собственного сердца в подушку по ночам.
Маленькая девочка со взглядом волчицы…
Эти строки звучат иногда во мне, как эхо из другого мира. Они – про неё. Про меня. Про нас обоих, таких жестоких и таких хрупких, разбившихся друг о друга, как волны о скалы. И теперь, когда я пишу эти строки, я понимаю: возможно, настоящая любовь – это не свет. Это тьма, в которой мы наконец видим себя настоящих.
Давно уже угасло во мне пламя любви. Прошли годы с тех пор, как моё сердце, некогда пылкое и отзывчивое, превратилось в холодный камень. Быть может, так и лучше – жить безмятежно, без терзаний, без этой сладкой муки, что зовётся любовью? Быть может, спокойствие дороже всех восторгов и страданий?
Но где-то в глубине, под слоями равнодушия и усталости, ещё тлеет искра – слабая, едва живая. И шепчет она, что, может быть, мне ещё доведётся ощутить тот давно забытый вкус… Хотя бы на миг. Хотя бы в последний раз. А если не в этой жизни, то уж в следующей – наверняка.
Но прежде – позвольте поведать вам всё, как было. Готовы ли вы пройти этот путь со мной? Да? Тогда – вперёд.
Посвящается тем, кто любил без остатка, дрался за честь, горел и угасал в суровых 90-х. Тем, чьи сердца бились в такт с какофонией улиц, кто знал цену слова и чести.
Глава 1. Банды Дзержинска. Законы улиц
Я родился и вырос в Дзержинске – сером, дымном городе, затерянном среди лесов и промзоны. Не просто точка на карте, а крепкий промышленный узел края, где трубы заводов впивались в небо. Четыреста тысяч человек, прикованных к этим гигантам, будто каторжники. Утром серые потоки людей стекались к проходным, вечером растекались по обшарпанным дворам. Воздух густой, с привкусом химии, будто сам город медленно окисляется, как брошенный в болото гвоздь. До столицы Волго-Вятского края, Нижнего Новгорода, – рукой подать, километров двадцать.
И здесь все четыреста тысяч душ знали: жизнь – это борьба. Борьба за место, за глоток воздуха, за право быть сильнее. Особенно ярко этот закон проявился в девяностые. Страна рухнула, оставив пустоту, которую тут же заполнили те, кто не боялся крови.
Телевизоры захлестнула волна бандитской романтики – «Бригада», «Бандитский Петербург»… Но для нас, дзержинских пацанов, это была не выдумка. Это была реальность, в которой мы жили. Улицы Дзержинска стали ареной, где молодые и голодные парни мерялись силами, а слабые бесследно исчезали в подворотнях. Ветер гулял по пустырям, разнося шепот: «Кто смел – тот и съел».
Мы, выросшие среди обшарпанных подъездов и ржавых гаражей, жадно впитывали эту криминальную романтику, струившуюся с экранов. Грезились не просто деньги – власть. Власть над улицами, над людьми, над собственной нищей судьбой.
Красивые девушки в норковых шубах, машины с тонированными стёклами, рестораны, где официанты кланяются в пояс… Всё казалось таким близким. Достаточно было одного решительного шага, одного разговора по-мужски в тёмном переулке, одного нажатия курка.
А смерть? Когда ты молод, смерть – абстракция, призрачная тень за горизонтом. Сегодня ты пьёшь шампанское из хрусталя, сегодня тебя боятся, сегодня ты – царь. А завтра… Кто в молодости думает о завтра? Лучше год прожить тигром, чем всю жизнь – дворовой шавкой. Такова была эпоха. Такова была наша молодость – жёсткая, как дзержинский асфальт, и беспощадная, как зимний ветер с Волги.
В те годы город был поделён между несколькими группировками, ставшими главными игроками на этой шахматной доске:
«Кировские» – хозяева пролетарской твердыни. Их вотчина – обширный Кировский район, царство обнищавших рабочих, люмпенов и отчаянных пацанов, для которых улица стала законом. Здесь стоял градообразующий оборонный завод, чьи цеха, некогда гордость страны, теперь дышали ржавчиной и безнадёгой. «Кировские» не просто правили – они были плотью от плоти этого места. Их методы – простота и беспощадность.
В отличие от них, «СУП» – старые тени центра. Старая Правда, Урицкого, Победа – три улицы, сплетённые в тугой узел в сердце города. Здесь время текло медленнее: старые дома, узкие переулки в полумраке. Территория традиций, где уважали умение держать слово больше, чем голую силу. Но за патриархальным фасадом скрывалась железная хватка. «СУПовцы» не бросались в драку первыми, но если уж вступали – бились до конца. Их боялись за холодный расчёт и умение бить точно в цель.
Прямой противоположностью по духу были «КТР» – «Пердуны» с разрозненным фронтом. Короткая, Тарасова, Раздольная – три улицы, разбросанные по городу. Их союз казался натянутым. Прозвище «Пердуны» они получили за привычку рассыпаться при угрозе. Не славились ни храбростью, ни сплочённостью. Их сила – в умении исчезнуть, переждать бурю, вернуться, когда враги передерутся. Но даже трус имеет предел: собравшись в кулак, «КТР» бились отчаянно, пытаясь смыть позорное прозвище.
Особняком стояли «МАРК» – две стороны монеты. Малахова, Авангардный, Ромашково, Крылова. Их земли – два мира: новый микрорайон Авангардный с девятиэтажками и новенькими машинами городской элиты, и ветхие домишки с застывшим временем. «МАРК» балансировали между ними. Не такие жестокие, как «Кировские», но не позволяли унижать себя, как «КТР». Их сила – в деньгах и связях, а не в голой агрессии.
И, наконец, «Ракетчики» – маленькие, но смертоносные. Улица Ракетная – узкая, как ствол, зажатая между промзоной и свалкой. Ни богатства, ни людских ресурсов. Зато – ярость. «Ракетчики» знали, что их могут стереть в порошок, и жили по закону зверя: бей первым, бей наверняка.
Эти группировки были не сборищами пацанов, а стройными, почти военными структурами со своей четкой иерархией, законами, рангами и ритуалами. Попасть в их ряды мог любой паренёк от пятнадцати с подконтрольной территории. Но подъем по иерархии требовал не желания – крови, преданности и готовности умереть за своих.
Путь наверх начинался со дна – статуса «Огурца». Зеленый новобранец. Его обязанности суровы: дважды в неделю – обязательные «сборы» (на пустырях, в гаражах, на «коробках»), где отмечали явку и разбирали отсутствующих; регулярный взнос в «общак»; участие в «базарах» – разборках на передовой, часто с ржавой арматурой вместо оружия. Отступление от правил – пропуск, неуплата, трусость – каралось быстро и жестоко.
Следующая ступень – «Микроны». Сбросить клеймо «зелёного», доказать, что ты не расходный материал, можно было лишь испытаниями: проявить бесстрашие в схватке с превосходящим врагом; расширить влияние, приведя минимум троих новых; доказать абсолютную надежность, ставя общее выше личного. Нарушение доверия, особенно трусость или побег, каралось жестоким избиением, часто означавшим изгнание. «Микроны» имели чуть больше свободы, но до авторитета было далеко.
Значительный шаг вверх – «Малолетки». Уличные младшие командиры. Сюда – лишь по крови, доказавшие преданность в боях не раз. Освобождались от «сборов», но обязаны были быть в первых рядах в серьезном конфликте. Не платили в «общак», но получали из него помощь. Их слово имело вес: могли разнимать драки младших, вершить суд над провинившимися. Но и ответственность была серьёзней: «Малолетку»-труса или предателя ждала беспощадная расправа и изгнание.
Костяк и оперативное ядро любой группировки – «Старшие». Уже не мальчишки, но еще не «воры в законе». Парни за двадцать, часто с зоной за плечами, знавшие цену слову и крови. Именно они: вели переговоры на «стрелках», пытаясь замять конфликт до «базара»; контролировали внутренний порядок, не допуская беспричинных грабежей и бузы среди младших; распределяли средства «общака» – кому передача в зону, кому помощь после больницы. Их авторитет признавали враги. Убийство «Старшего» означало войну на уничтожение.
На вершине пирамиды власти – «Старики». Фигуры почти мифические, редко появлявшиеся на «сборах». Держали под окончательным контролем финансы «общака»: взятки ментам, помощь «сидельцам». Общались исключительно со «Старшими», через них передавая приказы и вынося окончательные вердикты. Их сила – в связях криминального мира, где слово порой значило больше пули. Решения – окончательны и обсуждению не подлежали.
Так и текла жизнь в этой параллельной реальности – от «сбора» к «сбору», от разборки к разборке. Пути расходились: одни поднимались, другие ломались и исчезали. Кто-то погибал в драках, кто-то садился надолго, кому-то везло выжить и стать «Старшим». Над всем царил непреложный закон: предательство «своих» означало изгнание. Без исключений.
Была в тех годах своя, жестокая справедливость: большинство жило одинаково бедно. Деньги – лишь у бандитов да спекулянтов, да и те жили с оглядкой, зная: сегодня в шоколаде, завтра – в земле. Мир мерился другими ценностями: Отвага – не струсить против десятка. Мужество – не сдать своих, даже под пыткой. Уважение – не купить, не выпросить, только заслужить.
И девчонки любили не за кошелёк, а за характер. За то, как парень держится в драке, как смотрит в глаза, как говорит – жёстко, без лишних слов.
Время было такое: любое утро могло стать последним. Могли посадить, могли убить в драке. И от этого чувства горели ярче. Не было зависти – у всех было одинаково: одна пара джинсов на три года, кроссовки, переклеенные «Моментом», бутылка «Рояля» на всех – и то праздник.
Вопреки мнению, дзержинские группировки не были чисто криминальными образованиями. Среди членов – отчаянные парни из рабочих кварталов, где деньги считали по копейкам. Но нередко к группировке примыкали и те, кто рос в достатке, чьи родители были инженерами на заводах. Однако социальные границы стирались во дворе. Здесь главным было не богатство, а умение постоять за себя и «своих». Группировка же давала защиту. Чем больше людей в составе – тем крепче репутация. Одиночек – презирали. Их клеймили «Быками» – позорное имя труса, неспособного жить по уличным законам. До пятнадцати нейтралитет прощался, потом наступал выбор: либо ты с «улицей», либо против неё.
Выбор был двояким.
Первый путь – отказ. Жизнь «Быка» безопаснее, но унизительнее. Максимум – отберут деньги, дадут подзатыльник, обзовут. Слухи о жестоких унижениях строптивых ходили, но лично я такого не видел. Зато видел, как над ними смеялись, толкали. Они оставались живы, но теряли уважение навсегда.
Второй путь – вступление. Это не просто гулять с пацанами, это принять их законы. Держать слово – и подтверждать его кулаками. Отвечать не только за себя, но и за улицу. Если бьют «твоего» – обязан мстить. Так и начинались «базары» – уличные войны «стенка» на «стенку».
Итак, выбор был прост: «Бык» – трус, но живой. Или «свой» – крутой, но с риском оказаться в реанимации или в гробу.
А что выбрали бы вы?
Глава 2. Первая любовь
Первая любовь пришла ко мне лишь в девятом классе. Шёл 1995 год, суровая эпоха, когда улицы городов жили по своим законам, а подростковая жестокость порой граничила с уголовщиной. Мне уже исполнилось тринадцать, и я, как и все мальчишки моего возраста, метался между романтическими мечтами и суровой правдой жизни.
Девочка была невероятно красивой – высокая, стройная, с вьющимися каштановыми волосами до плеч и большими тёмными глазами, в которых, казалось, отражалось всё небо. Машу называли «кожа да кости», но это была та самая хрупкость, которая завораживала: тонкие запястья, длинные пальцы, будто созданные для музыки или поэзии, лебединая шея, делавшая её осанку горделивой. Она носила простую одежду – джинсы, свитера, ветровки, – но выглядела в них королевой. Да, именно так – королевой нашей одиннадцатой школы. Училась она в 9 «В». И всё же я так и не решился сказать ей о своих чувствах.
Причина была проста и жестока: Маша встречалась только со старшеклассниками – нагловатыми парнями из десятых и одиннадцатых классов, уже успевшими зарекомендовать себя в местных группировках. Они курили в подворотнях, носили кожаные куртки, разбирались в мотоциклах и знали, как поставить на место любого, кто посмеет перейти им дорогу. А я? Я был никем – тихим, не умеющим драться, не вхожим ни в одну из уличных банд.
Я мог лишь наблюдать за ней издалека. Видел, как старшеклассники на переменах обступали её, перешёптывались, заигрывали, а она смеялась в ответ, бросая на них взгляды, от которых у меня сжималось сердце. Что я мог ей предложить? Романтику? Стихи? Чистую любовь? В нашем мире это ничего не значило. Даже если бы я осмелился подойти, если бы она, вопреки всему, согласилась бы со мной встречаться – что дальше? Через день-два ко мне подошли бы парни из «МАРК» – местной группировки, державшей нашу школу под своим влиянием. Они бы непременно объяснили мне, что так делать не стоит. Объяснили бы кулаками. А Маше намекнули бы, что с «Быками» не связываются.
«Бык» – так презрительно называли тех, кто не состоял ни в одной банде. Быть «Быком» означало быть беззащитным. Правда жизни была проста: один против всех – это в кино герой побеждает, а в наших дворах девяностых – тебя просто затопчут.
Девчонки тогда, конечно, не могли себе позволить встречаться с кем попало. Ведь если парень не мог за себя постоять – значит, не мог защитить и её. А защищать приходилось постоянно: от приставаний, от намёков, от последствий уличных разборок. Помнится, даже если ты выиграешь один на один – завтра к тебе придут трое. И тогда уж не до любви.
Сила в те годы решала всё. Умение унизить слабого возвышало в глазах других. Подростковая жестокость стала нормой, почти развлечением. Парни из банд чувствовали полную безнаказанность – милиция если и появлялась, то лишь для галочки. По всей стране бушевал хаос, а на наших улицах царили свои, железные порядки.
Так моя первая любовь и осталась несбыточной. Я мог лишь мечтать, смотреть на неё издалека и хранить свои чувства где-то глубоко внутри. Лихие девяностые… Время, когда даже самое чистое чувство могло быть смертельно опасным.
Глава 3. Прощай, школа!
Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею.
Как они быстро летят! Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда школьные годы!
Евгений Долматовский, «Школьные годы»
Эти строчки звучали тогда горькой иронией. Лето 1995 года дышало на город тяжёлым воздухом, пропитанным запахом асфальта и тополиным пухом. В августе мне должно было исполниться четырнадцать, и сама жизнь, казалось, замерла перед выбором: остаться в школе, тянуть лямку до одиннадцатого класса, потом – институт, о котором я даже не мечтал? Или пойти в училище, получить профессию и начать зарабатывать?
Этот выбор усугублялся семейной ситуацией. Родители к тому времени окончательно разошлись. Наша просторная трёхкомнатная квартира с высокими потолками растворилась в цепочке обменов, оставив после себя лишь убогую «двушку» да крохотную «однушку». Отцу досталась лучшая доля – та самая двухкомнатная квартира на окраине и новенькие «Жигули-семёрка», матери – дом в деревне и малогабаритная «однушка».
Мысль об отце неизбежно возвращала меня в прошлое. Отец всегда был необычным человеком – стремился к недоступным знаниям, желал быть лучше других, умнее, выше. Много читал, занимался саморазвитием, быстро осваивал языки, неплохо играл на гитаре. С помощью книг и ума мог разобраться с любым вопросом. В восьмидесятые за неординарные способности его отправили в командировку в Сирию. Тогда мы поехали всей семьёй и жили там около трёх лет.
О, Сирия… Прекрасный край! Сколько воспоминаний: архитектура, живописные места, животный мир! Одни вараны и богомолы чего стоили – словно существа с другой планеты. Часто мы ездили на экскурсии к памятникам, встречая на пути огромные поля красных маков, взбирались в горы к водопадам. Водопады Аль-Сайдаята низвергались с чёрных скал, будто небо прорвалось. Вода, взбитая в белую пену, ревела, вырываясь из каменных тисков. Я стоял, подняв лицо к ледяным брызгам, и кричал что-то, но голос тонул в грохоте. Это было безумием!
А розы… Белизна их бутонов была не холодной, как снег, а тёплой – словно слоновая кость. Лепестки, тонкие и полупрозрачные у краёв, к центру сгущались в плотную спираль, напоминая старинные свитки. Аромат – нежный, почти медитативный, без сладости дамасских роз, но с холодноватой чистотой и горьковатой изысканностью. Первой волной накатывала терпкость белого чая с лимонной остротой, потом – минеральная прохлада камня, горечь побегов, оттенки белой камеди и цветочных ферментов. Вместо сладости – ландышевая прозрачность. Этот запах можно было назвать «застывшим шёпотом». Те розы пахли вечностью, а вечность, как известно, не умещается в бутылку духов. Она живёт только в памяти.
Но эта красота и гармония остались в прошлом. После возвращения из Сирии отец начал пить. Стал высокомерным. У родителей начались скандалы, и мама подала на развод. После развода он запил окончательно. Деградировал на глазах, увлёкся эзотерикой: разгонял тучи руками, «лечил» людей аурой, считал себя избранным. Деньги на моё содержание не давал – откуда им было взяться? С работы его выгоняли за пьянство и заносчивость.
Тогда, я изредка навещал его – не из жалости, а из долга. Квартира была завалена пустыми бутылками, пепельницы переполнены. На столе – книги от оккультизма до эзотерики. А мама крутилась между работой, огородом и квартирными обменами – в те годы это был единственный способ не провалиться в нищету окончательно.
А потом в нашей жизни появился Андрей. Он вошёл неожиданно – как будто из тех самых боевиков, что крутили по вечерам в полупустых видеосалонах. Высокий, с широкими плечами дальнобойщика и спокойными, привыкшими всматриваться в дорожную даль глазами. Ему было тридцать шесть, но в нём чувствовалась какая-то вечная мужская сила – та, что даётся жизнью: кулачными разборками, армейской службой, ночными рейсами через пол-Европы.
Андрей обожал Шварценеггера. В его смехе, в том, как он поправлял заломленную кепку, даже в том, как закуривал, стоя у подъезда, было что-то от героев «Коммандос» или «Хищника». Но в отличие от экранных персонажей, он не стрелял из пулемётов – он просто жил так, будто вокруг всегда были джунгли, где выживает сильнейший.
– Не бойся никого, – часто говорил он мне. – Все они фраера, пока толпой ходят. А когда прижмёшь одного в тёмном углу – и сразу щенком заскулит.
Его биография читалась как гимн лихому времени: боксёрский зал, мотокроссы по грязным просёлкам, армия, где он, по его словам, учился жизни. Друзья у него были разные – и те, кто ходил по лезвию ножа, и те, кто этот нож отбирал. Город знал его, уважал, а кое-кто и побаивался.
Он возил грузы в Испанию. В те годы это звучало как космическая экспедиция. Его «Опель», один из первых иномарок в городе, который он привез в кузове своей фуры, казался пришельцем из будущего на фоне старых «Жигулей» и потрёпанных «Волг».
Но самое удивительное было в другом. За всей этой брутальностью скрывался удивительно светлый человек. После долгих рейсов он валился на диван, включал «Тома и Джерри» и хохотал, как мальчишка, когда кот грохался со шкафа. В компаниях он был душой – его байки про пограничников, про пьяных финнов, про таможенников, которых он водил за нос, слушали, затаив дыхание. И в тот момент, когда он, смеясь, рассказывал очередную историю, я понимал: этот человек стал для нас чем-то большим, чем просто мамин ухажер. Он стал нашей крепостью. Его присутствие наполняло меня уверенностью – с ним я чувствовал себя под защитой. Наши шутливые потасовки во дворе постепенно превращались в настоящие уроки выживания. Его огромные ладони мягко поправляли мою стойку, а низкий голос говорил: – Ноги шире, локти прижал, смотри в глаза, а не в пол.
Его мощные руки, обхватывавшие меня в дружеских объятиях, могли в любой момент превратиться в грозное оружие, и я жадно впитывал каждое движение, каждый приём. «Попробуй вырваться», – говорил он, и я извивался, как угорь, пока не находил слабое место в его захвате. Однажды, вытирая пот со лба после очередной тренировки, Андрей бросил: – Тебе бы боксом заняться.
Послушав его совет, я записался в ближайшую боксёрскую секцию в спортзале школы №4, где пахло потом, кожей боксерских перчаток и надеждой. Тренер на первом же занятии поставил меня в спарринг против рыжего верзилы с руками как молоты. Тот обращался со мной, как с тренировочной грушей, его кулаки оставляли синяки на моих боках, а мои редкие ответные удары растворялись в воздухе. Через несколько таких тренировок я понял – здесь меня не научат драться. Быть боксёрской грушей и позволять вышибать себе мозги мне вовсе не хотелось. Я решил тренироваться дома. Андрей не стал ругать меня, только молча привёз из гаража ржавые гантели и самодельную штангу.