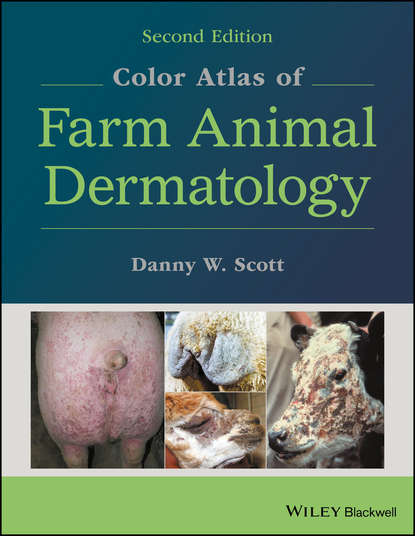- -
- 100%
- +
Дедушка-тренер внимательно и, кажется, немного испуганно оглядел нас.
– Так. Это понятно. А с кем вы играть-то будете?
Мы переглянулись. Видимо, Влад решил, что сможет выразить мысль более чётко – хотя дикцией он владел хуже, чем Андрей – и повторил всё то же самое с расстановкой:
– Мы из сборной команды по баскетболу из 12-й школы. Хотим договориться с вами о товарищеском матче.
Коричневый в тонкую полосочку тренер внимательно смотрел на Влада.
– Так. Это понятно. Вы ребята из 12-й школы?
– Да.
– Старшие классы?
– Да.
– Команда по баскетболу?
– Да.
– А с кем вы играть-то будете?
Андрюха Венчук беззвучно согнулся пополам. Влад, широко улыбаясь, продолжил беседу:
– У вас же в школе есть баскетбольная команда?
– Есть.
– Ну вот. Хотели договориться.
– Это понятно. А с кем вы играть-то будете?
Влад, видимо, «пошёл на принцип» и продолжил беседу. Но Андрей не мог. Умирая от беззвучного смеха он отбрёл в сторонку, и все мы, кроме Влада, отбрели вместе с ним. Влад продержался ещё минуты три и, попрощавшись с удивительным человеком, присоединился к нам. Мы шли обратно по асфальтовой дорожке между 44-м и 42-м детскими садиками и хохотали. Периодически кто-то из нас слегка толкал другого и, делаясь серьёзным, спрашивал: «А с кем вы играть-то будете?». И снова – полуистерический смех всей компании.
В конце концов, об игре договорился сам Шурик. Мы в тот раз проиграли, и крупно, с разрывом очков в двадцать. Матч вышел тяжёлый, вязкий. Там было четыре парня размером с Андрея и один маленький, меткий. Четверо нас прессовали, а маленький забивал, почти не промахиваясь. Именно тогда я забросил из-за 6-ти метровой линии. В нашей команде тогда играл восьмиклассник по фамилии, кажется, Бышев. Он был двухметровый, молчаливый, квадратноголовый и амимичный. В фирменной алой майке. Казалось, его родили специально, чтобы он стал баскетболистом – после 8-го он ушёл в спортивную школу, по-моему. Так вот, этот Бышев, когда я вёл мяч, встал аккурат на 6-метровой линии, расставил в стороны руки с размахом тоже метра в два, оттесняя защитников, и крикнул мне: «Бросай!» И я бросил. И попал. Было гордо. Хотя на той игре я принёс от силы ещё только очка четыре. Зато Андрей Венчук учудил: ему дали далёкий пас под кольцо, а он применил верхний принимающий воллейбольный приём в две руки, и – мяч в кольце! – Таков был Венчук: он всё старался перевести в смех. Это подняло нам настроение, но не спасло от крупного проигрыша.
Мы шли с игры домой. Было смурно́. Осень. Пустынные, полутёмные перестроечные дефицитные улицы. Народу на улицах – только мы; остальные – одиночные, закутанные, случайные, мрачные. После победы легче ощущать мир, дружбу и единство. А тут…
Вяло говорили об игре.
– Всё-таки мы старались, выложились, – сказал Венчук.
Мы лениво поугукали.
– А вон Игорь даже 3 очка забил, – напомнил Васин.
Народ поддакнул.
– А Андрюха-то, Андрюха! – вдруг захихикал Влад.
Воззрились на него. Влад спародировал тот Венчуковский волейбольный заброс. Все засмеялись. Смеялись минуты три. Потом перестроечная осень надавила, и мы, выходя на улицу Афанасьева, снова приугрюмились. Тем для разговоров у нас было не много.
3.3. Дина
Хотя этот персонаж имеет крайне отдалённое отношение к моей походной жизни (как, собственно, и многие другие, здесь уже названные) проскользнуть мимо него повествованию не удастся при всём старании.
Думаю, именно 5-го сентября, в понедельник, мы постояли около моего дома с Лёней Бережнёвым (надо же, я его в этой книге уже-было похоронил, а он знай воскресает; и думаю – и ещё воскреснет).
– А ты чего в наш класс не пошёл? – спросил Лёня.
– Да я на перекличку не явился, меня и сунули в «А» без спросу.
– Ясно. А у нас 3 новые девчонки.
– С чего бы они к вам повалили?
– А из других школ. Мы же «педагогический» класс.
Я кивнул кверху подбородком.
– Ну и как девчонки?
– Нормальные, – спокойно сказал Лёня (почему-то, когда задаются такие вопросы и даются такие ответы, собеседники умудряются владеть полнейшим взаимопониманием, без всяких оговорок). – У одной уже дочь годовалая…
– Ничего себе!..
– Ага. Мама-девятиклассница.
– Странно. Ну что ж, бывает, видимо. Другие две, надеюсь, ещё не мамы?
– Не-а, – усмехнулся серьёзный Лёня. – Они обе из 3-й школы. Подруги. У одной фамилия Пьянкова, у другой – Ежова. Мы их прозвали втихаря «Пьяный ёжик»* [* – для непосвящённых, «Пьяный ёжик» – это одна из русскоязычных адаптаций композиции «One Way Ticket» диско-группы «Eruption», что-то о том, как «пьяный ёжик влез на провода», и там его по-матерному ударило током].
– Весело там у вас, – кинул я вбок брови эмпатично.
– Да, Игорь. Так что зря ты не в нашем классе. Вот, планируем уже, в какой день дискотеку устроить…
На дискотеку меня Лёня не позвал. Может быть, потому что не имел полномочий.
На самом деле, я не считал, что в «Б»-классе «весело»: вот почему «нормальным» девчонкам необходимо присваивать такие похабные кликухи? – всё это попахивало пережитками младших и средних «хулиганских» классов, тем, от чего я отчаянно надеялся уйти и, кажется, уже начинал видеть, как сбывается эта надежда (не в «Б», а в «А» классе). К слову, у нас девчонки были «так себе». Какие-то чрезмерно тихие и преимущественно чопорные. Как будто они в школу пришли учиться, и до всяких там венчуково-полозовских веселящих «гэшных» инфантильных энергий им дела нет. И общение с женским полом в нашем классе «не срасталось». Но нам, ребятам, это отнюдь не мешало веселиться, возможно, даже наоборот. Красивых девочек было только две. Лариса Сёмгина, в которую, как уже дважды упоминалось, вцепился мёртвой хваткой Макс Мальков, и Света Безъязыкова (надо же, ведь не так часто в русских фамилиях бывает твёрдый знак). Света знала себе цену. Под стать другим девчонкам нашего класса, она как задрала свой милый носик с 1-го сентября, так два года и не опускала его ни на миллиметр. Конечно, она была очень и очень миловидна, и даже красива. Но голос ровный, не особенно выразительный, с надменцой.
3.3.1. То, что в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо» все, кроме мудрого Министра-администратора, называли «любовью», или анамнезис морби
До той поры эта штука два с половиной раза робко касалась меня своим мозжечково-атаксичным, непредсказуемым фредди-крюгеровым пальцем. Вкратце.
Эпизод 1. Между 6-м и 7-м классами в летние каникулы я был отправлен в некий пионерский лагерь. Там с 21.00 до 22.30 (времени кефира) едва ли не еженощно проходили дискотеки. Крутили Дассена, «Снег кружи́тся, летает и тает» и странную песню «Квадратный человек с квадратной головой». Популярны были именно медляки. Как будто специально, чтобы пионеры приглашали на танец пионерок и, вместо того, чтобы думать о карьере строителя коммунизма со всем, что к этому прилежит, позволяли соскальзывать своим мыслям к зыбким плотским удовольствиям и становились незрелыми и неблагонадёжными с точки зрения морального кодекса того же Строителя. Все приглашали девочек. Следовало приглашать и мне, – как минимум, дабы не прослыть и вовсе никчёмным. Под этим ли давлением или сам по себе, но я немного заскучал по одной не особо взрачной, но, кажется, довольно миловидной девочке. Имени, конечно, не помню. Однажды она дала себя пригласить, и мы молча танцевали. Дальнейшие мои попытки были решительно отвергнуты. По слухам, она имела иной предмет… (Иной предмет, хм.) Для чего там у пошлых классиков бывают «предметы»? Для «воздыхания»? Кажется, так. Всё это прошло мимолётно и почти безболезненно.
Эпизод 1.5. То было апрельской порой в 8-м классе. Мы ехали с мамой в троллейбусе по улице Узбекистанской, – возвращались из своего (вынесенного, как положено, ровно на противоположную месту постоянного проживания окраину города) социалистического садика-огородика. Я сидел у окна и смотрел в окно. На остановке «7-я гор. больница» стояли в ожидании, видимо, какого-то другого троллейбуса две – три девчонки. Я стал гипнотизировать одну из них, белокурую. Она очень быстро это уловила и посмотрела на меня. Я не отводил пронизывающего взгляда. Девочка без малейшей тени недоумения, смущения, неудовольствия, раздражения или улыбки наиплавнейше влилась в этот вызов. Она смотрела на меня серьёзно, дерзко. Её глаза говорили твёрдо, чеканно: «Ага. Вот такой ты, да? Да нет, ты слабак, я уверена! Ничего не стоит этот твой псевдоромантический гипноз. Вот смотри, как ты сейчас соскочишь!..» Я продержался секунд 15. Белобрысая, жёсткая, энергичная, исполненная невероятной силы девчонка продолжала с диким вызовом смотреть на меня. Меня прошиб пот. Я отвернулся и сделал вид, что вслух смеюсь. Бросить беглый взгляд обратно на ту девчонку я не осмелился бы и под пытками.
– Чего смеёшься? – спросила мама.
– Да так, – всверлил я одним только языком куда-то себе в живот.
Троллейбус тронулся, но наблюдательная мама успела оценить обстановку. Хмыкнула.
– Что? Пробуешь, клюют ли? – слегка толкнула меня локтем и подхихикнула.
Я подумал: надо же, мама подобрала вот такое вот название этой ситуации! Ну что ж, может быть, так и есть. Может быть, я созрел, и есть во мне эта сила «того-са́мого»?.. Не зря же эта девчонка так вмагнитилась в меня глазами своими фантастическими под белым-белым тугим круглым лбом! Скорее всего, – обманывал я себя, – она сказала своим подругам, как только мой троллейбус отчалил: «Я только что одного слабака в гляделки сделала!» Но суровый голос жизни нашёптывал нечто страшное, сюрреалистичное и неподъёмное: нет, ничего она им не сказала, а если и сказала, то только так, чтобы отбрехаться. Вы прожили целую вот эту, что называется, «любовь» в этом 15-минутном взгляде. Плохо то, что ты не выдержал и отвернулся, подлец!
Эпизод 2.5. Ну, хорошо. Выходит, я созрел. И что с этим делать? Как раз к концу 8-го я вдруг обнаружил, что в нашем классе есть Света Шамова, тоже с миловидным лицом, к чему добавилось и то, что она вдруг гармонично и изящно огруди́лась, белокуро окудрявилась и фигурно изогнулась. Сама она была тихо-среднеклассовая, не отличница, но при этом и не сверхпростушка. Всё это вызвало во мне к ней чувство нигде не высокое, а жадно-похотливо-надменное. И я даже, чтобы обозначить это своё к ней чувство, послал ей странную открытку грубо-иронично-скабрёзного содержания. На другой день я увидел, как она, брезгливо глядя на меня, что-то коротко шепнула своей соседке по парте.
Тут же я обнаружил и то, что я не один приковался к ней этой похотью. Однажды, проходя мимо пустой майской рекреации, я увидел, как Женя Линьков пристаёт к Свете, называя её «козочка», а она откидывает возмущённо его руки, но убежать не пытается и даже как бы невольно подсмеивается на высоте своих протестующих возгласов. «И всё-таки она простушка», – подумалось мне с каким-то мстительным чувством, направленным на себя, на неё и на Линькова. И ещё я подумал: «Да уж, это тебе не твои открыточки. У некоторых получается действовать прямолинейнее».
Тот Линьков, кстати, был одним из трёх наших хулиганов. Худой, удлинённый и ехидный, как волк; он не был безобразен, как тот же Дропыч, а строил из себя утончённого хулигана. Казалось, у него железные нервы. Я однажды наблюдал сцену, как наша классная, англичанка, что-то сказала при нём о нём его интеллигентно одетой, высокой, строгой матери. Услышав сказанное учительницей, мама Жени влепила ему тяжёлую, на всю тяжесть целой ладони пощёчину; голову Жени даже уметнуло в сторону. Я смотрел. Вся троица стояла у дверей класса в рекреации. Женя не сказал ни слова. И не изменился в лице; в нём была только молчащая жёсткость. Он повернулся и твёрдо пошагал по рекреации прочь в сторону коридора.
Однажды я ехал на велосипеде, а Линьков с каким-то ещё хулиганом из другой школы на своих велосипедах «затёрли» меня. Тот, другой, хотел отнять у меня деньги, но Женя сказал: «Ладно, это Игорь Разумов из моего класса. Оставим его, он списывать даёт. Поехали дальше». Когда-то потом, лет через 6, я встретил Линькова случайно на автовокзале. Он сказал, что находится сейчас «на химии». Что до Светы Шамовой, то, наверное, после 8-го она отправилась в своё какое-нибудь «ткацкое ПТУ», и я мгновенно забыл о ней.
Вот ведь, на волне всех этих воспоминаний всплыло ещё два эпизода про мой гнусный 8-й класс на эту тему.
Эпизод 3.5. Женя Штиц, красавчик, научил меня «мацать баб». Дело оказалось нехитрое. Просто подходишь и «мацаешь». Понятно, что к каждой это не применишь, а то ведь и морально, и физически по шее можно получить. Но Женя указал мне на одну. Таню Смирнову, – как бы она не против. И я раза два это применил. По шее не получил, но меня оттолкнули с негодованием. И, благо, я отстал от этой практики.
Эпизод 4.5. Была ещё (Света?) Михайлова. Простая, неумная, полутолстая, но развесёлая двоечница. В 8-м классе было несколько маленьких дискотек, и она, видимо неровно ко мне дыша, приглашала меня на «белые» танцы. Причём для неё каждый медляк был «белым». Я танцевал, но ничего Михайловой этой не обещал, и, скорее, пользуясь её задорной глупостью, издевался над ней. Она издёвки принимала весело, как, видимо, и всё остальное в своей простой жизни.
3.3.2. Первая встреча
Да, Света Безъязыкова была красивой девчонкой. Это признал в нашей случайной приватной беседе и весельчак Саша Данилов, видимо, в определённой степени приплюснутый её красотой. Красота привлекает… Привлекает-то привлекает, а вот чувство выходит какое-то скорее эгоистично-самоутвержденческое. Мол, а я ведь, небось, тоже неплох. Она курица, а я – петух. О́на какой хвостатый! И ежели такова красавица обратит на меня внимание, то пусть же все знают, каков я петух! Какое-то такое чувство. И как-то так я смотрел на Свету Безъязыкову. Однажды, на уроке литературы я бросил взгляд на неё сбоку (мы тогда сидели на третьих партах, я – в среднем ряду, а она – у окна) и увидел, как она, что-то записывая в тетради и периодически поднимая внимательный взор на учителя, вряд ли осознавая это движение, почесала попу. Даже не попу, а вот этот изящный, гладкий переход попы в поясницу. Слева, левой рукой. Увидев это, я почти мгновенно перестал испытывать к Свете то чувство, чем бы оно ни было. Красавицы не должны чесать попу. Тем более так буднично, между делом. Им этого нельзя!..
Хотя, нет. Что-то такое оставалось. Ибо чесание попы – хоть и шокирующий эпизод, но бытовой и доступный для возможности игнорирования. Полное охлаждение произошло несколько позднее. После одной из дискотек 9-го «А», той же осенью, в поздне-вечерней темноте мы провожали некоторых девчонок до их домов. Света жила на Новосельской, в одной из пятиэтажек у леса. Когда мы подходили к её подъезду, я поравнялся со Светой и спросил:
– Так ты здесь живёшь?
– Да, я здесь живу, – просто ответила Света.
– И это твой лес? – показал я рукой.
– Да! – сказала Света с нетерпеливым ударением, – это мой лес.
Вот тогда я и остыл окончательно. Её интонация говорила примерно следующее: «Нет! Вот это – обычный лес. А это – обычный дом, в котором я живу. А ты – выпендрёжный, глупый, никчёмный романтик, и меня если не воротит от таких, то уж я точно не позволю себе вестись на такую дешёвую незрелость. Ибо я вполне себе серьёзная, стоя́щая обеими моими красивыми ногами на земле девушка. Усёк примерно?» Я усёк. И после этого эпизода больше ни разу о ней не думал в романтическом смысле. Помню только, встретил её на остановке Прокопьевской лет через 5. Её красота стала более искусственной и, соответственно, менее тревожащей, а надменность – более отточенной. Со мной она поговорила в высшей мере сухо. Если она и улыбнулась мне, то в улыбке была точно та же пренебрежительная, лягающаяся интонация.
Всё. Всё вышеозвученное в этой главе – всего лишь блёклая предыстория, вялый, тусклый фон того, что случилось со мной буквально на другой день после разговора у подъезда с Лёней Бережнёвым.
У «Б»-класса основной резиденцией являлся кабинет биологии. У нас как раз тогда должен был быть урок здесь, и на перемене мы заходили, а «бэшники» выходили. Я в толпе подошёл к своей третьей парте у окна, а новая девочка как раз встала из-за этой парты уходить, и мы посмотрели друг на друга. И меня накрыло. И она это сразу увидела. Потому что я ошалел. Я не собирался играть с ней в гляделки, но взор у меня сделался парализованным. Меня подстрелили. 15 секунд, конечно, мы друг на друга не смотрели. От силы две-три. Потом она осторожно и слегка отстранённо обогнула меня и пошла прочь, медленно. Немного опустив голову. Как бы задумчиво. Тогда я не представлял себе, как трактовать ту задумчивую медлительность, когда она уходила после нашего первого обмена взглядами. Я, пожалуй, робко льстил своей надежде, что её серьёзно зацепило моё ошарашенное внимание, и она прониклась чем-то вроде признательности (почему-то грустной). Но позже, намного позже, мне почему-то представилось с чрезвычайной ясностью, что она тогда каким-то дивным образом прочитала в моём взгляде всё, всю нашу дальнейшую пятилетнюю историю, и именно оттого она тогда ушла тихо опечаленная.
Когда я через пару лет рассказал об этой встрече, и о моей реакции на неё, о том, как меня убило на месте, Якову Берману – уверен, эта фигура непременно всплывёт в данном повествовании, – Яков тихо ухмыльнулся во всю свою сметанно-кошачую зубасто-остро-подбородочную еврейскую физиогномию и молвил блаженно: «Феромоны!» Мы, как всегда, распластались на кроватях в его комнате в общаге, с сигаретами, в сигаретово-дымном облаке, и я курил, чтобы уяснить-таки свою взрослость, а Яков просто кайфовал, как это ему свойственно…
Уж не знаю, как там с феромонами, но с той минуты в кабинете биологии я стал другим.
Дина Ежова была обычной девчонкой. У неё была астма, колит и себорея на голове, и всё это попеременно обострялось. Папа у неё был невзрачный, некрасивый, невысокий то ли слесарь, то ли сантехник, мама – кажется, бухгалтер на Текстильной (живой ещё тогда) фабрике имени Фрунзе. Она (мама) как раз была красивая и мягко-прямая женщина, только почему-то жутко задыхалась при подъёме на их пятый этаж. Жили они в 20-й квартире 5-этажного белокирпичного дома как раз недалеко от фабрики Фрунзе. Ещё у Дины была старшая сестра Елена, ей было уже за 20. У Елены «не срослась» любовь с каким-то восточным парнем, и она как раз в то время вышла замуж за разведённого тёмно-кудрявого молодца по имени Артём. Елена с Артёмом жили отдельно в 20-м микрорайоне. Елена внешне походила на мать, Дина – на отца. Объективно Дина не была красивой. Но от неё исходила какая-то такая убийственно-привлекательная сила, что сначала упал Маслуха, потом Юра Стеблов, потом Бармаков, потом – я. Впрочем, упали-то, видимо, все одновременно, но именно в таком порядке она по очереди нас поднимала и аккуратно усаживала рядом с собой.
Дина была как бы комсомольской активисткой, намеревалась стать педагогом и готовилась поступать в универ. Хотя, опять же, не являлась объективно в должной мере ни интеллектуальной, ни эрудированной, ни даже, кажется, усидчивой. Она была невысокая, с круглым лицом; слегка подшепелявливала. Русые, не очень длинные волосы, серо-голубые глаза, круто-выпуклый невысокий лоб. Фигура – гармоничная с ростом, наверное, «оптимальная». Единственный недочёт в фигуре: слегка круглились кнаружи голени, но на это мне указал спустя несколько лет Шигарёв, – сам я никогда не усматривал в этом изъяна. Она танцевала, умеренно заигрывала с мальчиками – как бы старалась изысканно язвить. Характер Дина имела, в целом, оптимистично-задорный, но всё же сквозь него проглядывала в серьёзные и полусерьёзные минуты плохо заретушированная мамина тётечность. Её же подруга, Таня Пьянкова, источала в мир как раз именно безоглядную, простую веселушность, под стать своему папе – я однажды его видел, и мы даже коротко пообщались. Таня жила в перпендикулярной к Дининому дому длинной 9-этажке, и эти две девушки-веселушки были что называется «не разлей вода».
В любом случае, с точки зрения разума, в этой Дине невозможно было бы усмотреть ничего, отчего не совсем простые ребятки (каковыми, каждый в своём смысле, являлись все мы четверо, – плюс неизвестно сколько их осталось в 3-й школе) падали штабелями. Разве что, виной всему была вот эта её, незаметная невинному глазу, если так можно назвать, «эротическая харизма».
Пару дней после того нашего первого взгляда, я ходил тускло, совершенно не представляя, что мне делать с обрушившимся на меня чёрно-золотым удушливым чувством. Но потом случился урок физкультуры, на который почему-то загнали оба наших класса. На том уроке каждый делал, что хотел. Я, к примеру, просто сидел на скамейке. А Дина бегала кругами по спортзалу. Я не знал, естественно, тогда, что она несколько лет занималась бегом. Я смотрел на неё не отрываясь, и меня прижигало, коагулировало и растворяло всё сильнее и сильнее. Бежала Дина грациозно и гармонично, уверенно, по-спортивному, широко, бесстрастно и раскрепощённо. В тот день, придя домой, я отправился в душ. Смывая с себя свой юношеский пот, долго, долго, я формулировал, невнятно вывербаливал наружу всё это неимоверной силы нечто, ворвавшееся в меня.
Папа в детстве (мне было лет семь) однажды задал мне вопрос: в чём смысл жизни? Впрочем, задал он его, конечно же, не мне, а пространству, солнечно-знойно-вечернему. Мы брели тогда по пылевой неровной дорожке с чёрно-слюдяными бликующими камнями среди пыли. Солнце садилось. Нас было двое. Мы брели к нашему саду-огороду, меж двух серых заборов.
Папа вопрос этот в воздухе том так и оставил. А я положил этот воздух в карман, и продержал в кармане 20 лет, пока Библия передо мной не открылась. Библия открылась, когда мне ударило 27. Это было в Просцово (я ту историю описал уже в других мемуарах).
А тогда, в 1988-м, мне было 15. С половиной. Я слушал на катушечном магнитофоне, который мне оставил брат Вадим, уходя в армию, оставленных им же Депешей Мод, и они пели: Little 15. (Впрочем, там что-то про несчастную погибшую девочку, кажется.) Да, 15. И в эти свои маленькие 15 я сформулировал тогда, стоя под душем: смысл жизни – это Дина Ежова. Вот та́к вот! – для меня сегодняшнего, понятно, это глубоко-ироничное восклицание, для тогдашнего – иронии не было ни на 0.0000001 %. И это трудно анализировать. И этому трудно дать оценку. «Феромоны», – промурлыкал надмевающийся своей еврейской псевдомудростью гедонистический Яков. Но даже Яков тогда в моей жизни отсутствовал. Не к родителям же идти с этим!
И что мне было делать со своим новообретённым смыслом жизни? Отправиться «мацать» Дину как Таню Смирнову? – даже краешек подобной мысли представлялся для меня кощунственным. Попробовать пробраться к 9-му «Б» на дискотеку и пригласить её на медленный танец? Наверное, где-то отдалённо это возможно, но как же, как это страшно! – по всем пунктам, начиная даже с того, как пробраться. Там, в этом 9-м «Б», такие ребята-герои… Маслуха, Юрик Стеблов, Мишка Руднев, Лёха Бармаков! А кто я? Тот самый Лошарик, над которым издевались все, включая вот этих четверых хотя бы, за то, что он, будучи «дистрофаном», на перекладине ни разу подтянуться не может! И все-то они, как Женя Линьков, уже кружком своим похабным её окружили, а мне, если я нос свой суну, сделают на моём носу «сливку»* [* – для непосвящённых, гематома, образующаяся на кончике носа в результате его плотного сдавления между межфаланговыми суставами II-го и III-го пальцев кисти]. И Дина, кстати, не исключено, в этом процессе уродования моего носа первая в очередь клокочущую встанет.
Может, попытаться поиграть с ней в гляделки, как с той белобрысой на троллейбусной остановке?.. Только, видимо, и остаётся.
Главное, непонятно, даже в случае положительной реакции, что с этим делать? Целоваться с девочками (не говоря о том, чтобы сексом с ними заниматься) я не умею и боюсь. А Дина – она же богиня. К ней даже пальчиком тихонько прикоснуться страшно. Такая вот случилась со мной… (беда? не беда? горе? не горе? радость? не радость?)… (любовь?) Да, обычно люди этим словом и называют эту вот штуку.
И это, конечно, сладко. Даже ревность светло-печальна. Благосклонность – пляшущий, взрывной, ликующий восторг и щекочущая пряность в душе́. Пребывание в «храме» – чарующее таинство. «Храмом» сделались места её пребывания. А пребывала она для меня в основном в 12-й школе, в том самом месте, которое я никогда особо не любил, поскольку оно было местом нелюбви, пренебрежения, человеко-звериной глупости, порой опасности и унижений, отчуждённого многоглоточного детского шума, тусклой повседневности. Знания я любил, но не до такой степени, чтобы благосклонно сносить всё остальное. Теперь же это место сделалось «храмом», ибо тут ступала её нога, витал незримо её дух и предметы освящались её даже случайными прикосновениями.