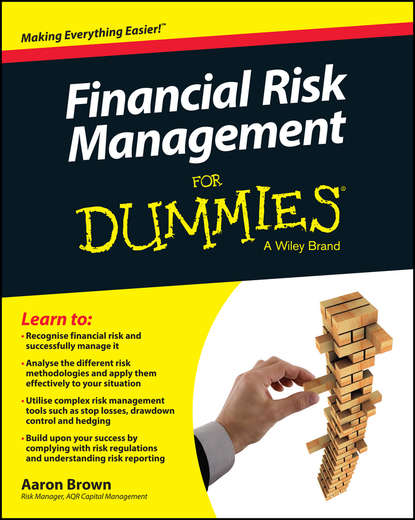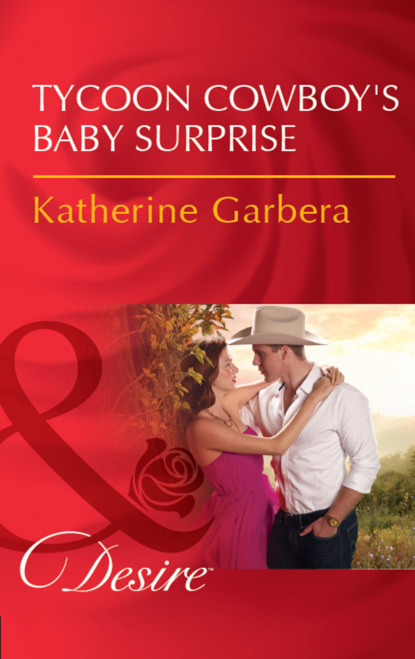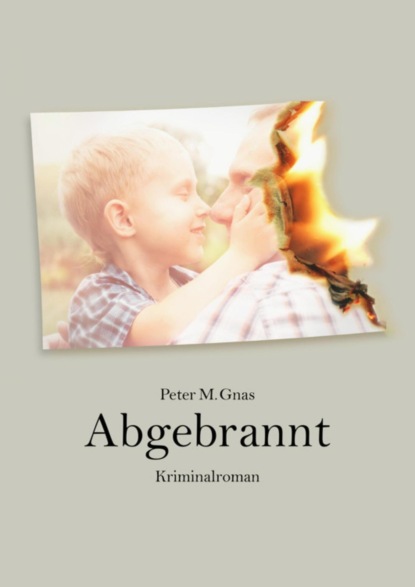- -
- 100%
- +
Спустя несколько дней прошёл достоверный слух, что Маслуха исчез. Примерно через месяц выяснилось, что он в Ленинграде, где-то в андеграундных катакомбах, с наркоманами и гопниками. И вернулся он, кажется, только к маю.
Я не знаю достоверно нюансов этой истории, промоченной столь интенсивно столь неожиданно-жизненной театральщиной. Подозреваю самое простое и самое очевидное: Маслуха, с глубокого отрочества избалованный вниманием неких аморальных дам, склонял Дину к сожительству, а может быть даже к бегству. Но Дина же была не просто комсомолкой, а у неё была и мама, строго внушившая ей доктрину недопустимости досвадебных половых сношений (на каком основании базировалась данная доктрина, я не знаю: то ли на моральном кодексе строителя коммунизма, то ли на житейской предково-завещательной мудрости, то ли и на том, и на том). Достоверно знаю лишь то, что Дина, как как будто бы частичная виновница несчастья, пока Маслуха канул в Ленинград, чуть ли не ежедневно полгода ходила к Маслухиной маме плакать с нею и её успокаивать. Душещипательное вышло положение.
А что сказать про этого Маслуху? Невысокий такой парень, сложения вовсе не богатырского, смазля́венький. Достаточно хитрый, чтобы не быть ни банальным хулиганом, ни презренным отличником. Там что-то не так было с его папой. Странный папа. Однажды я видел его. Мы играли во дворе в дворовый футбол с дворовыми ребятами дворовым мячом на пустырчике. Дело было классе в 6-м. Мимо идёт Маслухин папа. Невысокий, умеренно пьяненький и как будто бы какой-то нонконформистский на всю голову. А у нас как раз в футболе вышел перерыв, и кто-то хвастался реально стреляющим, любовно изготовленным пугачом: бело-деревянная ручка, медная блестючая трубка-ствол, резинка от гимнастического «жгута» телесного цвета: все «причандалы» в почти безупречном сиянии новизны, холы и добротности. Вдруг Маслов, услышав похвальбы хозяина, развернулся к нам и подошёл. Стал интересоваться качеством, устройством и достоинством пугача. И у них с пугачевладельцем вышел спор, мол, прострелит тот Маслову ладонь с пяти шагов или нет? Спор решили сразу же разрешить. (Чем стреляла эта самодельная штука, не помню: то ли металлическими шариками, то ли обслюнявленной бумагой, то ли пластилином.) И Маслов отошёл на 5 шагов, а тот парень, не будь дурак, выстрелил. Ровно из середины ладони Маслова потекла полоска алой крови. И даже закапало с руки. Маслов равнодушно посмотрел на рану, ничего не сказал, опустил руку вниз как ни в чём не бывало, повернулся и пошагал от нас прочь по той деревенской, пустырной Прокопьевской в сторону своей пятиэтажной Новосельской. Мне показалось, он повёл в тот момент себя так буднично исключительно ради бравады. Впрочем, возможно, он был гораздо сильнее пьян, чем казался. Непонятно, кто в той ситуации, с точки зрения скопившейся малышнёвой публики, из этих двоих горе-дуэлянтов оказался дураком, а кто героем. Кажется, героем никто не был, а вот Маслов – точно был дурак.
С самим же Маслухой у меня отношения складывались какие-то неровные. Он, как и Бармаков, то ластился ко мне, то открыто презирал. В младших классах мы ходили к нашей школе кормить через дыру в стене живущих в подвале бездомных кошек. Наблюдать за кошками было интересно: по подсчётам их жило в подвале шесть или семь; две – рыжие. И было очень интересно: какая из кошек в этот раз выглянет из дыры покормиться из подставленного нами блюдечка. Мы давали кошкам имена.
Но мы не дружили.
В средних классах Маслуха не то что испортился, не то чтобы стал тяготеть к хулиганству, а вылезло вот что-то в нём такое: выпендрёж под эгидой «я взрослее, а значит и умнее всех вас; посмотрите, какие засосы на спине мне бабы наставили (и прочее)». И всё это с тем же детским, несерьёзным, синусоидным смехом. Однажды он с противоположной параллельной лестницы с силой плюнул по параболе в моём направлении и попал гайморитной обильной, зелёной соплёй аккурат мне в лоб. Было обидно, а Маслуха от души громко потешался над комичностью случая, незатейливо при этом превознося свою талантливую меткость. И извинялся передо мной точно так же, как Колесов извинялся перед Лавреном тогда в раздевалке.
В 8-м классе я старался дать кому мог отпор и раза три дрался со всякими мелкими агрессорами. Однажды по дороге в столовую Маслуха (не помню, как) меня физически унизил, и я более-менее сильно ударил его кулаком по скуле. Маслуха не стал со мной драться, а даже похвалил и тут же, как всегда, со своей смеющейся, гладко-волнистой громкостью отчитался кому-то мимоидущему: «А Игорёк-то Разумов у нас драчливым стал!» В конце 8-го класса он пришёл ко мне домой и попросил помощи в подготовке к какому-то экзамену. Я помог.
Не помню точно, когда Маслуха вернулся из своего подпольного Ленинграда. Насколько я знаю, он наклёвками продолжал просить сердца Дины (впрочем, непосредственно сердце, подозреваю, интересовало его в Дине всего менее).
Я вообще с трудом понимаю, что побудило его идти в старшие классы. Если он не стремился в техникум и ПТУ, то в институт и подавно не собирался – не по его мозгам и не по его усидчивости это было. Странно. Ему хотелось девочек, более утончённых и менее доступных, чем ПТУ-шницы? Всё во имя того же лелеяния чувства собственной значительности? Что ж, это вполне можно понять. Ведь так действуют и во имя этого живут многие. Да ведь вот и я же носился столько лет со своею любовью к Дине, по сути, во имя того же самого. (Просто у Маслухи было побольше любовного опыта.)
3.3.5. Затяжное течение
Тут представлены эпизоды дальнейшей любовной тоски.
Эпизод 1. Циркуль
Всё это было очень сильно. Копилось внутри и нуждалось в каком-то выходе. Я качался каждый день под альбом «Metal Heart» группы «Accept». Но этого было мало. С агрессивными струнами моей лопающейся и кровоточащей любви нашли гнетущее, усугубляющее созвучие кривляющиеся песни «Наутилуса». В этих песнях я выделял интонации и сочетания слов, которыми я проговаривал Дине, себе и всему жёсткому, несправедливому бытию свои тяжеловесные, невыразимые эмоции. К примеру, рубленные интонации песни «Казанова» транслировали наружу мою злость на Дину, за то, видимо, что она не ждёт меня и не подстраивается под меня, незрелого, а вместо этого «мутит» со всякими Маслухами и, возможно, ещё много с кем. В этих интонациях меня грели вырванные из контекста фразы: «ты моя женщина, я – твой мужчина», «если нет любви в твоих проводах», «ты повесишь на стул позабытую тень моих присутствий и влажных приветствий». Что значит «город женщин, ищущих старость», мне было непонятно, но в этом затаилось что-то от злорадства, как и в заключительном пророчестве: «каждый день даст тебе десять новых забот, и каждая ночь принесёт по морщине». Конечно, желать Дине подобного я не хотел; но и желать Дине успеха с её ухажёрами тоже не мог, поэтому нелепому, но объяснимому злорадству было вполне просторно в моём сердце. Насмотревшись тогда в пионерской комнате на её кожу и грудь, я уже осознавал, что элемент вожделения в моём чувстве тоже-таки присутствует, поэтому из очередной зловредной фразы: «ты шпионишь постыдно за собственным телом» я вычленял заворожённо слово «тело» и погружался в ещё более сильнейшую тоску. Наконец, всё это покрывало пронзительно-визгливое, гармонично-величественное центральное саксофонное соло, как материализация отчаяния, темноты и, тем не менее, возвышенности моего чувства.
То же было с «Доктором твоего тела»: я понятия не имел, что это что-то про наркотическую зависимость; надменное сочетание слов «твоё тело» гипнотизировало и усредняло до пьянящего абсурда все другие слова.
Песня «Всего лишь быть…» на содержала злости, но лениво намекала на опытную, обречённую обыденность плотской любви, что успокаивало вожделение, приподнимало меня над глупостью Чувства, помогало посмотреть на всё свысока и слегка остужало тоску. В то же время слова: «мужчина», «твой мускус, свой мускул», «до утра вместе», «свет интимной лампы» действовали противоположно, и тоска снова поднимала голову.
Но всё это работало по касательной. Застреливала и клала на лопатки песня «Я хочу быть с тобой». «Комната с белым потолком, с правом на надежду» и «с верою в любовь» была едва ли не материальна, плавая где-то в печальном, тёмном, электрическом пространстве той дикой осени, когда я, в очередной раз вслушиваясь в эту песню, лежал у себя, в своей комнате на полу, глядя на буквальный, непосредственный белый потолок и невольно совмещая его с потолком той загадочной «комнаты», где я однажды буду с ней. Электрические огни отсвечивали на стенах, я косился на эти отсветы и всё сильнее прилаживал ту «комнату» к этой. И я действительно попадал в мир надежды на осуществление моей любви, и мне делалось тепло, волшебно; я мирился со своим чувством, даже тихо ликовал оттого, что мне посчастливилось его иметь.
«Я пытался уйти от любви», – красиво затягивал вступительные слова Бутусов. Я не пытался уйти от своей любви, но лирического героя Бутусова понимал очень отчётливо, потому что, хотя любовь – это и сладкая му́ка, но всё же Мука с большой буквы. «Ремни, стянувшие слабую грудь» – это было как раз об этом. Фраза «я смотрел в эти лица и не мог им простить того [тут Бутусов надрывно хрипел], что у них нет тебя и они могут жить» ёмко и красиво говорила почти о том же самом, что я сформулировал тогда, стоя под душем. Дальше речь шла о членовредительстве, как методе борьбы с силой чувства. Резать пальцы «за то, что они не могут прикоснуться к» ней казалось вполне логичным в этом смысле. У меня не было «острой бритвы», и я не хотел «ломать стекло как шоколад в руке». Зато у меня был обычный циркуль. Однажды на волне этого всего я взял его в руку и на тыльной стороне левой кисти нацарапал довольно крупно, отчётливо и уродливо слово «ДИНА». Мне нисколько не казалось это нелепым. Это был очередной бросок в кольцо, как тогда, в пустынном спортзале; некая точка, некое заверение самого себя, некая жертва «богине», некое унижение, как акт поклонения ей; некий обет.
Надпись, уже покрытую пунктирными полосками струпьев, заметил Венчук. (Это было в марте. Было солнечно, и лежал яркий снег.) Андрей не стал меня громко высмеивать, но и не почёл нужным соединяться со мной в моей трагедии и усиленно сопереживать мне. Он высмеял меня потихоньку, «как положено», не выходя за некие рамки. Он назвал меня в присутствии наших друзей «Гошей Динь-Доном». Я не обиделся на него. Ведь объективно я, и правда, поступил глупо.
(Венчук, кстати, высмеивал и песни «Наутилуса», как высмеивал почти всё. К примеру, в словосочетании «пьяный врач» из песни «Я хочу быть с тобой» он не видел ничего трагического или возвышенного, а видел только нечто банально-комическое. Вместо фразы «глаза навсегда потеряли свой цвет», Андрей пел «глаза навсегда потеряли очки». Таков он был.)
Эпизод 2. Комсомол
Я не собирался становиться комсомольцем и уж тем более комсомольским активистом. Но я стал комсомольцем из-за любви к девушке. Хотя она никогда не просила меня об этом. Там ведь надо было выучить какие-то бюрократические глупости, кому-то отчитаться, куда-то вписаться. Это было скучно, несуразно, и для меня, далёкого по духу от всякого рода кутерьмы с красными галстуками, клятвами Ленину и комсомольскими собраниями, даже противно. Но я всё выполнил.
Потом у этих комсомольцев в их городском «дворце» рядом с площадью Тургенева случился какой-то городской съезд-не съезд. Как всегда, вечером, в зимних, тоскливых сумерках. Зал был большой и тоже мрачный. Я уселся, неприкаянный, на третий сбоку стул в среднем секторе, ближе к «галёрке» и принялся наблюдать за гудяще-жужжаще-неторопливо-переходящими от стула к стулу комсомольцами. Периодически потихоньку взглядывал на Дину. Здесь она держалась серьёзно, официально, по-деловому. Завидя меня, она не позволила себе ни колкостей, ни лишних фраз, ни улыбок. Сухо. Пришёл, мол, и пришёл. Вслушиваясь в разговоры комсомольцев, я видел, что здесь они не треплются за жизнь, а говорят о материях хотя для них и будничных, но при этом серьёзных и официально-ответственных. Я в этих их разговорах ровно ничего не понимал. Прозвучала пара невнятных, не особо пространных докладов, после чего собрание было распущено. Покидая зал, я обратил внимание, что Дина встала в кружок с какими-то, видимо, особо близкими ей комсомольцами (возможно, из бывшей 3-й школы; их было человек 10, парней и девушек), – они обняли друг друга за плечи, склонились к центру кружка и спели что-то короткое, гордое и единящее.
Обратно мы ехали с ней в одном автобусе. Народу было довольно много. Мне казалось, она не замечает меня. Я тоже притворялся, что равнодушен к её присутствию.
Вся эта демонстрация отстранённости на мрачном, сухом зимне-комсомольском фоне ещё больше отдаляла меня от Дины, делала мою любовь к ней более утрамбованной, замёрзшей.
Эпизод 3. Венчук, лом и солнечный лёд
В конце марта или начале апреля нас с Андреем Венчуком попросили уйти с какого-то праздного, малозначимого урока, чтобы расколоть наледь на околошкольной дорожке. Андрею вручили лом, а мне что-то мотыгообразное. Мы занялись наледью. Андрею нравилось демонстрировать свою мускулистую молодецкость. Он поднимал и опускал лом, делал это степенно, знаючи. Солнечный ручей облизывал отколотые ледяные куски. Мы с Андреем были в школьных костюмах, таких, какие носили все парни-старшеклассники: тёмно-синих поверх белых рубашек, с синими же галстуками на резиночке; пиджаки с полами, а не курточки, как у мелюзги. На лацкане у Андрея – маленький, серьёзный красно-золотой комсомольский значок. (Девушки, кстати, в те времена носили все, как одна, коричневые платья с черными – в праздник белыми – передничками; Дина же с Таней в этом смысле «выпендривались»: Танино платье было сероголубым, а Дина своё каким-то образом загадочно огипюрила, за что ей почему-то именно от старика-военрука с дивной фамилией Крутой порой попадало.)
Когда прозвенел звонок и из школы по домам постепенно потянулся народ, мы с Андрюхой стояли в солнечных ледяных осколках. Андрей отдыхал, опершись на свой лом, и даже сквозь костюм было видно, как он играет бицепсами. Тогда мимо нас прошла Дина. Она была печальна. Прошла мимо молча. Мы с Андреем проводили её взглядом. Март. Золото марта. А она – в своём демисезонном, в широкую серую вертикальную полоску дымчатом пальтишке. Идёт медленно, задумчиво глядя под ноги. Я всё же думаю, она внимательно рассмотрела нас с Андреем, – Андреевы мускулы и мою тупую, постылую влюблённость в неё во всё лицо.
Март всегда усугублял эту сладостную, тоскливую тягость во мне. Я не ведал причины Дининой печали, но мне мнилось, что её печаль сейчас почти наверняка связана со мной, – что задумчивость её – суть производная её реакции на мои чувства к ней. И я не то что верил, а даже почти и ощущал, что это так и есть, и мне опять стало радостно. Я не захлебнулся в ту же минуту от восторга, но восторг этот тихо, тихо, неуклонно поднимался во мне. Подобно золотому мартовскому половодному ручью.
Андрюха снова возвышал и опускал свой молодецкий лом, куски льда отлетали и весело блестели, талая вода журчала, солнце вжиралось в умирающую белизну снега, а невидимый тёплый восторг медленно подползал к моему горлу.
Эпизод 4. Четвертков и «валеты»
Как-то ближе к маю на баскетбольную тренировку в выходной пришли только мы с Андрюхой и Владом. Но пришёл ещё Максим Четвертков, хулиган из старого «Г» класса. Говорят, покинув после 8-го класса школу, он занялся какими-то обогатительными махинациями и, как выразился в то время Мишка Шигарёв, «поднялся». Как я понял, в отличие от прочих хулиганов 12-й школы этот Четвертков был непрост, скользок и значимость свою выбивал не столько кулаками и быдловостью, сколько псевдоинтеллектуально-эмоциональным давлением на окружающих.
Поскольку нас было мало, стали играть в волейбол. Уж и не знаю, какая-такая ностальгия привела этого Макса на баскетбольную тренировку в 12-ю школу. Я заметил, что Андрей с Владом пасуют перед Четвертковым. Он был крепкий, невысокий; вёл себя развязно и каждого из нас невесело подкалывал. Андрей не шутил с ним. Влад тоже сделался каким-то чрезмерно серьёзным. Когда я попытался заговорить о преимуществах баскетбола над волейболом, Влад посмотрел на меня как-то тяжело и сказал, что обе игры по-своему неплохи, и я говорю глупости. Мне сделалось грустно от этого замечания Влада, ибо я считал, что именно баскетбол так чудесно объединил нас, сделал командой. Влад как будто бы брезгливо пренебрёг некой святыней. Четвертков меня не знал и держал себя так, словно меня почти нет. Только когда я «косячил» в игре, грубо и зло-спокойно обозначал эти косяки.
Потом мы стояли на углу школы, на перекрёстке околошкольной и внутриквартальной дорожек. Так на перекрёстках стоят обычно как раз хулиганы, поджидая жертву, – одиноко идущего в их сторону по делу или не по делу старшеклассника, который по недотёпству, завидя хулиганов издалека, не увернул мгновенно вправо или влево, – чтобы остановить его и задать козырной вопрос: «Откуда?!» Я стоял и помалкивал, а Влад с Андреем перекидывались с Четвертковым какими-то ленивыми, пустыми фразами. Вдруг из школы вышли Таня с Диной: они, видимо, что-то «активничали» в классе в выходной. Дина была в лимонно-жёлтой курточке. Шли они медленно. Я сразу понял, что с этим Четвертковым выйдет что-нибудь нехорошо.
Девочки прошли мимо нас в том же спокойном темпе и закономерно повернули вправо, в сторону улицы Попова. Четвертков всё это время лениво-надменно рассматривал их. Когда они отошли от нас шагов на 10, он развязно-грязно выкрикнул: «Вот это ж. а!!» Девочки возмущённо на ходу обернулись, и каждая сказала что-то негодующе-презрительное в ответ (кажется, Таня была громче). «Замолкни, коза!» – в том же тоне обрубил Четвертков. После этого он отвернулся к нам, как будто девочки его уже вовсе не интересовали (и даже как будто не интересовали вообще никогда), и продолжил прежнюю пустую, ленивую беседу.
Я не мог дождаться, когда мы, наконец, разойдёмся. Наверное, стояли-то ещё минут десять, однако минуты эти показались мне часом. То было ужасное, с трудом выносимое чувство. Понятно, что я не мог, как Д'Артаньян или Дон Кихот, в момент оскорбления дам, одна из которых была тайной дамой моего сердца, вынуть длинное холодное оружие и крикнуть Четверткову: «Сударь, вы подлец! Защищайтесь!» Не мог и просто потребовать, чтобы он бросился вдогонку за дамами и извинился, или, ничего не объясняя, просто сунуть ему кулаком в рожу. Не мог по той же самой причине, по какой не ответил многим из тех хулиганов, которые унижали, прессовали и провоцировали меня, ибо это было реально опасно для жизни. К примеру, Шорников, хулиган из того же «Г» класса, мог, проходя по коридору, просто завидя, с размаху раз 5 ударить меня своим портфелем-сумкой на длинной лямке. А я только молча уворачивался и ускорял шаг. Потому что видел, как Шорников дрался с Киргизом. Он держал в до белоты сжатом кулаке цилиндрическую красную пластмассовую трубку, как уплотнитель, и ждал, когда Киргиз начнёт драку. Я видел его лицо, его глаза: они искрились спокойным, сумасшедшим, бесстрашным, рассчётливым бешенством; это было ужасно; я понимал, что такой человек уже давно был готов к тому, чтобы убить кого-угодно. И даже, кажется, не во имя провозглашения всему миру своей значимости, а просто так, из азартного интереса. И он правда сел за убийство, тогда же, к концу 8-го класса.
Я не мог даже уйти. Просто сказать: ладно, ребята, я пошёл, у меня дела. Всё это стояние на перекрёстке было своего рода аудиенцией у Максима Четверткова. В нашем тогдашнем пласте социума он был королём. Мы – я, Андрей и Влад – могли перемещаться по городу (за пределами нашего условного района, именуемого «ква́ртал») в постоянной опаске. Максимум, что мы могли сделать, это по-хитрому вызнать у осведомлённых, в мире ли сейчас «ква́ртал» с «черёмушками», «перегонным» или «кахо́вкой» (и что там у «черёмушек» с «перегонным»), чтобы, если что, находясь на территории «перегонного» сказать: мы с «кахо́вки», рассчитывая, что нас отпустят живыми (хотя карманные деньги, понятно, всё равно отнимут). (Влад, к примеру, был таким хитрецом: если мы шли в видеосалон в Дом Моделей на фильм «Кабан-убийца», стояли в очереди, он наклонялся к нам и шептал на ухо: «если подойдут, говорите, что вы из «черёмушек»». Действительно подходили. Задавали вопрос: «Откуда?» Мы отвечали: «Из черёмушек». Они смотрели на нас с сомнением, переглядывались. Потом задавали дальнейшие серьёзные вопросы: «А чего вы сюда пришли? У вас там что, своего салона нет?» «Нет», – пожимали плечами мы. «Странно», – отвечали они. – «Непонятно, всё-таки, чего вы пришли. Фильм-то плохой». – «Да? Ну мы не знаем, не видели». После минутной паузы (взгляды по сторонам, серьёзные раздумья): «Ладно. Смотрите, раз пришли. Но только лучше больше не ходите сюда». Медленно уходили. Мы выдыхали. (А фильм, к слову, действительно был дурной: чёрно-красный, как всегда, – носовой монотонный перевод, абсолютно не страшный кабан, – стоило подвергать себя риску!))
Да, мы могли только в меру сил и ума уворачиваться от ударов. Четвертков же сам мог при желании кому угодно задать вопрос: «Откуда?», и быть при этом вполне спокойным. Он мог хамить каким угодно дамам, и по злому подкалывать бывших одноклассников, потому что был «королём», а королям, как известно, в морду не дают и не заставляют бежать извиняться перед дворовыми девками. Это вполне понятно. Я же, к примеру, был простой презренный «валет». Этим словом, кстати, широко пользовался в какой-то момент Маслуха. Его значение мне приблизительно объяснили некие ребята на задней площадке 10-го троллейбуса. Это было в том же 9-м классе, кажется. Был летний вечер. Мы с родителями возвращались с огорода. Они сидели впереди, ближе к водителю, а я почему-то решил уединиться на задней площадке. Вошли трое худощавых, но крепких и уверенных парней. Я ел семечки. Они расположились рядом и сразу же закономерно спросили, откуда я. Я угостил их семечками. Они равнодушно приняли и стали лузгать вместе со мной. На их вечный вопрос, я пожал плечами:
– В К… живу.
– Понятно, из района какого? – терпеливо спросил один, тот что стоял ближе ко мне.
– Проспект Фрунзе…
Парень обернулся к товарищам.
– «Фрунзе»… «Ква́ртал», что ли?
Один из безэмоциональных лузгателей моих семечек, равнодушно пожал плечом, другой слегка кивнул, глядя в пыльное троллейбусное пространство. Мой собеседник продолжил, задумчиво глядя чуть-чуть мимо меня:
– Я помню, мы с «ква́рталом» в позапрошлом году «п. дились». Помнишь? – повернулся он к одному из созерцателей троллейбусного пространства. Потом снова ко мне. – Ты какой-то странный. Ты вообще куришь, водку пьёшь?
– Нет, – скромно и как-то неуместно произнёс я.
– А баб е…ь?
– Нет.
– Так ты, получается, «валет»! – все трое прихохотнули* [* – первое, что вскрылось в Гугле на запрос «валет жаргон» – «недоразвитый человек, дурак», ниже есть второе значение – «лицо, прислуживающее авторитетам преступной среды». Выходило так: дураком и недоразвитым меня, обычного советского юношу, способного дружелюбно поделиться семечками с теми, кто потенциально его сейчас будет «прессовать», делало то, что я в свои-то 15 с небольшим лет не курю, не пью и вообще не живу половой жизнью. Второе значение слова «валет» проясняет, почему мы, я, Андрей и Влад, смотрели в рот Четверткову и вели себя так, как это было, вероятно, угодно ему: мы прислуживали ему, «авторитету»].
Мы подъезжали к площади Тургенева. Мой собеседник сделался вновь серьёзен и выступил с заключительной речью:
– Вообще тебе повезло. У нас настроение хорошее. А так тебе бы пришлось побыть грушей. А мы бы поотрабатывали на тебе приёмы тхэквондо* [* – в то время в видеосалонах были популярны фильмы про боевые искусства. Брюс Ли, Чак Норрис и прочие Ван Даммы]. Они вышли, а я на ватных ногах пошёл к родителям. (Кстати, этих ребят нельзя было полноценно назвать «гопниками». Выговор чистый, держались не разнузданно, едва ли не интеллигентно, татуировками покрыты не были. И это особенно пугало: создавалось впечатление, что таких вот «королей» на белом свете и в их подполье – что тараканов, а «валет» – это довольно редкий зверь.)
Как бы то ни было, я чувствовал себя мерзко. Оттого, что я просто показался перед Диной в компании этой сволочи. Не говоря уж о том, что оказался бессилен хоть как-то защитить её честь. Выходило даже, что я едва ли не соглашаюсь и не встаю на сторону Четверткова, когда он грязно унижает её.
Конечно, я утешал себя. Я понимал, что Дина не настолько наивна, чтобы не видеть в какой грязи мы, юные комсомольцы, живём, и какие законы тут на самом деле правят. Наверняка, она тоже извиняла меня, осознавая, что я, простой влюблённый в неё мальчик, не могу ввязываться в драку с таким хамским уродом, тем более, что такого рода драки не прописаны в современных законах чести («Гуд бай, Дон Д̍'артаньян!») Но все эти утешения слабо помогали. Мне было мерзко. Я и так чувствовал себя бессильным, неспособным никак реализовать своё чувство, а тут ещё эта насмешка из мира зверей.