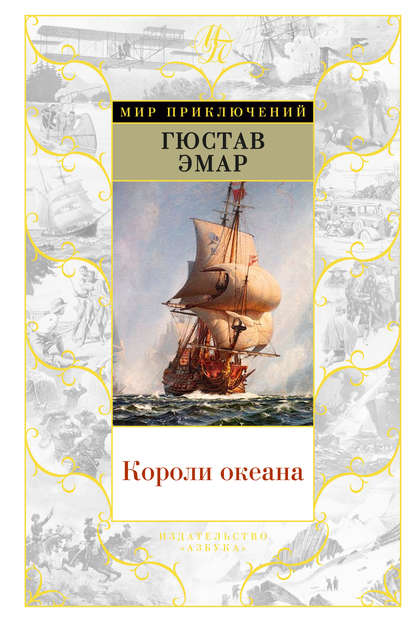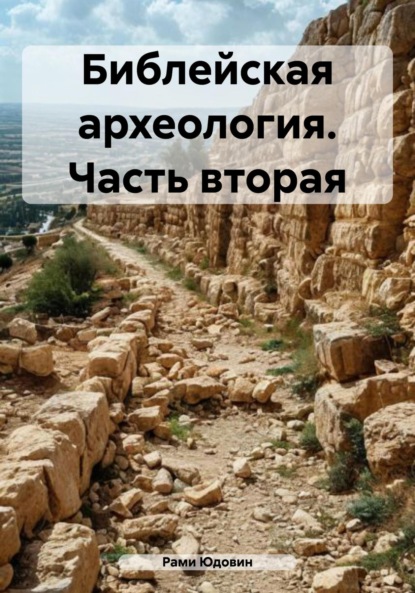Что нам в жизни светит…
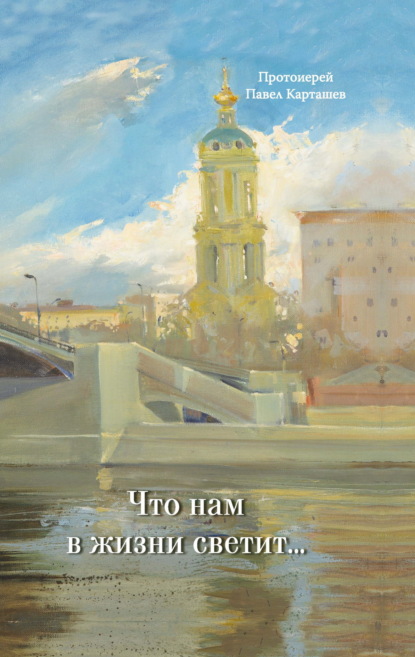
- -
- 100%
- +
– Невеста-то есть?
– Есть.
– Уверен?
– В каком смысле? – переспрашивал я со страхом: может, ему по его каналам какие-то сведения поступили. – Ну как вам сказать, я в ней был уверен. А что?
– Ничего. Вера – дело хорошее. Вот ты как узнал, что буква «А» – это буква «А»? Две палочки, между ними третья. Что это именно «А», а не «Б»?
– Не помню. Может, мама сказала или бабушка.
– И ты поверил?
– Конечно.
– Вот видишь: всё на вере, на доверии, как на фундаменте. Вот невеста твоя далеко, а ты веришь, что она тебя не забыла. И правильно делаешь. А в это самое время…
– Вы что-то знаете? – не вытерпел я.
– Ну как же мне не знать! У меня работа такая.
– Тогда скажите прямо, что случилось. Что вы знаете?
– Мне известно, из весьма авторитетных источников, что без взаимного доверия семейного счастья не достичь. А семья – это дети, продолжение жизни. Видишь?
– Что?
– Жизнь начинается с доверия. Ты это запомни.
– А что «в это самое время»? Вы не договорили.
– Так ты мне не дал. В это самое время верит и она, что ты не забыл её.
– Откуда вы знаете?
– Верю. Страшная сила – вера. Верой подвиги совершаются. И открытия. Вера, как в древних книгах сказано, побеждает царства, угашает пожары, изгоняет захватчиков, преодолевает болезни. Вот вы почему друг другу доверяете? Потому что любите. Любовь и доверие идут нога в ногу.
Прошли годы, я теперь вижу, – пишет А.В., – что он мне доходчиво и вольно, не уличишь в пропаганде, пересказывал Новый Завет.
Или в другой раз – тема, как всегда, неожиданная.
– Представь себе, – начинает NN, – роскошный праздник, столы ломятся от жратвы, а выпивка… фантастика. – NN затягивается и с наслаждением вбирает в себя голубой дым и при этом посматривает на меня улыбающимися глазами. – Мягко играет музыка, дамы изящные, милые и благоухают такими тонкими духами, что голова кружится от влюблённости во всех сразу. Но если не нравятся духи и весь светский базар, не надо. Пусть будут друзья, самые дорогие, доверенные. Задушевная беседа. И вот тебе говорят, конфиденциально и совершенно точно, что праздник закончится в одиннадцать вечера, а в половине двенадцатого тебя расстреляют. А? Тебе каково? Кусок полезет в рот?
– Вряд ли, – соглашаюсь я.
– То-то! А ведь у всех лезет, и без проблем!
– ?
– Ну как же: какая разница, через три часа или через тридцать три года, если конец один: ешь, пей, веселись, всё равно умрёшь.
– Но если не напоминать… Жизнь течёт своим чередом, зачем её отравлять?
– А почему же отравлять? Может быть, этот праздник говорит о большем, чем еда на столе, ароматы и музыка. Может быть, это знаки, символы.
– Какие символы?
– Хорошие. «Остров сокровищ» читал?
– Да, кажется, в детстве.
– Написал Стивенсон. Он ещё был поэтом. Вот послушай, я про себя часто повторяю, когда смотрю на тихое море на рассвете или когда медленно еду по горному шоссе в Константину, после дождя. А вокруг такая густая свежесть, так всё зелено, буйно:
Я говорю гадалке: «Что-то никак не пойму,Раз всем помирать придётся и вообще пропадать всему —Зачем этот мир прекрасен и как праздничный стол накрыт?»«Легко загадки загадывать», – гадалка мне говорит.Жизнь, Андрюш, это праздник, который всегда с тобой. Никто нас не расстреляет, никто не уничтожит, потому что это невозможно.
Он произнёс последние слова еле слышно, но так уверенно и спокойно, – пишет А.В., – что я всей душой поверил ему в ту минуту. Не невозможности расстрела, но в невозможность конца.
Мы замолчали. NN смотрел в иллюминатор. И когда снова заговорил, то не повернул головы. Так и обращался к редкой, в просветах, пелене облаков и к Атласскому хребту вдали. Я вытянул шею между ним и передним креслом, чтобы его расслышать.
– А вот убийца Столыпина Дмитрий Богров после объявления ему смертного приговора, который приводился в исполнение через несколько часов, на вопрос о его последнем желании ответил, что заказывает обед из ресторана. Из какого-то хорошего киевского ресторана. Накануне покушения на Петра Аркадьевича в театре, он обедал с Троцким. Троцкий бесследно исчез. Не из того ли самого ресторана заказан был обед? Богров, можно предположить, оставался во время допросов и приговора во фраке. Взяли его сразу после выстрелов в зале, он направлялся по проходу к выходу. И вот он, во фраке, в уже несвежей манишке, повязав салфетку, весь этот привезённый дымящийся обед обстоятельно и неспешно съел.
NN взглянул на меня, лицо его выражало боль.
– Он был псих?
– Я думаю, все медкомиссии во всём мире сделали бы по его поводу одно единодушное заключение: практически здоров. Если в меня или в тебя будет целиться из пистолета актёр с экрана, обедать он нам не помешает. Неприятно, разумеется, но, в конце концов, не более чем иллюзия, мираж. Жить по-настоящему можно только в уверенности, что не прервётся жизнь.
Наверное, я посмотрел на него так задумчиво, что он спохватился. Почувствовал, что вещает уже не совсем коммунистом. И хотя он меня не опасался, но всё-таки попытался поправиться.
– У классика, – улыбнулся NN. – «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире // Мой прах переживёт и тленья убежит…»
Фу, – признался А.В., – я про себя облегчённо вздохнул: материализм всё-таки не рухнул. Но сердце моё снова проснулось. Как всегда просыпалось, в этих воздушных беседах».
Отвечая на очередную корреспонденцию А.В., я поинтересовался: а в связи с чем его попутчик поведал ему когда-то притчу о нечистом духе?
«Помню, – написал А.В., – в один из перелётов NN выглядел совсем утомлённым, выжатым. Я решил из вежливости и понимания молчать всю дорогу. Мой спутник действительно полчаса подремал. Потом как будто очнулся. Рейс длился недолго, и нам предлагали только леденцы и воду. NN спросил газировки, выпил, крякнул, взглянул на часы и сказал:
– Знаешь, Андрей, человека иногда мучают мысли.
– Мысли?
– Мысли, образы, тёмные желания. Кому-то кажется, что он разлюбил жену и другая женщина для него – единственная отрада и счастье. Но в доме дети, вокруг родные и друзья, работа, положение в обществе (в советское время разводы не приветствовались в эшелонах власти. – П.К.) и человек страдает. То он вдруг решает всё разрушить и уйти, но вслед за безумной решимостью чувство долга и совесть берут верх, и, ложась спать, в ночи, он даёт себе слово гнать, гнать в шею сладкий соблазн. Выгнать нечистого духа и вымести след из души. А толку? Не стало бы ещё в семь раз хуже.
– Почему хуже? И кого, вы сказали, гнать и гнать? – спросил А.В. – Да-да, – пишет он мне, – это я хорошо помню, что переспросил у NN. Иначе бы не последовало притчи.
– Новый Завет, Nouveau Testament. Слышал? Про духа, это оттуда. Дух нечистый выходит из человека, даже не выходит – скорее его прогоняют. Решают бороться. Запретить всю дрянь, всё нечестное, грязное, растленное. Коррупцию, проституцию, а ещё пьянству бой. Вышибли, короче. И вот этот дух ходит, ища покоя, по безводным местам. Присосаться не к кому. Не из кого кровь пить. И говорит себе: пойду обратно. А приходит: всё чистенько, убрано, никого нет, прямо красота. Готово к заселению. И объявление висит: место свято, от всего нечистого освобождено! Наверное, нечистый дух аж присвистнул от удачи: идёт, берёт с собой семь таких, что были злее его, и вселяется с компанией. Нет, запрещать, давать себе обещания, принимать меры, бесконечно очищаться, как йоги, или взывать к чувству долга – всё может кончиться злейшей катастрофой.
– Что же делать? – Я весь был сочувствие и участие.
– Нельзя освободиться от тьмы: нужно наполниться светом. Промежуточных состояний не бывает. Я, например, понимаю: вот это плохо. Ну а что же хорошо? Мало закрыться для лжи – надо открыться правде. Живой, любимой правде.
– Законной жене?
NN рассмеялся, но глаза остались грустными, а может, просто усталыми.
– Неужели ты думаешь, я тебе о себе рассказываю?
– А разве нет? – простодушно ответил А.В.
– Ну думай. Тебе полезно. Жизнь у нас большая впереди, придётся ещё бороться. Только не держи квартиру пустой.
Вышла из отделения экипажа стюардесса, сообщила, что самолёт через несколько минут совершит посадку в столице Алжирской народной Джамахирии, городе Алжире».
Перемена одежд
Могучее дерево высится по ту сторону улицы, и тени от его ветвей чётко рисуются сейчас в глубине комнаты напротив окна, на бежевой стене. Одна ветвь похожа на протянутую руку с ладонью ложечкой. Солнце вот-вот исчезнет за краем саванны, и в эти минуты оно смотрит сразу во все окна отеля. Светлая стена вся покрыта сеткой прозрачных трещинок, и они незаметно передвигаются вверх. Вот тонкая ветвь берёт в свою ладонь круглые настенные часы, потом переходит на циферблат и держит некоторое время цифру 1Л.
Часы вроде старинные. Но я знаю, что в них батарейка. Сделаны под антикварные, с какого-то образца, а те оригинальные были, может быть, не настенными, но высокими напольными, с блестящим маятником, с хриплым шипением и боем. Отбивали торжественно часы. Вот они били семь раз, и тогда через залу проходил старый слуга, одетый во что-то странное, в подобие ливреи. Он подходил к высоким белым дверям, чуть приоткрывал одну половину и, не заглядывая в кабинет, тихо говорил:
– Ваше превосходительство, чай подан. Прикажете свечи поставить?
– Поставь, дружок. И Наталью Фёдоровну…
– Пригласил-с.
– Ну и я сейчас.
Я представляю себе это здесь, в душной Африке, и мной овладевает сложное чувство, какое-то глубокое волнение, которое просится стать видимым, услышанным, на вольный воздух, к людям. Петь я не умею, рисовать тоже, а слова… Они почему-то не находятся. Те, что приходят на ум, кажутся фальшивыми. Но мне представился – не мелодией, не картиной, а в какой-то дымке, и сразу сжал сердце – господский дом в Тульской губернии, дорога к нему занесена снегом, морозно, и небо на западе ярко-оранжевое. А тонкая полоска над лесом, в которую погружается неслепящее белое солнце, пепельно-серая, и в двух окнах невысокого дома с деревянными колоннами появился свет. И мне дышать становится трудно, потому что всё это: зима, и те люди, и их разговоры – касается меня.
Конечно не потому, что я видел картинки и читал о похожем. О таком вот тихом доме, в котором потрескивают рассыхающиеся полы, а за окнами ночью свистит ветер, а солнечным утром на дворе под мягкими валенками громко скрипит снег. Читал? Наверняка. Но это не вычитано. Я просто знаю, примерно как знают язык, не уча его, а возникнув в нём и им дыша, весь этот быт и уклад изнутри. И куда бы ни занесла судьба, я живу ещё и там. Меня греет и утешает этот ясный просторный январь, я вижу грустную барышню в кофте у камина, её отца в тёплом халате с трубкой, блестящий самоварчик, и кувшин со сливками на столе, и корзинку с сухарями, и блюдце с колотым сахаром. И ещё я знаю хозяйку дома, которая сейчас не с ними в гостиной, но лежит у себя наверху, в спальне. Дремлет и кротко угасает. Глядит долгим вечером сквозь разрисованное инеем стекло на синие сумерки, вспоминает молодость, переполнявшее её тогда, давно уже, предчувствие бесконечной жизни впереди и сладкое ожидание любви.
Я припоминаю всё же и книгу. Она стояла на нижней полке левого шкафа: тёмно-зелёный вытертый корешок с двумя потускневшими золотыми полосами. Мемуары некоего Неклюдова, дипломата царской России. Впрочем, я могу ошибаться. Неклюдов писал уже в эмиграции, и его мемуары я читал позже, в библиотеке, а те, что на нашей полке, – это более ранние записки, начала века. Кого-то другого. А вообще-то всё это неважно. Вовсе и совершенно не принципиально. Я, например, точно помню, как утром играло солнце в красных и жёлтых листьях 1 сентября (осень наступила рано), когда я счастливый спешил в неизвестный новый мир, в институт, в который я – голова кружилась от счастья! – поступил. А какой день недели тогда был, и сколько именно было времени на часах, и какие на ногах у меня ботинки… Ну какое это имеет сегодня значение!
В наших комнатках, в узеньком переулке моего родного большого города, очень далёкого в эту минуту, когда я смотрю на стрелку часов на стене, книги стояли плотными рядами в шкафах за стеклом и на открытых полках: нарядные и внушительные, в коже и позументах, но и совсем бедно одетые, истрёпанные. И те, которые бедные, в них, мне казалось, была одна только суть, одна сдержанная и серьёзная речь в простом платье. А ещё книги лежали одна на одной на подоконниках, и верхняя быстро покрывалась пылью, и бабушка удивлялась – недавно же протирала; и ещё они спали в высоких стопах под столом, перевязанные верёвками.
Однажды из тесной квартиры мы переехали с книгами, шкафами и кроватями в другую, просторнее, мне исполнилось тогда десять лет. Уехали на новую неуютную землю, на необжитую окраину. Собирались-собирались – и вдруг пасмурным утром два грузчика вынесли почти всю мебель, а мы сняли со стен фотографии и несколько картин и оставили светлые квадраты на обоях. Сняли ещё занавески с карнизов, и открылись оголённые окна. Как будто внезапно их выставили средь бела дня на позор. И пока мы ещё несколько дней заходили в дом, окна смотрели на нас, мне казалось, изумлённо и скорбно: неужели можно вот так жестоко всё бросить? Со всем родным порвать? Я чувствовал вину перед ними. И перед кафельной печкой, нас согревавшей в дождливую осень, и перед вытертым до белизны паркетом.
А многие книги, которые поблёскивали, рыжели и зеленели на своих неизменных местах на полках, разметало время, переезды, разрешения почитать без строгого учёта… Ах, какой маленькой на самом деле оказалась наша комната. Просто удивительно, сколько в ней всего могло помещаться! Словно она была, пока мы жили в ней, безграничная как память, которой ежедневно пользуются. И вот я пытаюсь извлечь из запечатлевшегося прошлого случаи и разговоры тех дней, когда мы спокойно жили здесь и никуда ещё не собирались. Мне лет пять, сейчас меня повезут на троллейбусе в детский сад, и я сижу в бархатном вельветовом пиджачке и покорно жду. В груди страх и тоска.
На стене прямоугольный ящичек с закруглёнными углами – радио. Женщина-диктор рассказывает о какой-то встрече партии и правителей, которая состоялась вчера в Кремле. «А где она?» – спрашиваю я. «Кто?» – не понимает бабушка. «Эта тётя». – «Какая тётя?» – «Которая сейчас говорит», – и я показываю на приёмник. «А! – бабушка смеётся. – Не знаю. Она тебе не тётя, это диктор. Наверно, на Новокузнецкой, или на Качалова, в звукозаписи. Она сейчас сидит в маленькой комнатке у микрофона и читает, что ей написали, а мы её сейчас слышим». – «Она так далеко?» – я не могу поверить. «Ну и что! – недоумевает бабушка. – Она говорит, и её слова плывут по особенному воздуху, и так вот она сейчас пришла к нам сюда и разговаривает, но видеть её нельзя, она невидима». – «А почему она к нам пришла?» – «Она ко всем приходит, она сейчас везде, и даже если кто-то сейчас слушает радио в детском саду, то и там он этого диктора услышит».
Больше я не расспрашивал. Я понял, воображение мне это как-то позволило: если она, эта диктор, которую я почему-то тоже боюсь, как воспитательницу в саду, разговаривает из своего дома везде и со всеми, и с теми прохожими, которые идут по улице, и с ребятами в школе, и со взрослыми в министерстве, куда мама ходит на работу, – только поверни круглую штучку, и она заговорит, – то это потому, что всюду плывёт этот особенный воздух, прозрачный и неслышный, и попадается в такие, как у нас, ящички на стене. Это понятно, хотя и не очень. Но почему во всех радио и всюду одна и та же диктор, этого объяснить я себе не мог. Увидеть и понять, как же это далёкое и близкое, долгое и мгновенное может уместиться всё сразу в одном ящичке, – ребёнку невозможно.
Из своего нынешнего опыта я могу предположить, что если мысль, облечённая в голос, находится одновременно везде, и ранним утром звучит на экваторе, в кают-компании корабля в Атлантическом океане, и она же, с обратной стороны планеты, в то же самое мгновение ночью звенит в палатке альпиниста в горах Тибета, то всё видимое для неё – и океанские волны, и снега в горах, и сумерки, и рассветы – только воздушный тающий рисунок, фон, перемена одежд. Эта мысль одновременно находится везде. Для нас она пространна, огромна и длительна. Но не для бесконечности, по отношению к которой она вполне обозрима и нетяжела, умещается крошкой в ладони. И вот получается, что вся долгая и неохватная жизнь вырастает из одного зёрнышка, как будто из одной точки. Но если взглянуть с большой высоты, то вся эта ширь и глубина в эту точку, в зерно, или в замысел – легко и стремительно сворачивается. А развёрнута она и подробно объяснена для того, чтобы мы в ней постепенно вырастали и её узнавали.
А барышня, зовут её Нина, пытается читать, но смотрит долго на страницу и не переворачивает её. Пригубила остывшую чашку, поднялась, поцеловала отца и сказала, что пройдёт к маме. Отец смотрел ей вслед с болью: он мучается сердцем, и ничего ни для кого не может сделать. Её друг на Кавказе, и писем нет давно, в доме тихо и печально, а супруга слабеет с каждым днём. Нина прошла к матери, и та вдруг, увидев дочь и словно очнувшись, заговорила быстро, спешила сообщить что-то радостное и важное: ей виделось, отчётливо, наяву, что Дмитрий неожиданно приехал к ним.
– Мама, зачем вы… Ну хорошо, дай Бог!
А к ночи за окнами залился колокольчик, и захрипели кони, и кто-то деликатно, но размеренно и неробко застучал в двери.
Да, действительно, Дмитрий тогда прилетел к ночи, гнал лошадей от самой Тулы. Из бедных лошадок пар валил, как из труб, наверно, так мальчику рассказывали потом – их распрягли и повели на конюшню. Нине чуть не стало плохо. С этого возвращения – первые страницы воспоминаний – начинается рассказ внука о своих деде и бабке, Нине Ивановне и Дмитрии Семёновиче, и об их детях. Автор пишет о своём отце и о трёх своих тётушках, и о своей матери, о детстве в имении, и об учёбе в Москве. Прорисовывает линии, которые, как голубые вены души, изнутри питают сердце и объясняют мир и побуждают видеть и чувствовать жизнь неповторимо, как только этот «наследник всех своих родных» может.
Сосед мой по номеру (скорее это я – его, он глава нашей делегации из двух человек), сидя в кресле в одних шортах – жарко, а кондиционер он не любит, – в поте лица, часто вытирая руки полотенцем, пишет художественно-публицистический отчёт о начавшейся африканской поездке для «Литгазеты». Вот об этой самой командировке в Мали, где мы в данную минуту находимся, и о столице государства, о городе Бамако. Прилетели позавчера, а вчера шеф уже сел покрывать свой широкий блокнот ровными, как из тюбика выползающими строчками. Я посматриваю на этот процесс шелкопрядения с любопытством. Откуда он всё знает? Вот теперь всё о Мали. Вдруг мы завтра заблудимся в саванне, если ещё раз туда поедем? Да мало ли что может случиться! Нет, пишет.
Меня вчера возили на экскурсию в саванну, а начальник был в это время у нашего посла. Ровная среднеафриканская степь, почва пыльно-каменистая, и на ней растут деревья, а некоторые очень редкие – толстые вековые баобабы. Никто не может сказать, сколько им лет, сто пятьдесят, сто семьдесят, иному и больше. Самые старые, ещё не сухие, но покрытые листьями вверху, зияют дуплами величиной с хорошую комнатку. Главная же достопримечательность – громадные, отполированные ветрами и дождями камни, которые лежат друг на друге как исполинские игрушки. Как будто исполин какой-то, забавляясь, поставил их друг на друга, и они, многотонные, держатся на высоте пяти или более метров, опираясь на нижние глыбы какими-нибудь двумя точками. И никакой ветер их не колеблет. Они составляют арки и пирамиды, самые небольшие камешки не меньше легковой машины, а есть и внушительней, с избушку или вертолёт. И вот о происхождении этого маленького чуда никто ничего убедительного не сообщает. Мой гид, малиец Эме, историк с европейским образованием, позволив мне выразить удивление и восторг, спросил:
– Ну что, красиво?
Я ответил, что просто нет слов.
– У вас ведь, на севере, такого нет?
– У нас? Конечно, нет. Таких вот камней нет, только если где-нибудь в Каракумах? Но… – я вспомнил отечество и на секунду задумался.
– Да? – Эме улыбался.
– Россия, – сказал я, – вы же знаете, она такая большая, что у нас много неожиданного, чего мы сами никогда не видели и не увидим.
– И даже такие камни?
– Ну не такие, другие, но тоже необъяснимые. Россию же за долгую жизнь не обойти. В ней, например, в самом её центре, есть тоже простор, бескрайняя холмистая равнина, в Орловской области, в июле, в полдень, дрожащая от зноя даль. И, несмотря на зыбкий жар, такая бескрайняя и ясная даль, что кажется, можно заметить на краю земли многолюдные города и берег моря. А от земли поднимается волнами жаркий пряный дух.
– Приятный запах? От чего?
– От спелых трав, от даже не раскрывшихся, но ждущих прихода вечера цветов и от горячей земли. Степь благоухает. А через полгода, зимой, эту равнину покрывают высокие снега, двух- и трёхметровой высоты, особенно в оврагах. В пасмурные дни они сливаются с небом на горизонте, а в январе на солнце сверкают так, что смотреть невозможно. И тогда, на морозе, ну когда холодно (у вас даже, не обижайтесь, слова такого нет – мороз), лицо будет ласково обжигать совсем иной воздух: колючий, а на вкус – несравнимой свежести и радости.
Малиец замолчал. Я спохватился:
– Да не подумайте, везде красиво. А здесь просто даже невероятно! Вот я помню, стою во Франции, на побережье, как странник над морем тумана на картине Фридриха – так вот себя и представляю, вспоминая, странником на этой картине, только что без трости, – и смотрю с белых нормандских скал на океан: он подо мной гудит глухо и заунывно. Моросит, и на губах соль и йод, как будто ветер поднимает пену, и воздух наполняет влажная взвесь, и глаз не различает, конечно, где океан сливается с небом. Под ногами, метрах в десяти от меня, проплывает птица с распростёртыми крыльями – альбатрос, должно быть. Пахнет рыбой, тёплым ветром и сочной травой. А сзади маленькая готическая церковка, из серого камня. И такое веселье на душе, хочется что-то полезное делать, дружить, мчаться кому-нибудь помогать…
– О, это понятно, – радуется по-детски Эме.
Мой начальник строчит без помарок и исправлений. Скоро придут за нами, повезут на встречу с учащейся молодёжью, студентами и лицеистами. Он будет говорить о небывалых достижениях прогресса. Это, я думаю, всего лишь его работа, а не глубокие убеждения. Ну не глупый же он! Неужели циник? Но ведь и я тоже, если во всём участвую. Единственно – ищу я себе оправданий – когда он допускает совсем безответственные высказывания о надвигающемся безмятежном и несущем счастье благосостоянии человечества (этого всемирного богатства вот-вот добьётся наука и справедливая политика) и о близком подчинении и усовершенствовании природы, тогда я перевожу его с русского на французский уклончиво и иронично, не выдавая себя мимикой. Противоречить не имею права, но повторять глупости не могу. Язык не поворачивается буквально его цитировать. У меня и слова почти те же или близкие, что в его речи, но смысл смягчённый или двойной. Я говорю: существует и такое оптимистическое мнение, что наука откроет нечто очень полезное, а бескорыстные политики (которых, конечно же, должен найти наконец-то вечно не ошибающийся народ) вдруг незамедлительно подхватят и используют научные открытия, так что это позволит стремящимся к благополучию достигнуть его и наслаждаться изобилием материальных благ. И наконец мы, если примем очень серьёзные и взвешенные решения, сможем так повернуть реки и так сдвинуть с места горы, что появится много свободного времени. Пропаганда наших социалистических преобразований обязывала начальника, лицо официальное (даром что писатель), делать все эти неумные заявления. И ясно же было и мне, и, думаю, ему, что серьёзно к вынужденным речам относиться нельзя, здесь только политика и деньги. Борьба за сферы влияния.
Я ищу в нём положительного. Человек зарабатывает как может. В нём есть много хорошего. Он защитит, мне кажется. Не выдаст. Он любит своих детей и побаивается жену. Вот завтра поедет во французский супермаркет, а потом ещё на рынок, за шмотками. Но время от времени мне тяжело и стыдно. Совесть ноет не от того, что привираю, что хладнокровно корректирую речи с трибун, своя рука (язык) – владыка. Перевожу недальновидный энтузиазм в условное наклонение. Нет, не от этого. А неловко от того, что согласился этим заниматься. Ох, как же мы серьёзно забылись, ведём себя на пиру не как вежливые гости, а как рабы, которым показалось, что они расправились с начальством. И вот после своей победы они шумно и жадно жрут и упиваются. А когда всё доедят, тогда перебьют друг друга. А могли бы сами быть благородными распорядителями, которые спокойно и мудро берегут то, что дано им во временное пользование. В том-то и дело, они об этом не думают. Всё, что перед глазами, – их добыча. Я сомнительно успокаиваю себя тем, что ещё Феано (или кто-то под её именем), жена Пифагора, два с половиной тысячелетия назад писала: «Мир кажется пиром злодеев…» И не ей одной казалось и кажется…