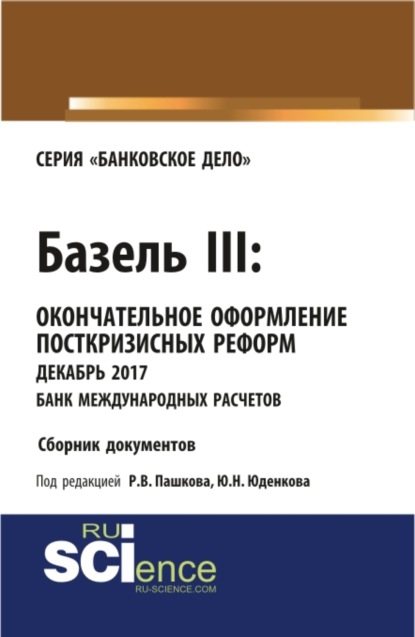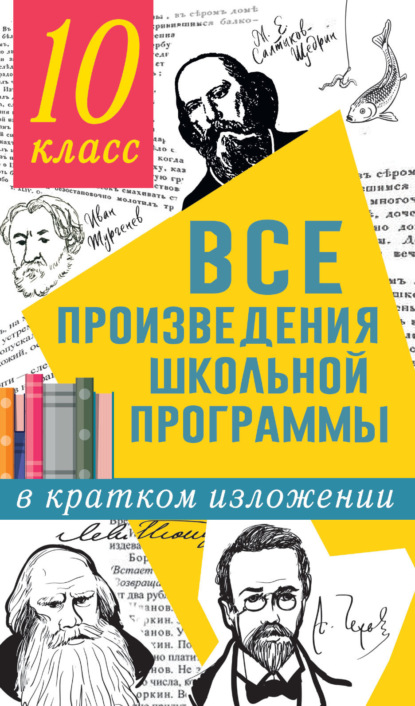Что нам в жизни светит…
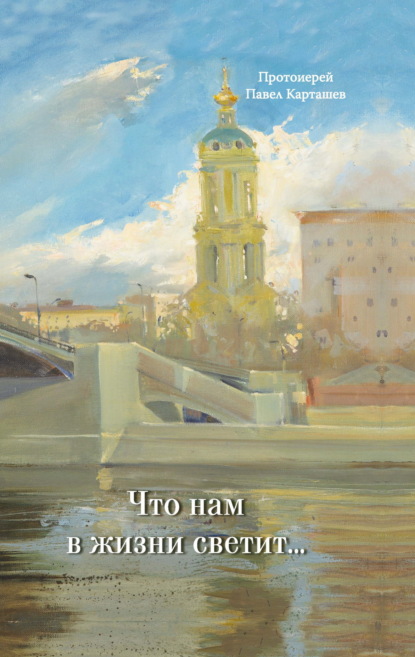
- -
- 100%
- +
Стучат в дверь.
– Да-да, прошу вас, войдите, – я иду в прихожую и закрываю за собой дверь в комнату, а начальник, слышу, бросается одеваться. – Добрый вечер, господа, а мы уже готовы, через пять минут спускаемся.
На площади у отеля зажглись огни. Едем. В городе даже в сумерках стоит гул – большой африканский рынок, истошные крики, велосипедисты снуют между машинами, низкие домики и потоки женщин, обмотанных от пяток до подмышек метрами пёстрой ткани. Есть и многоэтажный центр. Над городом, на западе, темнеют низкие горы, солнце недавно село, и алое небо на горизонте гаснет. Сочная тёмно-красная полоса истончается на глазах: только задержи взгляд – и заметишь. И на эту полоску надвигается светло-сиреневый полог. А выше небо становится фиолетовым, а ещё выше, над нашими головами, оно уже тёмно-синее, а к востоку – почти чёрное.
Стивенсон писал стихи, где нежность, как молния в непроглядную воющую ночь, разрывает тьму и ураган и на мгновение всё делает ясным и надёжным среди бури. Стихи про корабль, боровшийся со штормом в Рождественскую ночь. И среди свирепых волн, на обледеневшей палубе сын вдруг прозревает. В таинственной дали ему открывается родной дом:
Я видел знакомую комнату, где тихий шёл разговор,Блики огня золотили старый знакомый фарфор;Я видел старенькой мамы серебряные очкиИ такие же точно серебряные отца седые виски.Бурный океан и тихий дом, бесконечное звёздное небо над безмолвной саванной. Нет, совершенно не случайно, не для того, чтобы всё видимое свернуть и выбросить, мир вылеплен с такой любовью! Мы едем по мосту в направлении аэропорта, за мостом свернём к университету. Под нами сейчас тихий Нигер, и фонари в воде протянулись вниз по течению колеблющейся гирляндой. А красиво только то, что хранит в себе невидимую жизнь. Незаметную для глаз. Жизнь греет и светит изнутри. То есть свет внешний – свет благодати, солнца, воли, разума – должен был, для расцвета жизни, соединиться со светом внутренним, со многими светиками, зажечь фонари, огни в пространстве. Ведь над всем и во всём, как неотменяемая связь всего доброго со всем нужным, живёт одна воля и мысль: да будет! В каждом новом биении сердечной мышцы: да будет! Во вздохе и выдохе: снова оно. Жизнь всё время начинается, чтобы всегда продолжаться. А звёзды меркнут, фонари перегорают, крошится мрамор, к смерти и в самом деле всё готово. Мир тонок и непостоянен. Он проходит. Он проходит, чтобы остаться по-новому. Красота его обновляется так, что становится преображённой и, однако, узнаваемой. Нетленной. Божии слова не отменяются. Просто испачканную одежду надо вымыть, перешить и уже относиться к ней по-взрослому, серьёзно.
«В началех Ты, Господи, землю основал еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та погибнут, Ты же пребываеши: и вся, яко риза обетшают, и яко одежду свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и лета Твоя́ не оскудеют». По-русски этот стих Псалтири – «яко одежду свиеши я» – перевели так: «Словно ризу, совьёшь Ты их, и преобразятся». Можно и проще: «Как одежду, Ты переменишь их, и изменятся».
Перед нами ряды ожидающих нас молодых африканцев. Я забыл уточнить: в Мали мы побывали в середине 80-х годов XX века, в информации тогда ещё не тонули умы, лавина пустых новостей и бессмысленных сообщений ещё не крошила время в лёгкую пыль, и человечки не бились в мировой сети, как пойманные рыбки. Нас встречали здоровые проголодавшиеся умы, смотрели на нас с жадным любопытством. Мы, по их мнению, прибыли из другого мира, из незнакомого северного края, где круглый год бледные и неторопливые люди ходят одетыми, потому что им всегда холодно, как в камере сильной заморозки, по-нашему – морозилке. Мы, разумеется, за три минуты развеяли предрассудки, оказавшись тоже заводными и не менее острыми на язык, чем недавние европейские хозяева малийцев, французы. В общем, оказались почти своими – земляками, жителями одной общей Земли. Жалко лишь, что времени получше познакомиться у нас было мало.
Потому что через два дня после встречи в университете из африканских +40 мы уже приземлились в Шереметьево, на дворе стоял наш переменчивый февраль, оттепель, 0…-1. Грязный снег на дорогах и низкое серое небо. Но своё, родное.
Что я вынес – сейчас могу сказать определённо – из той поездки? В памяти сохранилось большое университетское помещение – в нём и лекции читают, и в волейбол играют – с сетками вместо стёкол в окнах; внимательные и удивлённые лица шоколадных, большеглазых и белозубых студентов, которым я читаю по-французски Пушкина. Они мало знают о нашей северной жизни, но уже кое-что знают о жизни вообще и поэтому затаив дыхание слушают повесть «Метель». А в ней родные нам – и неужели им? – Марья Гавриловна и полковник Бурмин. Они принимают близко к сердцу, это хорошо видно, переживания и чувства далёких для них, ну хотя бы расстоянием, людей.
И я рисую словами чудо: с неба мягко падают горы лёгкого пуха, очень холодного, по нему нельзя ходить босиком, от него защищаются одеждой, но он тает в тепле и превращается в чистую воду. Ветер подхватывает его и переносит целые холмы с места на место, кружит, заметает и укрывает этим пухом дома, заносит дороги, не позволяет ни идти, ни ехать и не даёт ничего видеть дальше протянутой руки. Это называется снегом, а кружение его под ветром зовут метелью, или вьюгой. И вот метель закружила и направила в разные стороны сразу нескольких людей: собиравшихся встретиться – разлучила, а совсем незнакомых – удивительно соединила. Всё это она устроила ночью, так что встретившиеся в храме, в полумраке, и ставшие участниками святого и ответственного события (все, кроме одного) только в конце обнаружили, что незнакомы. И метель тут же разметала их, разлучила надолго. Но так получилось, что повстречавшиеся обещали друг другу любовь и верность перед Богом. Молодой офицер в ту ночь – по легкомыслию. Она – как будто в полусне, в полуобмороке. Да, они стали мужем и женой. Я рассказал им, как вообще торжественно, красиво и мудро начиналась семейная жизнь в христианской России. А потом досказал повесть до счастливого конца: до чудесной их встречи и какого-то просто волшебного узнавания друг друга.
Студенты мои готовы были стать в хоровод, что было бы для них привычным выражением радости и одобрения. Они громко восхищались серьёзностью героев: вот произнесли два человека священные слова – и хранят им верность во что бы то ни стало.
Почему не создали семьи после войны? Свидетелей-то ночного события не осталось. А потому что венчались в церкви, а это для них высоко и важно, как сама жизнь! Одна совсем юная девушка, лет восемнадцати, дождалась меня в холле и спросила: давно ли всё рассказанное произошло? Я отвечаю: лет сто семьдесят назад. Она не ожидала. Стоит и смотрит на меня, а по лицу пробегают мысли. О чём она думает? Для неё, я вижу, сто семьдесят лет – непредставимо много. А те люди, – может быть, думает она, – их чувства, и то, что они говорили, всё так понятно и близко, что даже не верится, что всё это было жутко давно.
В молодости как-то неясно, кто из нас где в истории: предки ли остались безнадёжно позади, или мы пытаемся их догнать и поучиться у них верности и вообще жизни? Или, что вернее всего, мы все на разных расстояниях от одного солнечного центра. События и лица не совершают путь из прошлого в будущее, но окружают начало: перед этим источником растут, умнеют или портятся, к нему приближаются или от него бегут. Никогда и нигде нельзя идти против Бога.
От того путешествия в памяти остались громадные гладкие камни, акацию и баобабы в саванне. И господский дом в Тульской губернии. Дорога к нему занесена снегом, морозно, и небо на западе ярко-оранжевое, а тонкая полоска над лесом, в которую погружается неслепящее белое солнце, пепельно-серая, и в двух окнах невысокого дома с деревянными колоннами появился свет.
С высоты
Позвонили вечером в храм, попросили священника к тяжелобольной. На следующий день после Литургии пошёл по адресу: нашёл одноподъездную двенадцатиэтажную башню. Снаружи она симпатичная. У подъезда сирень. Внутри – мрак. Пыльный цементный пол в выбоинах, прутья лестничных перил свёрнуты в бараньи рога, кнопки лифта прожжены сигаретами, стены размалёваны какими-то фантастическими рожами и исполосованы бранью. Наскальные рисунки далёкого человечества говорили об охоте, о жертвоприношениях, кое-что рассказывали о быте. Отражали то, что видел и чем жил человек.
Подниматься мне на двенадцатый этаж. Вошёл в скрипучую кабинку, со стоном сдвинулись за мной её дверцы, и я поплыл вверх, трясясь, с мыслью: а когда-то же должна эта разболтанная люлька низвергнуться в шахту. Не со мной ли? Нет, меня миновало. Я приехал. На лестничной площадке мешки с картошкой, изодранный диван и журнальный столик с миской окурков. В квартире душно.
Вот ещё один человек, старенькая, пожелтевшая от болезни женщина покидает ту жизнь, которая казалась ей когда-то, без сомнений, необозримой, единственной, полной будущих радостей. Теперь у неё всё позади, теперь последние её дни здесь, временами почти агония. Но то, что с ней, ещё очень даже неплохо. Ей восемьдесят шестой, вокруг тихие серьёзные родные. Трогательно ухаживает за ней её невестка: видно, что ни у кого из домашних так хорошо не получается её вертеть, подмывать, поить с ложечки. Онкология – наша современная чума, не щадящая и совсем молодых.
А бабушка, к общему удивлению, пришла в себя, сама разговорилась, так что мне даже пришлось просить всех удалиться за дверь: момент важный – человек начал исповедоваться. Мне-то ясно, что есть тайны сердца; бабушке сейчас всё равно; а на лицах некоторых родственников изобразилось недоумение: ну зачем прошлое ворошить, и что она там может сказать путного…
Потом я дверь раскрыл, невестка мне принесла недостающее для соборования, пособоровал и причастил старушку. Она незаметно вся подобралась, как будто успокоилась и прояснела. В прихожей, провожая, дочь и невестка стали спрашивать меня, что нужно, чтобы и им прийти на исповедь и причаститься. Я отвечал, что для начала – прийти. Что нужно, чтобы ребёнка научить наукам? Отдать в надёжные руки, проверенным учителям. В храм вы придёте не ко мне. Я буду только свидетелем, помощником, провожатым. Надежней Божиих рук нет.
Через три дня старушку отпели. Всё, о чём пишу, случилось год назад. Родные её, говорившие со мной в прихожей, всё идут. А визиты такие, по приглашению, такие вот «требы», священники совершают постоянно. И почему это мне тот день так врезался в память? Необъяснимо. Бывает.
Покинув квартиру и даже не думая о дряхлом лифте, захотел спуститься вниз по лестнице. На лестницу нужно было выйти через балкон. Там двое парней пили пиво и с таким изумлением взглянули на меня, что я невольно улыбнулся. Можно их понять: стоим, мирно пьём пиво, курим о том о сём, и вдруг выходит, в чёрном до пола, на груди малиновая бархатная сумочка с крестом. Нечасто встретишь такое.
Я готов был прошмыгнуть мимо них, чтобы излишне не смущать, но посмотрел на открывающийся с балкона простор и на пару секунд задержался. Да, это было майским солнечным днём. Во второй половине месяца. Когда зелень уже вся проявилась, но она ещё и не зелёная, не окрепшая, а какая-то туманная, прозрачная. И оттого деревья и кусты стоят в дымке. А издалека, с высоты, вся округа погружена в бледно-золотое сияние. Вот река в этом сиянии, высокие дома на горизонте и слева, за рекой, наш старый храм, тоже в светлом облаке. Всё очень стройно и чисто с высоты. Я пошёл спускаться, не обращая внимания на настенную живопись и письмена.
Этаже на седьмом или шестом меня всё же что-то остановило. Словно в потоке однообразных глухих звуков, неожиданно возник звонкий голос и пропал. Я обернулся, ища глазами то, что заставило меня остановиться. Вот оно: почти детским, прилежным почерком, каким раньше писали отличницы в тетрадках, старательно выводя все изгибы, наклоны и связи, причём последние утончая, на стене было… исполнено письмо. Возьму его здесь в кавычки:
«Ты спросил меня, что я больше люблю, тебя или жизнь? Я ответила, жизнь. И ты ушёл, так и не поняв, что жизнь – это ты».
А как же ей тебе следовало ответить? Чего ты хотел от неё? Может быть, она всё сказала тебе глазами. Но тебе было неинтересно. А ей немного больно. Но что-то такое большое, гораздо большее, чем может показаться, встаёт за этими словами. Что? Мир задуман и устроен так: всё самое великое, ценное, нужное имеет своё лицо. Единственное, узнаваемое. Живое лицо. У жизни есть лицо. Невозможно любить жизнь без лица. Жизнь и обращена к нам лицом. И только лицо, личность способна это увидеть. С жизнью заговорить.
Парашютисты
Люди наблюдательные и мыслящие утверждают, что человеку лучше и правильнее понимать себя и жизнь помогает… да просто изменившаяся точка зрения. Встал на другую точку – и многое увидел по-новому. Надо только приучать себя к вниманию и размышлению. И не забывать того, что с нами происходит.
Несколько лет назад один семинарист – он уже священник и отец семейства – представил мне в качестве сочинения воспоминание о своей армейской службе. Назывался его рассказ «Первый прыжок». Дело было под Омском. Привезли ребят на базу рядом с аэродромом, мороз градусов 35. Ожидание затянулось. Тут команда: прыгать, отжиматься. Ребята ропщут, ругаются вполголоса. Потом оценили правильность приказа: нельзя было застывать перед первым прыжком с парашютом. Наконец загрузились в самолёты. И хотя не раз уже прыгали с вышки и все правила и приёмы отработали до автоматизма, а всё равно страшно. Летим. Лампочка зажглась. Команда. Почему-то упрямо не верится, что вот уже настал момент. Первая партия пошла. И нет её. Слегка подталкивают сзади. Шагай. Передние двое как-то закрутились, как в воронку, и понеслись вниз. И вот уже ты летишь со свистом, считаешь по инструкции секунды, так – пора, дёргаешь, встряхивает и… Небо внизу, вверху земля, солнце ослепительное. А вокруг твои ребята, разноцветными бутонами в огромном небе, и из всех наружу рвётся то, что сдерживалось неизвестностью и недавним страхом.
И вот тут, и вот тут всё обнаружилось, в первые мгновения. Кто-то кричал изо всех сил: «Господи, слава Тебе! У-р-ра!» А большинство, и это замечательно, звали или просто называли первое в жизни слово: мама. Просто – мама. И наконец, пусть и единицы, но и они тоже раскрылись: несколько человек отвратительно и безудержно ругались матом. Вот такой расклад получился в небе: на одном краю свет и чистота; посредине большое земное тепло, которому ещё предстояло и предстоит выбирать своё будущее – тянуться к чистой жизни вместе с дорогими сердцу людьми или сползать в темноту. А на противоположном краю – смрад и грязь.
Для Бога человек – не забава. Личность. Лицо перед Лицом. Всё подвластно Богу. Одного Он не может Себе позволить: сделать так, чтобы Его все любили. Хотя бы и невольно. Потому что невольная любовь – это что угодно: рефлекс, инстинкт, ложь, – но никакая не любовь. О Боге надо спрашивать, Его искать, о Нём читать, к Нему идти. Тот самый десантник, что написал о первом прыжке и ныне служит священником, на занятиях в семинарии, лишь заходила речь об определениях божественных энергий, о непостижимом и таинственном бытии Творца, весь как-то сдержанно веселел, радовался, становился, как говорится, «весь внимание» и однажды в конце лекции взволнованно вздохнул и попросил: «Пожалуйста, Вы рассказывайте нам почаще о Боге».
И человеку надо чаще напоминать, что он бесконечно талантлив и умён, и к тому же жертвенно добр; что он задуман и создан бессмертным, ибо сотворён бессмертным Богом как имеющий неограниченные возможности совершенствования. И все эти возможности Бог вручил нашей свободе. Мы свободны жить как хотим. А это ох как нелегко! На первый взгляд только кажется: вот счастье привалило, делай, чего душа пожелает. А делать-то надо с рассуждением, да ещё чистыми руками и любящим сердцем. Иначе таких дров наломаем! И уже наломали, уже. И из всей нашей жизни вытекает, что первый и самый важный вопрос в начинающем рассветать сознании – это должно происходить где-то в детстве или в раннем отрочестве – не о знаниях и умениях (навыки – техника бытия, но не энергия), а вот о чём: какой Он, Бог? Потому что какой Он – таким должен быть и я.
Две недели в Севастополе
Братское кладбище
Севастополь – это тест, лакмусовая полоска. Да и весь Крым. А этот город особенно. «Севастос» – высокочтимый, «полис» – город. Августейший, величественный. В советское время его имя переводили иначе, развивая, вероятно, идею величия: город славы. Но действительно, история двух его оборон, 1854–1855 годов и 1941/1942-го, говорит о немеркнущей славе. Подвиг защитников города в Крымской войне увековечен, волей императора Александра II, необычным Никольским храмом, пирамидальным, высоким, царящим над холмами братского кладбища. На кладбище покоятся русские адмиралы и генералы, офицеры морские и сухопутные, матросы и пехотинцы. Над могилами белые, словно выцветшие, колонны, на них бюсты военачальников. Стоят изящные часовенки, и рядом лежат громадные плиты братских могил. Склоняются над памятниками деревца, растёт повсюду колючий южный кустарник, разбегаются в разные стороны мощёные дорожки, провеиваются холмы ветрами, пропекаются солнцем, омываются дождями и покрываются в зимнее утро недолгим снегом. Кладбище-книга, несуетный город живой памяти.
Туда, на братское кладбище, на северную сторону, из центра Севастополя, от Графской пристани ходят катера. Набирают людей быстро. Молодёжь их по-местному зовёт смешно. Слышу разговор по мобильнику: девушке рядом кто-то звонит и интересуется, где она.
– Я в «кастрюле» сижу.
Курсируют студенты, школьники в этих «кастрюлях» каждый день, видят военные корабли, Михайловскую и Константиновскую батареи, Памятник затопленным кораблям. Привыкли? Не спрашивал. И о чём бы? Чёрно-синее море, а в другой день оно изумрудное, утром гладкое, к вечеру в барашках. Здесь оно всюду: и там, откуда его не видно. Оно уходит за горизонт, широкое и вольное, и им просто дышат, сидя на скамейке в безлюдном дворике. Его незаметно, повседневно впитывают глазами, не любуясь им, как гости, не смотря на него с идеей получить впечатления и пользу. Оно всегда и везде. И вместе с небом оно – один простор, одна большая ширь для души, живущей на берегу.
Херсонес
И древний Херсонес мне говорил о том же. Мы пришли туда в один из самых жарких дней начала сентября: 36 градусов показывал термометр в городе. Небо без оттенков синее, абсолютно безоблачное, море и впрямь чёрное, и на этом глубоком фоне белые колонны Херсонеса смотрятся как иллюстрация из хрестоматии по истории Древнего мира. Город этот врезается в море, подступает к нему вплотную, а море – к его укреплениям и домам. Кажется, что те Таврические греки жили по щиколотку в воде. На холмах, за городом, собирали пшеницу, пасли коз, в городе выжимали масло и давили виноград. Воевали с местными племенами. Князь Владимир, спустившийся к морю с севера, ощутил, вероятно, тепло и влагу. Не степь раскалённая перед ним, в которой привык воевать. Цивилизация, в храмах благовония, люди умелые и речь звонкая, со словами, словно отточенными морем блестящими камушками. До́кса Патри́ ке Ио́ ке Аги́о Пне́вмати. Ке нин ке аи́ ке ис тус эо́нас тон эо́нон. Амин
Херсонесу более двух с половиной тысяч лет. Обычно пишут в книгах и экскурсоводы сообщают, что он возник в V–VI веках до Р.Х., так давно. Словно возник когда-то и теперь развеялся во времени, остались одни руины. Нет – хочется возразить – ему именно сейчас столько лет. Он как ветхий старец, как патриарх в молодой семье. А внешне как будто да: всё у него в прошлом. Можно кино снять, демонстрируя исключительно работу археологов. А если поднять глаза – вон, рядом, километра не будет, в Карантинной бухте, которую когда-то облюбовали греки для своих судов, стоят военные корабли. Один, второй, и ещё мачты и антенны третьего, четвёртого за ними. И постройки на том берегу бухты – XX столетия. Живёт себе «старец» в людном месте: за остовами его стен, домов и храмов, за его узкими улочками и маленькими площадями, совсем недалеко, на возвышенности, шумит Севастополь, снуют автобусики, торгует рынок. И к руинам Херсонеса спускается обычная современная улица, на которой на одной стороне – воинская часть за забором, а на другой – сначала пятиэтажки, а потом, ближе к морю, коттеджи. Между ними ресторан «Белая гвардия».
Но с Херсонеса начинается то, что охватило и Севастополь, и Крым, и далёкие земли на север, восток и запад от полуострова.
В культуре всё, что существует, сделано кем-то. В природе всё, что существует, скажут материалисты, возникло само собой. Но «самособойное» раскрывается не сразу, а проходит этапы. В начале, по их гипотезе, был бульон – мировой. Из него повылезало многообразие форм. На примере любого растения и живого организма можно увидеть модель целого: сначала сжатость, нерасчленённость – зерно, живая клетка – а затем деление, развитие, расцвет. Это реализация внутренней программы, одинаковой, в общих чертах, для всех представителей данного вида: из зёрен пшеницы вырастут, при благоприятных условиях, колосья пшеницы, а не тимофеевки луговой. Как назвать эту внутреннюю динамику развития на языке философии или богословия? Одним из значений термина «слово». Слово как совокупность последовательно развивающихся идей, подчинённых некой организующей это развитие воле.
В культуре, в основе и в процессе любого производства артефактов, лежит именно так понимаемое слово. Здесь всё очевидно. Нет замысла? И нет понимания, как его реализовать? Ну что ж, тогда ничего и не появится.
В природе мы видим, что как раз всё появляется, но определённого рода люди никак не желают допустить саму мысль о нематериальной мысли (программе, внутреннем биологическом механизме), которая обладала бы ещё и энергией. Ну а каким же иным образом маленькое зёрнышко пробивает асфальт и рвётся к небу, на глазах превращаясь в ствол, выкидывая из себя ветки, покрываясь плодами? Это чудо природы, выросшую на дороге яблоньку я видел когда-то давно в Ельце, на окраине города. Кончался сентябрь, на ветках висели дички, и трещины на асфальте разбегались от ствола, как лучи. Есть энергия, и есть план её реализации. Что она, умная, что ли, эта сила? Да, умная, и она явно происходит из некоего планирующего центра. А сама яблонька – ствол, ветви и плоды – нет, конечно, она не умная. Она всего-навсего материя, сегодня цветущая, а завтра в печи горящая. Как не умны и, например, листы бумаги с чёрными буквами, переплетённые в одну книгу под обложкой, на которой значится «Преступление и наказание» или «Дон Кихот». Чёрные буквы подобны пальцам, бегающим по струнам внимающего книге ума. Невидимая сила, расправляющая семена и зёрна в благоухающие цветы и могучие деревья, зовётся логосом, словом.
Греческий (византийский) монах-богослов, живший в VII веке, святой Максим Исповедник, впервые внятно заявил, что в мире любое явление вызвано к жизни таинственно произнесённым словом, логосом, повелением стать, совершиться. В понимании преподобного Максима это повеление исходит от высочайших и совершеннейших разума и силы – от Бога.
Бог вне времени, и веление Его рождается вне времени. Не от временной причины, и не на время только, а навсегда. Я не мог не думать об этом, ходя среди развалин славного Херсонеса. Ходил – и всё повторялись во мне строки, когда-то написанные юным Лермонтовым в альбом девице о его, юного поэта, чувствах. И повод написания стихов к моей прогулке никакого отношения не имеет, и всё содержание лермонтовских строк совершенно о другом, совсем далёком от учения о логосах, и, однако же, как примечательно раскрывается смысл строки, настойчиво звучащей в памяти: «Другим предавшися мечтам // Я всё забыть его не мог; // Так храм оставленный – всё храм, // Кумир поверженный – всё бог!»
И вот раскопанный древний город продолжает жить, и он живёт как некий замысел, что до сих пор не перестал осуществляться, как начаток дальнейшего развития, которому ещё не положен конец, и этот древний город особым таинственным образом продолжает приносить плоды. Дело в том, что живы души тех, кто вложил в этот город свои души. Это не каламбур, а сущая правда. Возникшему нет замены, оно единственно. И оно не исчезает, бытие его и таинственно, и зримо течёт.
Вот крохотный храм, вернее – его остов: проступающие из земли фундаментные камни. Притвор на несколько человек, затем основное помещение, где едва уместятся двадцать. И алтарь – контур полукруглой апсиды. Престол в центре алтаря представлял собой, вероятно, простой обтёсанный валун, на плоской поверхности которого могли уместиться Святая Чаша, Потир и Евангелие. Здесь, перед Престолом, мог встать только священник, а где-нибудь сбоку стоял в тесноте диакон или ещё меньший по степени помощник. Места очень уж мало. Храм для одной улицы. Потому что неподалёку мог быть другой.