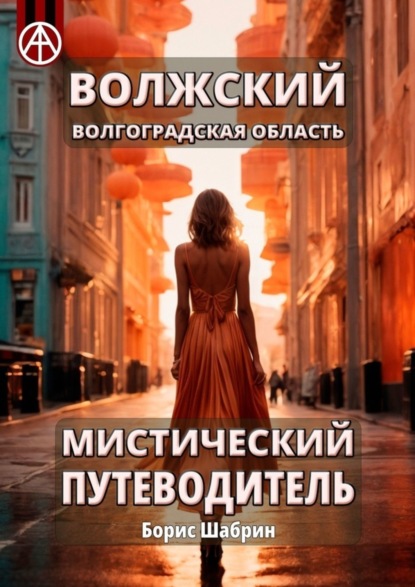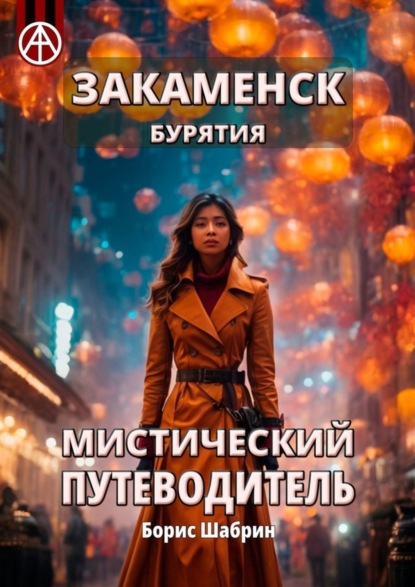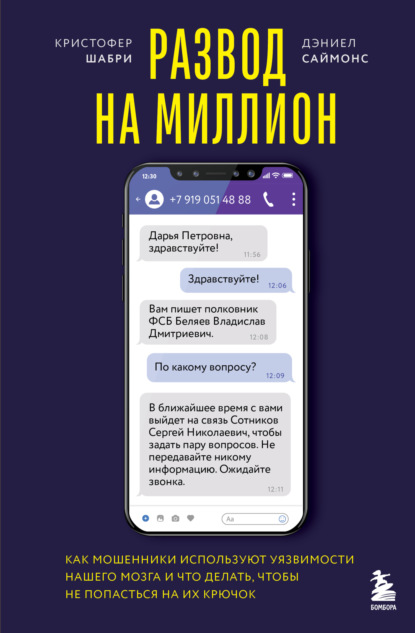Что нам в жизни светит…
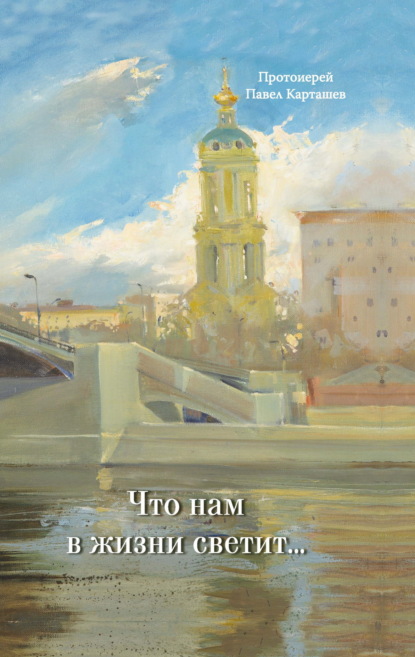
- -
- 100%
- +
Командование эвакуировалось на самолётах, вылетело в Новороссийск, оставив драться и умирать в Севастополе более 80 тысяч солдат и матросов Приморской армии и Черноморского флота. Все они были прижаты к берегу, к высоте 35-й ББ, к Казачьей и Камышовой бухтам, стянулись в Херсонес, на мыс Феолент. Раненые и измождённые, они ждали эскадры. Сдаваться не собирались. Но корабли за ними не приходили. Появлялись иногда на горизонте катера, и некоторые, кто был в силах, плыли к ним, но случалось, и возвращались, потому что на переполненные борта подняться было нельзя.
Страшные свидетельства из писем и воспоминаний очевидцев читаешь в витринах музея-батареи: волна плескалась в ряды охладевших тел; в иных местах друг на друге лежало и семь, и восемь человек.
Кадры июльской хроники запечатлели бесконечную вьющуюся колонну советских военнопленных: кое-кто в зимних скомканных и пыльных ушанках, в изорванной форме, измученные, с серыми лицами. Уходящая за горизонт, внутрь Крыма, река судеб. Они и их недавно погибшие товарищи, ещё за несколько дней перед этим, безоружные, отчаянно бросались на наступающих фашистов, душили голыми руками и отнимали оружие. Враг превозмог. На героических защитников города славы немцы обрушили в дни летнего наступления 42-го года столько смертоносного металла – бомб, мин и снарядов, сколько за год получала от них вся Великобритания. Но пройдёт год и десять месяцев, и Севастополь будет освобождён.
Главным хирургом армии был тогда профессор, военврач 1-го ранга Валентин Соломонович Кофман, уроженец Одессы. Он отдал свой пропуск на самолёт военфельдшеру Кононовой и её недавно родившемуся, прямо в одном из помещений батареи, сыну. Вышел сам наверх проводить машину с отъезжавшими к самолёту матерью с младенцем; стоял, махал фуражкой и говорил, что впереди у рождённого непременно счастливая жизнь. Мальчика ещё в батарее коллективно назвали Севаслав. А доктор, несмотря на высокий ранг и возможность сохранить себя, остался в строю. Продолжал оперировать, консультировать, до последней возможности объезжал все свои объекты, от Инкермана до Балаклавы. К нему ворвались во время операции немцы, и кто-то воскликнул:
– Ah, bist ein Jude! (А! Еврей!)
– Ja, – ответил им врач на хорошем немецком, – ich bin Jude, aber ich kampfe um das Leben, und ihr kampft um zu toten (Да, я еврей, но я борюсь за жизнь, а вы несёте смерть. Дословно: боретесь, чтобы губить).
Его расстреляли в тот же день, 3 июля 1942 года.
Издалека музей можно приметить по большой круглой башне, бетонной, воспроизводящей идею той взорванной, в которой помещалась артиллерийская установка. Нынешняя, громадная, башня названа Пантеоном памяти. Здесь заканчиваются экскурсии, сюда приходят после путешествия по внутренним помещениям 35-й батареи. Пантеон с одной из сторон имеет своеобразное архитектурное «украшение»: разлом, трещину (как бы от взрыва), расколовшую башню снизу доверху. В трещине, в углублении, дверь, выпускающая на свет Божий тех, кто прошёл с экскурсоводом от начала до конца.
А вход – с другого края, со двора. Переступив порог пантеона, поворачиваешь направо или налево, на одну из галерей, где на стенах светятся фамилии и инициалы людей, защищавших Севастополь. После галерей всем предлагают пройти в центр здания, под купол. Там, в круглом зале, на середине пола – несколько гвоздик и венок славы. Гаснет свет. Луч падает на цветы. Звучит негромко музыка. На сводах проступает из мглы, со всех сторон окружая нас, разрушенный Севастополь: это снимки лета или осени 42-го года. Рухнувшие от бомб и снарядов дома, огрызки стен, пожарища; ни одного уцелевшего строения; пасмурный день над каменной пустыней, недавно бывшей цветущей и радостной жизнью.
Потом наступают сумерки, город погружается в ночь, и в тёмно-синем небе зажигаются звёзды. Их много, ими густо усеян весь небосвод, они горят всё ярче. Но вот одно за одним, вырастая из глубины, возникая сначала малыми точками, но приближаясь к нам и становясь всё яснее, среди звёзд появляются лица. Матросов, медсестёр, офицеров – и совсем молодые глаза, и скорбные, сострадание на лицах у женщин, морщины и сжатые скулы мужчин; взгляды серьёзные и внимательные, смотрящие в нас, ходящих по земле. Лица словно останавливаются, затем понемногу тают, наплывают другие, их сменяют новые, и, наконец, между ними, обозначая ушедших, загораются свечи. Они горят поначалу спокойно и ровно, но невидимый ветер всё сильней колеблет их пламя; свечи гаснут, одна, вторая, вскоре все. Звёзды, а за ними лица, а меж них – огонь. Я не могу не видеть в этой смене уже открывшуюся и мне, и отцам, и нашим далёким предкам таинственную череду и согласие смыслов.
Сопоставления вообще умудряют – так устроена душа, – они умножают опыт, возводят на высоту. Ночью Бог вывел Аврама из шатра и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звёзды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (Быт. 15, 5). Что-то необъяснимое словами совершилось в душе Аврама. Он увидел в звёздном небе людей. Узрел их сердцем, отчётливо и несомненно. То есть буквально уверовал. Сказано тут же, в Библии, кратко и просто: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15, 6). На той высоте, что над нами, пути чести и любви сходятся в одной вневременной правде, а пути зла расходятся в разные стороны и исчезают в безрассветной ночи.
О двух сухарях и банке тушёнки
Как любит Бог? Не так, как мы, люди. Человек, любя, кого-то выделяет из массы живых существ. Но Бог благоволит ко всем. Люди отвечают на Божественное внимание по-разному: один человек раскрывает своё сердце теплу и свету, наполняется силой Божией и возвещает от переполняющего душу счастья о том, что его любит Бог. Сразу начинает отвечать Богу взаимностью. Потому что сердце не должно быть тьмой без Дна.
Встречаются люди, которые утверждают, что их Бог не любит (или что Его нет) и что их вообще никто не любит и поэтому они никому ничем не обязаны и живут так, как считают нужным.
И ведь они правы! Любят в одну сторону, а именно: из своего сердца – к сердцу другого. А в себя и без отдачи – так действует смерть. Сердце Лазаря было открыто Богу, и получается, не Христос его каким-то особым образом выделил, а он открыл Христа. Так, наверное, прозревают прежде слепые, или начинают слышать глухие, или так впервые начинают по-настоящему любить.
Христос вернул к жизни умершего за четыре дня перед этим Лазаря. Человека, который, верно, так любил Христа, что и по разлучении души его с телом сердце своё оставил во власти своего дорого Учителя. А Лазарь и сёстры его были людьми небезызвестными в Иерусалиме. Резонанс оказался внушительным, весть о воскрешении распространилась быстро и достигла тех, кому Христос и до этого колол глаза, кого бесил Своей свободой, лишал покоя необъяснимыми возможностями.
Одни боялись за своё благополучие, а другие – как фарисеи – сгорали от зависти и ненависти к Нему: вот Он исцеляет неизлечимо больных, воскрешает умерших, кормит тысячи алчущих несколькими хлебами – в одних руках уместятся. И делает это в нарушение закона о субботе, убеждая тем самым, что главным законом должно быть не соблюдение всех правил и норм расписанной по часам жизни, а свободное, непредсказуемое сострадание, жалость и милость. Он обличает земляков, напоминая им, что великие Илия и Елисей, не найдя в Израиле верующего и любящего сердца, помощь оказывали иностранцам. Прямо пощёчина иудейской гордыне. И вся Назаретская синагога, услышав то, что они не могли не знать, погнала тем не менее Иисуса на вершину горы, чтобы сбросить Его вниз. Ну что Он такого сказал им? Он просто укорил их в горделивом законничестве. Но за фарисейским благочестием стояли вещи более серьёзные: стремление к манипулированию массами, к духовной власти.
И вот известный иудеям Лазарь, мёртвым на глазах у своих сестёр и друзей отнесённый в саване в пещеру, – вот он сидит живой у себя дома и бросает самим фактом своей жизни вызов всему устоявшемуся порядку вещей. Это удар по власти и богатству тех, кто правит народом.
Нельзя не увидеть чуда? И, признав, нельзя не пойти за Христом? Да, нельзя не пойти, но только в одном случае: если сердце легко и свободно, если оно готово изменяться. Но в сердцах первосвященника иудейского и большинства членов верховного судилища – синедриона – властвует сатана, то есть некто, кто уже сделал свой выбор и не меняется; и этот тиран всячески старается не дать своим приверженцам освободиться от рабства деньгам, высокому положению в обществе, гордому мнению о своей исключительности. Сластолюбцы и честолюбцы не желают меняться; в них – дьявольская неподвижность, мёртвость. Они, что называется, повязаны по рукам и ногам системой. Поплыви-ка со спущенным якорем, покатайся-ка на машине, когда нога на тормозе.
Христос покушается на самое святое для начальства – поэтому медлить нельзя, иначе народ пойдёт за Ним. Заговор составлен. Или Он, этот новый учитель и чудотворец, или они. Своего не отдадим. Для них, так уютно устроившихся в оккупированном римлянами Иерусалиме, вся жизнь в том, что они имеют: это люди самолюбивые, материальные, плотские, чувственные.
В день воскрешения праведного Лазаря, в Лазареву субботу, утром после Литургии, пришёл в храм дедушка, восемьдесят восемь лет. Сидит на лавочке, несколько тощих веточек вербы достал из выцветшей сумки и ждёт. Вахтёр за ним в камеру следит и мне, проходящему по школе, с сочувствием его показывает. Ох, освящение-то будет не скоро, только вечером, на Всенощном бдении, где-то в половине седьмого. Ждать ему долго. Вот к нему подсел наш работник, что дежурил в храме. Они о чём-то беседуют. Потом уже, спустя время, дежурный рассказал мне об этом деде. Пояснил, кто это такой. И нужно было…
У деда мы взяли вербу, гостинец ему собрали, освященные веточки пообещали вечером занести. Он обрадовался, дорогими своими нас называл, от благодарности даже обниматься стал. Радостный такой человек, живой и скромный.
А история его такая: в 1943 году на сборном пункте бойцам сформированной роты, восемнадцатилетним ребятам (а кому-то было и семнадцать всего, как ему), выдали по карабину с несколькими патронами, вещмешок с тремя сухарями на брата и по банке нестандартной стограммовой тушёнки и повели маршем к линии фронта. Фронт уже отодвинулся за Смоленск.
«Идём, – вспоминает он, – а навстречу женщина, шатается по краю дороги, голодная.
– Ребятки, а нет у кого сухарика пожевать?
Я своим говорю:
– Идите, щас догоню.
Это чтоб по-быстрому. Мешок развязал и даю ей два сухаря и банку. Она мне банку назад:
– Ты молодой, тебе есть надо.
А я ей:
– А чего мне есть-то, если сегодня-завтра убьют. А буду жив, раздобудусь. А ты супа сваришь, на два дня хватит, небось, и дома кто…
Она взяла, перекрестила меня и в губы поцеловала. А я побежал.
Потом скоро была атака. Пустили нас, необученных, на вражеские укрепления. Немцы увидели, что бегут пацаны. И положили нас из пулемётов. Я лежу: слева дружок мёртвый, справа мёртвый. А я лежу и плачу, женщину ту вспоминаю.
Я всех похоронил: мать, отца, двух братьев, жену брата. И свою жену. Мы с ней 56 лет прожили. Так хорошо прожили. Такая она у меня милая, такая умница, красавица. Щас такие и не рождаются. У меня сыновей двое, офицеры. А как же, помнят, приезжают. А я один живу. Нет-нет, помнят, да все вокруг помогают».
Это в таком изложении – в целом, я уверен, правильном – дошёл до меня разговор нашего алтарника с дедом.
Христа для проформы судили. Приговорили к смерти и казнили. Но сровняли вскоре римляне Иерусалим с землёй. Камня на камне не оставили…
А дедушка – молодой боец призыва 1943 года – долгую и полную жизнь обменял на банку тушёнки. Сердце у него чуткое.
Кузьмич и Филиппыч
По фотографиям и рассказам я представлял себе это место совсем другим: огромный холм, покрытый густым кустарником и лесом, на вершине – заросший парк. На склоне дом с крыльцом и балконом. Внизу разбросанные крестьянские избы и речка Луша петляет, как будто таясь, среди непролазного ивняка, камышей и осоки. Родина предков – Юрьевское.
В действительности всё оказалось простым и маленьким. Я подскакивал на каждой рытвине в кабине дребезжащего ЗИЛа, на коленях у меня прыгал рюкзак. Машина неожиданно остановилась, и, когда улеглась пыль, я увидел, что дорога впереди идёт почти над самым обрывом; справа в ряд домики.
– Это Соловьёвка, а тебе, – и парень, подвёзший меня, не вынимая жёваной беломорины из губ, протянул левую руку вперёд и вниз, – тебе туда, по тропочке, по тропочке, видишь в низине крыши – это и есть Юрьевка.
– А гора?
– Какая гора?
– Там гора над селом должна быть.
– Ха! Это та што ль? Гора, тоже мне. На кучу не тянет. Ну давай. Не надо, – он отстранил протянутый рубль.
Я неловко спрыгнул с подножки, потянул на себя пузатый рюкзак.
Вот кто-то с горочки спустился. Это я приехал на родину бабушки.
Трава. Пахнет травой. И ещё чем-то душистым, цветами. Прилетел ветерок, овеял навозом. И снова тихо, запахло яблоками из сада и теплом – августовским солнцем.
Спустился, зашагал по улице. У ограды крайнего дома, на лавочке, сидела полная старуха в толстом платке, надвинутом почти на глаза, с палкой в правой руке.
– Здравствуйте, – сказал я.
Тишина.
– А где здесь Кудряшовы живут? – назвал я тех, к кому меня направили на постой.
Молчание. Я повторил вопрос.
Старуха шевельнулась и зычно закричала:
– Вера!
В сенях громыхнуло, выскочила розовая баба лет сорока.
– Чего?
Я спросил о Кудряшовых.
– А вон-а, за колодцем дом пустой, за ним подсолнухи, это ихние.
Я пошёл, обернулся. Вера смотрела с крыльца, и бабка тоже развернулась на лавке. И сколько я шёл, они всё провожали меня взглядом. То-то будет разговоров!
Кудряшов Илья Филиппович. Молчаливый мужик лет за семьдесят. Инвалид с детства, стопы как-то вывернуты. Всю жизнь проковылял с клюкой. Глаза большие голубые, на голове кудри: по молодости, видно, пшеничные, а теперь подёрнутые такой сединой, какая появляется только на русых головах. Серебро с золотистым отливом.
Захлопотала тут же его жена, баба Катя, шустрая старушечка с острым носиком и маленькими глазками, говорунья.
Мне отвели горницу, я разложил тетради и книги. Пошёл смотреть село и гору-кучу над ним. В траве на склоне отыскал покрытые мхом большие камни – фундамент бабушкиного (её отца, конечно) дома; и торчащие из земли, почти истлевшие перила крыльца или балкона. Аллея, обсаженная громадными – век миновал – липами, вела ко второму, более низкому холму, на макушке которого торчали «обгрызенные» останки церковных стен. Знаменскую церковь строила праправнучка знаменитого драматурга и поэта XVIII века. Благочестивая женщина, она, по преданию, лелеяла свой храм. Вышивала хоругви, шила облачения. В подклете устроила усыпальницу, где и похоронили её и мужа, отставного кавалерийского генерала, добродушного военачальника, с пышными бакенбардами, в эполетах – лицо мягкое, скорее домашнее.
– А что с церковью? – спросил я вечером у бабы Кати.
– Комсомольцы разрушили. Глызин с ватагой. Привезли из Россоши голодрань, митинговали, с транспортёрами тута шатались…
– С транспарантами?
– А потом окружили со всех сторон, на стены полезли и как стали крушить! Бабы в рёв, вой стоит до Соловьёвки, там с горы люди смотрють, какой ужас, какой срам. Один упал, ногу сломал, они пуще в раж. Арканом крест. В подвал ворвались, гробы открыли. А там мундир – они пуговицы и медали срывать. Да неужто они золотые? Ой, и как их земля носила – достали череп, стали ногами по земле катать. Казнь, кричали, кровопивцам.
– Неужели?
– А то!
– Вы откуда знаете?
– Я девочкой была, меня мать с братишкой за руки – и туда. Мы стоим среди баб, все плачут, и я реветь.
– А где мужики были?
– Ну, мужики. Всё-таки семья. С бабы какой спрос – темнота. А мужик-он, разве охота в район-то, в тюрьму? А дети по миру? Он хоть и не идёт туда, мужик-он, как Филиппыч мой, но и вперёд не бежит.
– Как это?
– Ну мой-то калечка. В войну из молодых один в штанах на всё село. А у нас рядом эродром был. Колхоз бабий, но остался. Его председателем. Так его и дома не бывало. Там в правлении и поспит. Или он только в избу, тут же за ним бегут. Ну вот и наболтали. В районе главный вызывает его: ты, говорит, в избе иконы держишь – сымай, твою мать. А ведь он, мне рассказали, даже на меня не свалил – а иконы мои, от бабушки – он бы на меня, дуру-бабу, и свалил, а он начальнику мирно так: «Меня – сымайте, а иконы – не сыму».
Так вот он до самой Победы и хлопотал. Ему потом уже, на двадцать лет с войны, медаль выписали. А как летом в 45-м вертались, его и сняли. Зачем он, с иконами-то? Я его тогда обняла: «Плюшечка, слава Богу, ты теперь при доме, нам вон и дитя ещё дал Господь». Я тогда Любу понесла.
На следующее утро пришла сухая высокая баба, принесла горячий хлеб из печи, круглую большую корвегу. Вошла, мелко закрестилась.
– Гостю вашему нончи пяку. К нам-от откудова?
– Из Москвы.
– От сыночка ихнего? – она кивнула на бабу Катю. Младший сын Филиппыча работал в Москве дорожником, укатывал асфальт.
– Да нет, мы не знакомы.
– Ну погостить. Ага. Тута ваша родня жила. А вот наш-то помещик такой добрый был, такой добрый, как Ленин.
– Еремевна, ну ты ль в уме?! – всплеснула руками баба Катя.
– Да он ведь помещиков бил, – возмутился я.
– А, ну что ж. А наш-от помещик, бабушка поминала, тихоня. Нас не обижал. Ну и хрестьяне к нему с почётом. Бывайте здоровы. Я вам ещё спяку, кушайте.
Сварил кофе, отрезал горячего хлеба. «Эх, голова, – вздохнул я, – мусорное ведро. Сколько Небо трудится над образом Своим – и ведь не устаёт трудиться!»
На пороге появился коренастый мужичок в вытертом пиджачке и шерстяной серой кепке.
– Как ты, Кузьмич, нарядился! – засмеялась баба Катя.
– Гостю вашему поклон от всего коллектива села. Екатерина Егоровна, а где благоверный твой?
– Где! Где ему быть, тачает, не бездельничает, – ехидно ответила хозяйка.
Кузьмич исчез, вернулись вдвоём.
– Чего задумал, тунеяд? – закричала баба Катя, почуяв подговоры на выпивку.
– Катюша, – попросил муж.
– Мужики, – жарко зашептал Кузьмич. Вы что, забыли, какой праздник великий? Успеньев день! Кто Успеньева дня не отмечает, тот… – Кузьмич развёл руками.
– А здесь есть ещё где-нибудь храм? – спросил я.
– Да было много, и в Кологривово большой, и подале в Борах. Сейчас нету. С бабами соберёмся у кого, попоём по тетрадкам, кто уж как помнит.
– Мы с вами, Екатерина Егоровна, с бабами вечерком попоём по книжке. Послезавтра обедницу прочитаем. А сегодня, Кузьмич… а простите, как Ваше имя?
– Иван.
– Иван Кузьмич, сегодня праздника нет.
Кузьмич скис. Зато на Успенье, 28-го, возник в полдень; суетился, принёс сала, огурцов, мёда.
Накрыли нам на летней кухоньке. Мы посидели очень хорошо, поговорили обо всём. Даже баба Катя выпила рюмочку. Договорились с Кузьмичём, что завтра тронемся с ним на телеге по всей округе, которая для моей семьи дорога и незабвенна. Через Каменку в Свидерское, в Кологривово и через Крутое назад.
Стемнело. Вышли с Кузьмичём по нужде. Над нами радостно волновалось и перемигивалось звёздное небо. Стало прохладно и просторно. Осень близко.
– Какая, Кузьмич, красота, посмотри вверх.
– Ой, Борисыч, да я как взгляну, не могу дышать!
– Завтра во сколько?
– Хоть счас. Только запрячь…
– Я в шесть приду.
– Борисыч, так точно. И поедем.
Телега оказалась без рессор, зато мерин немолод и вял. Кузьмич, положив поперёк телеги на бортики две дощечки, уселся и пригласил меня.
– Чтой-то ты, Кузьмич, помятый? Не спал?
– Не, я прикорнул, а что мятый, так я в одеже.
– Почему?
– А это от мамаши. Наказывала: «Ваня, когда выпимши, в дом не входи, иди на сено». Вот я на порожке ночевал, у двери, ветошь под голову – и поспал. «В доме, – говорила, – Божьи образа, лампада». Хотела отучить. Я человек очень сильно грешный, но нетрезвый в дом не хожу. Здесь мамаша молилася. Это у меня заместо церкви. Я в доме-то редко живу, только прибираю. Больше всё в баньке.
Позже я побывал у него. В его чистом домике пахло мёдом, горела лампада в святом углу, с застеклённых икон свисали расшитые полотенца, на столе и на подоконниках стояла цветная деревянная посуда. Кузьмич-то совсем не «тунеяд» – как его обозвала рассерженная баба Катя. Он умелец: точит ложки, кружки и тарелки, вырезает узоры на гребешках и досочках. Деревяшки свои расписывает цветами и возит в район сдавать.
Целый день мы тряслись мелкой дрожью по пыльным дорогам. В Неёмово стали у колодца, вышла женщина из дома напротив. Помялась, вполголоса спросила:
– Иконы привезли?
– Что?
– Вы не торгуете? Здесь возили бумажные, я бы хорошо взяла.
– Да нет у нас, простите.
– А то вы с бородами, я и подумала.
В Кологривово подъехали к заколоченному храму, вокруг него крапива в человеческий рост. Отыскали окно с пропиленной решёткой; внутри сыровато, нечисто.
– Какой это храм?
– Преображения Господня.
– А чего заколочен? Тут один мусор.
– А кто ё знает, – вздохнул Кузьмич.
Я уехал в Москву в начале сентября. Из Юрьевского получал иногда поздравления и отвечал, редко. Года через три, зимой, только вошёл в квартиру – позвонили в дверь. На пороге женщина и двое мужчин.
– Вы помните Кудряшова, Илью Филиппыча?
– Да, – почувствовал я то, что тут же услышал.
– Скончался. Мы едем после сороковин, мама просила найти вас.
Мы посидели, повспоминали. Дочь с мужем спешили на похороны с Дальнего Востока, из Благовещенска, и попали в село только на девятый день. А баба Катя всё это время не давала хоронить мужа. Он лежал под иконами в горнице и только всё желтел, как заметил сын, но ни запаха, ни пятен, будто восковой.
– Кажется, не лежит, а стоит в гробу. Ему стоять всегда было трудно, ноги больные, а он себя понуждал. Так в нашей памяти и стоит. Провожает, чинит обувь, читает у окна – всё стоит. Отпевали в Кологривово.
– Там открыли?
– Да уж там хорошо. Батюшка молодой, с матушкой. Бедненько у них, но опрятно.
– А мы с Кузьмичём туда заезжали.
– Умер Кузьмич, в августе, на Успенье. И его тоже там отпевали. Пожили старики.
– Ох да, пожили. Кузьмич, когда мы в храм влезли, пошагал по мусору и говорил: «Дал бы Бог силу в руках и годочков, и это бы всё, Борисыч, в красоту привесть, а?»
Молчаливый Филиппыч, весёлый Кузьмич, жили-были недавно в России.
Сторож
…Сеющий и жнущий вместе радоваться будут.
Ин, 4,36Крестовоздвиженскую церковь села Медянь закрывали торжественно. В июне 1937 года созвали собрание колхоза с представителями власти из райцентра и постановили «ликвидировать очаг контрреволюционной агитации и пропаганды против мероприятий партии и советского правительства». Здание бывшей церкви единогласно решили оборудовать под клуб.
Клубом, впрочем, церковь так и не побывала, но и праздной, наглухо заколоченной или зияющей оконными проемами не стояла: растили поросят в огороженном приделе, хранили овощи в трапезной храма, там же потом ставили технику и в алтаре устроили заправку для тракторов – разобрали кровлю и опустили резервуар для солярки туда, где стоял Престол, а потом заделали пролом новой кровлей.
Жил в селе механизатор Константин Ильич Комаров. Обыкновенный русский человек, но кое в чём редкий. Он мало пил и совсем не матерился. Уже это одно выделяло его из общего ряда. У начальства Комаров был на подозрении: не за отсутствие вредных привычек, а за молчаливую и спокойную «оппозицию».
Его супруга Александра Васильевна казалась женщиной скромной, немногословной, но приветливой. Константин Ильич и вовсе не выглядел угрюмым, а иногда даже очень жизнерадостным и весёлым и работал отлично. Не пьяница, не лентяй. Если на праздник выпьет, то немного и сразу от сквернословия, выкурив с мужиками по цигарке, уходит домой.
По всему замечали, что он избегает любых конфликтов. Не раз его вызывали, хотели сделать бригадиром, выдвинуть по служебной лестнице, стыдили, указывали на интересы Родины, но Константин Ильич уклонялся от карьеры и от непременного при ней членства в партии, отзываясь недостоинством.
Родитель Константина, Илья Петрович Комаров, погиб в Первую мировую. Мать вырастила семерых детей и пропала без вести с младшим своим, Антоном, в гражданскую. Братьев и сестёр жизнь раскидала кого куда. Константин же оказался в Медяни в конце двадцатых, переехав сюда к родителям жены из соседней Тульской области.
Видели люди, что жену он оберегал, ходил с ней под ручку, разговаривал уважительно и внимательно, словно молодожён. А Александра Васильевна была так застенчива, улыбчива и ко всем одинакова, что и сказать было нечего об её особом к кому-либо, даже к мужу на людях, отношении.