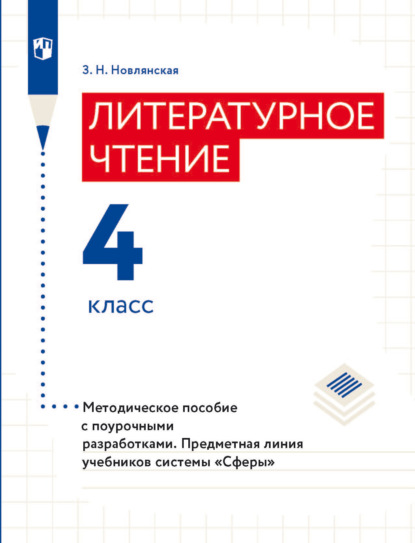Незабудки для Улинки

- -
- 100%
- +
Дойдя до незабудкового круга, которое вдруг подсветило солнце, олень ступил маленькими копытами в мягкий голубой ворс и вмиг превратился в смуглого юношу с черными курчавыми волосами.
Егерь не верил своим глазам и продолжал смотреть. Тяжело дыша, парень склонил голову, будто привыкал к новому образу. Еще бы, минуту назад он был оленем на четырех ногах, а теперь стал человеком на двух ногах, к такому сразу и не привыкнешь.
Одернув грязную, некогда белую свободную рубаху, парень опустился прямо в незабудки, сел и прислонился спиной к шершавому стволу старого ясеня. Глубоко подышав, егерю было очень хорошо видно, как вздымалась худая грудь в разрезе рубахи, парень открыл глаза, которые, оказались такими же голубыми, как были у оленя и окружавших его сейчас незабудок. Солнце снова сыграло лучиком на куске соли, и молодой цыган, как решил Илай, поддался вперед и осмотрелся. Коснувшись острого края тонким смуглым пальцем, он потер соляной кусок, а потом попробовал палец на вкус. И вдруг вскочил, стал оглядываться.
Егерь наблюдал за диковинным чудом. Нога затекла от неподвижного сидения, Илай попытался аккуратно ее переместить, но скрипнул предателем старый стул.
– Ах, черт! – выдохнул егерь, глянув себе под ноги, и снова вздернул трубу к глазу.
И встретился взглядом с парнем, который легко разглядел наблюдателя на древесной обзорной башне.
Долго они смотрели друг на друга. Оборотень совсем вроде и не боялся лесного человека. Сделал даже шаг вперед. Но как только голая ступня коснулась клевера за границей незабудок, цыган тут же обратился обратно в рогача, без чувств тяжело повалившись в папоротник.
Егерь замер, не решаясь двинуться. Пойти помочь или оставь чудо дикое, ведь не первый раз цыган приходит сюда?
Но олень не двигался. Илай вскочил со стула и присмотрелся, дышит ли? И вдруг схватил заплечный мешок, ружье, быстро спустился по натужно скрипящей лестнице и побежал к чуду.
Обойдя тушу, егерь заметил, что медленно и редко, но вздымается округлое коричневое пузо.
Решив, что с человеком говорить проще, а неучтенный олень в лесном стаде не по правилам, Илай задумался, как обратить сохатого обратно в человека. То, что это было диво чудное, егерь быстро принял. Всякие истории слышал от деревенских знахарок, что приходили в его угодья за травами. Странная мысль вспыхнула в голове Илая, странная и лихая, и глупая, решил он, добавив к ней логики. Но попробовать стоило. Сорвав несколько цветков незабудок с поляны, егерь положил их на морду оленя.
И еле успел отскочить, потому как олень тут же обратился снова в цыганского юношу. Парень с минуту полежал и открыл глаза. Егерь попятился, вдруг испугавшись: а ну как обратно в оленя превратится и рогами проткнет. И непонятно было, разум человеческий уже или звериный остался от трех незабудок-то.
Цыган медленно повернул голову к цветам, протянул руку, коснулся незабудок, сжал кулак с цветками, перевернулся на колени и забрался обратно в голубые цветы, дополз до ясеня и, с виду ужасно устав, прислонился к стволу, как совсем недавно. Прикрыв глаза, парень пытался отдышаться. С видимым усилием подтянув к себе правую ногу в коротких, обнажающих крепкие смуглые икры штанах, он облокотился на колено рукой и откинул голову к стволу.
Илай рассматривал крепкого цыгана, теряясь в самых невероятных догадках: чего с ним могло приключиться, что судьба сделала из него молодого оленя? И что Илаю теперь делать с этим то ли зверем, то ли с несчастным бедолагой, которому нет ходу в обычную деревню, потому как убью как чудище? Сам Илай уважал всякое природное проявление, главное – узнать его суть и причины, а так он не считал себя тем, кто будет спорить с природой, раз она так для своего существования решила. И потому сдавать молодого оборотня не собирался, пока сам не выяснит его натуры.
Цыган медленно выпрямил шею и открыл голубые глаза. Илай приметил, что левое ухо юноши в мочке было порвано, а на рубахе запеклись капли крови, будто выдрали силой серьгу или зацепился за что и сам дернул не заметивши.
– Спасибо, – хрипло сказал цыган. – Нельзя мне резко оборачиваться, забыл совсем как тебя увидал. Хорошо прячешься, я думал, здесь никого нет.
– Кто ты? – только и спросил егерь.
– Лачо, – сглотнув, ответил цыган, снова прикрыв глаза. Разговор давался ему тяжело.
– Почему ты… Как ты… – попытался составить сложный вопрос егерь.
Заметив, что смуглая кожа цыгана стала вдруг бледнеть, Илай положил на землю карабин, который все это время держал в руке, перекинул мешок вперед и достал медную флягу с травяным чаем, кусок хлеба, пару чищеных луковиц и морковный корень, который Илай приберегал для Клена.
– Держи, поешь, а то бледный какой-то.
Лачо открыл глаза, поддернутые предобморочной пеленой, и протянул руку к фляге. Перехватив обеими руками плоский сосуд, он жадно стал пить еще теплую горькую воду, в которой проскальзывали вкусы чабреца, зверобоя и крапивы.
– Спасибо, – цыган грубо вытер рот рукавом и протянул флягу обратно егерю.
– Есть будешь? – спросил Илай, протягивая хлеб и овощи.
Лачо помотал головой:
– Спасибо, отдохну только и дальше пойду.
– А кем пойдешь? – осторожно спросил Илай.
Лачо долго посмотрел на егеря пронзительными голубыми глазами.
– Оленем, – ответил он, что-то решив про себя. – Ты сам видел, вне незабудок я могу быть только оленем. В него обращусь, им и пойду дальше.
– И куда пойдешь?
– Не знаю, искать следующий голубой остров. Ты мне поди не дашь рядом с этим обитать? – устало сверкнул белыми зубами в хитрой ухмылке цыган.
– Не дам, – согласился Илай. – У меня все олени учтены. Да ты и не совсем олень вроде. Расскажешь свою историю? Вдруг я помочь могу?
– Расскажу, если интересно. Да и устал один это в себе носить… – Лачо снова откинулся на дерево, внимательно посмотрев на егеря: – Как тебя звать?
– Илай я. Рассказывай. – Егерь достал из мешка плащовку, подстелил на влажную землю и сел поудобнее, готовый слушать сказку цыгана-оленя.
Вздохнув, Лачо сглотнул и коснулся острого ребра соляного куска.
– Ты принес? Вкусная. – Лачо погладил тонкими пальцами белый шершавый бок. – Меня прокляла мать. Наш табор уже долго был в пути. Мы направлялись в северные земли, где по слухам стоял табор Барона. Его дочь моя мать пророчила мне в жены. Я был не против, дочка Барона большого табора – заветная добыча. Остановились мы тогда у одной деревеньки на стану, самим отдохнуть, коням сил набраться, сребряных подзаработать…
Лачо
Пестрые цыганские юбки разноцветными волнами задавали праздничное настроение на весеннем субботнем базаре. Молодушки с черными локонами, звеня браслетами и сверкая золотом на зубах, сновали меж прилавков и палаток, распевая задорные песни и зазывая купить браслет-оберег, счастливую корзину из редкой бересты или предсказать судьбу, погнать черную тень и снять родовое проклятье, которое они, страшно ширя темные глаза, видели в каждом пришедшем ранним утром на ярмарку.
Я стоял у загона с двумя мохнатыми пегими коньками на продажу. Жеребчиков я вырастил и воспитал сам, и расставаться с ними мне было немного грустно, но знать об этом никому не стоило, и потому, ловя заинтересованные взгляды лениво прогуливающихся присматривающихся покупателей, я сердечно обещал каждому засмотревшемуся на мохнатые у широких копыт ноги, что это не просто лошади, а верные друзья и сильные помощники: и верхом домчат, и плуг по всему огороду протащат, и телегу груженную довезут. Я честно рассказывал, что жеребчики эти от племенного жеребца, который дает самое крепкое потомство, какое не стыдно добрым людям с хорошей уступкой отдать.
Лихо облокачиваясь на грубо сколоченный загон, я пожевывал травинку, как делал мой отец, и подмигивал яркими голубыми глазами из-под кудрявой непослушной челки. Юные деревенские девушки к таким откровениям не привыкли, не выдерживали и, хихикая, быстро проходили мимо. А от их отцов и братьев я ловил обещания в злых прищурах, что только попадись я в закутке меж домов, там мне сразу объяснят, как стоит смотреть на местных девушек, то есть лучше – никак.
Так повторялось из деревни в деревню. Я правила знал и к девушкам не лез. Да и зачем мне, если табор в новом месте всего на пару дней: отдохнуть, сил набраться, сбросить балласт на базаре и дальше в путь, где меня уже ждала та, которой я буду мил. Так говорила мать, и я ей верил. А как матери, да еще и главной гадалке с пронзительным черным глазом не верить? Второй глаз, а точнее – дыру без него, мать скрывала под золотой повязкой. Плата, которую она отдала за свой дар.
Эта деревня ничем не отличалась от остальных, и я откровенно скучал. До земель Барона, чью дочь мать обещала мне в жены, было еще с месяц пути, и таких деревень лежало на карте еще пара десятков.
– Лачо, держи, мать передала! – Перед молодым мной возникла голубоглазая сестра Ляля – капля в каплю я, только с длинными, по самый пояс темными кудрявыми волосами. Она протягивала мне огромное зеленое яблоко. – Мать сказала съесть да с конями твоими разделить, тогда продажа пойдет хорошо.
– Спасибо, – кивнул я, забирая яблоко, и сразу откусил от него большой кусок. Сок от белой мякоти потек вокруг рта и закапал с подбородка.
– Лялька, пойдем, там у браслетов с серьгами девки местные собираются! Рубина не справляется. – Рядом возникла тень в капюшоне – моя средняя сестра Рада.
– Иду, – кивнула Ляля, с готовностью перебрасывая густые локоны с плеч в ярком расписном платке на спину.
Провожая сестер взглядом, я откусил от яблока еще кусок, что снова потек сладкий сок, да так и замер, не в силах отвести взгляда. Да и как тут отведешь, когда прямо к загону приближался настоящий ангел. Ангел с русо-золотыми волосами и пронзительными зелеными глазами. Однажды я видел малахит цвета листьев утреннего клевера в матовой пленке росы, вот точно такие глаза с жарким любопытством рассматривали все вокруг и тут же поражались всему, что видели. Прелестное создание в ажурном платье цвета топленого молока держалось грозного мужчины, что хмурил брови и не доверял всему миру. Особенно боялся он доверить свое сокровище и крепко держал его за руку, страшась отпустить в большой и жестокий мир.
Быстро рукавом вытерев рот, я разломил остатки яблока и дал своим коням – матери и ее силе верил.
Я не знал, что ищут эти двое – ангел и ее страж, но что-то мне в то мгновение подсказало – упускать их совершенно нельзя:
– Красивые кони! Сильны кони! Верные кони! Окраса такого вы еще не видели! Достойные кони! И довезут без устали, и поле вспашут, только сей, и телегу дотащат без единого хлыста! Лучшие кони! Пятнистые кони!
– Пап, смотри! – глядя прямо в мое сердце, попалось на крючок ангельское создание. – И правда, пятнистые. Интересные какие!
А я замер, стараясь запомнить этот чудный мягкий голос, который коснулся моего сознания и растекся в нем золотым теплом.
– Пойдем, посмотрим! Я таких лошадей никогда не видела, – заворожено потянула девушка отца к загону с двумя моими пятнистыми.
Но отец жестко удержал дочь:
– Цыганские это лошади, обманные. Ничего не умеют, только пятнами выделяться. Не верь всему, что эти яркие люди плетут. Они со словами, как мы с нитками и пряжей, управляются. Опутают заблуждением и останешься ни с чем. Знаю, что говорю.
Но девушка не слушала отца. Она смотрела в мои голубые глаза, а я рассматривал ее малахит, и оба мы не в силах были отвести взгляда.
– Туда пойдем, к скобяной лавке Лумира, потолковать мне с ним надо.
– Да, папа, – только и проблеяла девушка, позволяя себя увести от самых голубых глаз, какие она только видела.
Мне оставалось только смотреть вслед ангелу с ее грозным стражем, пока они совсем не затерялись в толпе, и только тогда будто отмер, покачнулся на подкосившихся ногах и оперся на перила загона. Сердце гулко стучало в моей смуглой груди, мысли путались, натыкаясь на шелковистый голос, который еще звучал в ушах, а перед взором, словно зайчики после яркого солнца, стояли малахитовые глаза.
Не сразу я уловил, что теплеет до обжига серебряная серьга в левом ухе. Потер мочку, разогнал кровь, но металл продолжал прожигать теплом мою плоть. А потом и в сердце будто проник неуместный огонь. Не понимая напасти, я огляделся и наткнулся на черноту материнского глаза, что не моргая смотрел на меня из струящейся мимо нее толпы.
«Видела? Или не видела? И спрашивать – лучше не спрашивать, чтобы ответом не выдать себя», – думал я, лихо улыбаясь матери. Мать только кивнула мне и тут же затерялась среди людей.
Впервые мне захотелось вынуть из уха материнский подарок. Когда отца вместе с его добрым конем забрал лесной обрыв, я стал единственным мужчиной в семье. Конечно, весь табор был семьей. Но после гибели отца мать как-то строже стала относиться ко мне. Подарила серебряную серьгу в знак, что я единственный сын у нее и должен и себя беречь, и семью оберегать. И потому придумала, что нужно древние семьи объединить, чтобы укрепить защиту от чужаков, не цыган то есть.
Со всей душой я тогда принял материнский наказ, во все глаза смотрел за сестрами, чтобы никто не обижал. Ясно видел свою роль в большом таборе и будущей жизни семьи.
Но сейчас, боясь, что мать заметит мои глаза, мне стало страшно. Страшно от вспыхнувшего в душе незнакомого и жаркого чувства. Страшно, что хотелось снять серьгу и посмотреть, успеть узнать, что есть еще за границами серебряного кольца. Что бывает, если не соглашаешься на выбор матери, а рискнуть довериться сердцу, которое манит новым желанием. Пережить его, ощутить, узнать, прочувствовать самым ядром сердца.
С глубины базара зазвучали скрипка и гитары. Я быстро взобрался на загон, выпрямился насколько позволял рост, удерживаясь ногами, и попытался увидеть, куда ушли малахитовые очи. Вглядываясь и вглядываясь в пестрое море около палатки, где сестры продавали яркие плетеные браслеты с камнями и деревом, я наконец-то заметил топленое одеяние ангела. Девушка стояла рядом с отцом, но совершенно не скрывала любопытных глаз, рассматривающих яркие украшения – скобяной прилавок некоего Лумира оказался аккурат с палаткой моих сестер.
Я хорошо видел, как ангел рассматривает задорную игру таборских музыкантов, летящие цветастые юбки и шали, оглядывает свое простенькое платье и снова вспыхивает интересом к немножко страшной своей неизвестностью и какой-то дикой свободной, но такой яркой, громкой, живой и совершенно другой жизни.
– Эй, почем кони?
Взглянув вниз, я увидел старичка, пожевывавшего тонкими губами. Нехотя спустившись с ограды загона, я лучезарно заулыбался предполагаемому покупателю:
– Две тысячи сребряных за пару.
– Дорого, – буркнул дед.
Конечно дорого, я специально цену поднял, чтобы потом торгом снизить до нужной.
– Нигде таких цен не найдешь. Сам коней вырастил, сам обучил, преданней собаки служить будут.
– Мерина поди? – хмыкнул дед и вроде хотел уйти, но не уходил, стоял боком, оглядывал народ и возвращался взглядом за ответом.
– Не! Что ты! Молодые жеребцы, смешай со своей или соседской кобылой и будут у тебя жеребя крепче всех во деревни.
Дед расхохотался щербатым ртом и переступил, перехватив гладкую ручку кривой палки. Только сейчас я заметил, что старик держит трость, потому как левая нога криво-косо смотрела коленом сильно вбок. Мне тут же пришла догадка, что дед пришел поизмываться над цыганами, как это бывало в других деревнях: нас не любили и скрывать это даже не думали. И тут же разозлился на себя, что не раскусил обман в «предполагаемом покупателе».
Мое нахмурившееся от этих мыслей лицо вывело старика на новый виток смеха:
– Ох, складно врешь! Вот все вы, цыгане, сказки горазды рассказывать. А коль до дела дойдет, так и пыль от табора уже улеглась.
Мне стало обидно. Я не врал.
– Ладно, брови-то не хмурь так строго. Давай, правду говори и цену сбивай.
– А я правду и говорю, – буркнул я, оборачиваясь и гладя любопытные морды. – Сам вырастил, сам воспитал. Четырехлетки отменные. Шаг мягкий, на рот чуткие, силы немереной. Хошь, сам в зубы загляни, если покупать вздумал. О цене договоримся, если намерения серьезные.
– Ох ты ж, намерения! Чай, не девка – жениться, а коней на срок долгий брать в работу. Я вон, вишь, хожу через раз, да знаю не понаслышке, что попадаются среди цыганских коней верные помощники. А мне сейчас как раз нужна пара: поле пахать, картошку в телеге тянуть, меня возить. Я-то по молодости был знатным наездой, с любым конем управлялся. Эх, ладно, потом повспоминаю. Конь у меня пал недавно, а без него несподручно мне хозяйство вести. Давай, я твоих посмотрю.
Пожав плечами, мол, мне скрывать нечего, я посторонился и пропустил дедка к коням. Несмотря на кривые ноги, старик лихо пролез сквозь ограду и огладил коней.
– Хороши, черно-белые, нравятся такие. Соседи, конечно, коситься будут, но пока они коситься будут, мы уже все поле вспашем, да, красавец? – Дед похлопал по шее одного из коней и ловко поднял тому верхнюю розовую губу, открыв крепкие молодые еще светлые зубы. – Смотри-ка, не соврал, и правда четыре года. А ну-ка, второй.
Дед осмотрел другого коня и остался премного доволен.
– Так, а какой, говоришь, мягче в ходу? Я уж седло не кидаю, а покатать зад охота, но чтобы мягко было.
– Этот, – с уверенностью кивнул я на правого коня.
Вообще, жеребцы были совершенно одинаковые, хоть и от разных кобыл, да от одного отца. Проточины на мордах и пятна на плечах, пузе и крупе были практически сходные – не приметив особенностей, никогда не различишь.
– Имена им уже, поди, присвоил? – прищурился старик, гладя тянущиеся морды, которым он дал по куску моркови.
– Не. Считаю, что хозяину новому называть. А то имя дашь, от сердца совсем оторвать будет сложно.
– Верно говоришь. Ну ладно, добро. Давай за тысячу двести пару?
– Тысяча девятьсот.
– Тысяча триста.
– Тысяча восемьсот.
– Добро, – неожиданно согласился дед. – Но, пока ты тут, обучи-ка мягкого на спину трюку лежачему, чтобы мне сподручней было забираться.
Вздернув темные брови, я удивленно уставился на старика со странной просьбой.
– Что зыркаешь, не сможешь что ль? Ты ж говорил, как родных знаешь, обучил всему.
– Знаю. Обучил, – согласился я. – Ладно, старик, обучу. Будет прямо к ногам твоим укладываться, ты только ногу перекидывай, да за гриву держись.
– Ну вот и славно, – улыбнулся дед. – Как обучишь, так и заберу и денег принесу.
Тяжело опираясь на трость, старик медленно похромал дальше, а я не мог отделаться от чувства, что старый хохмач пошутил надо мной, чтобы коней занять и не продать за те дни, что табор встал у этой деревни. Я даже подумал, что стоит продать коней дешевле, но кому-то другому, но случайно пойманный разговор совсем рядом заставил задуматься, как обучить Черноушка ложиться. Да, я слукавил, сказав, что не давал жеребцам имен. Да как без имен, если воспитываешь с младых копыт, душой проникаешься и доверие завоевываешь? Вот и стал один Черноушком, потому как оба уха были у него черные, а второй Белоушком, по тому же признаку.
А разговор я услышал такой:
– Опять старик Пиллу за свое, с цыганами якшается. Ты видала? У загона с пятнистыми терся… Неужто купить надумал этих мохнатых…
– Да поди он сам цыган в какой-то крови, вот и тянет его на них. Пойдем, увидишь, что опять притоптывает под скрипку их колдовскую со слезами на глазах, что сам в пляс уже пойти не может.
– В пляс не может, а в полях всех пашет. Нет, точно он коней купить вздумал. Помнишь, были у него уже, а последний то мерин у него пал, так он сам пахал, а здоровье-то уже не то. Нет, точно он коней прикупит и будет опять деревня под цыганским проклятьем ходить. Пиллу весь урожай, а соседям шиш сморщенный. Помяни мое слово.
– Угу-угу. Пойдем, посмотрим, каких соблазнов на этот раз цветастые привезли. О, Брагон, и ты тут?
– Доброго дня.
Я вздрогнул и резко обернулся, потому как до этого стоял спиной к болтушкам, чтобы не выдавать интереса к местным сплетням. Но знакомый голос, который заставил сердце биться чаще, вынудил меня рассекретить свое подслушивание. Ангел со своим стражем стояли совсем рядом.
– Совсем народу ум затуманили, – глухо прогремел высокий широкий мужик, крепко держа ангела за руку. – К Лумиру ходил, так он уже заказы у цыганских берет. Дурак! Не знает, что обманут, заберут готовое и фьють, в пыле дорожной растают.
Раньше бы я закипел, заяростился, не люблю, когда наговоры на мою семью почем зря разносят, но сейчас я не слушал, пусть говорит, главное, что она рядом стоит.
А она не просто стояла, она смотрела прямо мне в глаза. А я мог рассматривать белые прожилки в малахите ее взора. Удивительные глаза, опасные глаза, манящие глаза. Она улыбнулась, сузив берега вокруг малахитовых озер, и я улыбнулся в ответ настолько ярко, насколько мог, будто пытался через эту улыбку показать всего себя.
– Идем, дочка, неча тут делать.
И снова я провожал взглядом ангела в одеждах цвета топленого молока.
Но в этот раз ангел оборачивалась и рассматривала меня, будто старалась запомнить каждую черту такого нового, чужого, но почему-то волнующего юное, не искушенное яркостью и свободой сердце. Я видел этот интерес в ее глазах и смелых оборотах.
– Ай! – Серебряный металл обжег мое ухо. Я выпустил из взора ангела и, повернув голову налево, сразу споткнулся об горячий взгляд матери, в котором для меня не было ничего хорошего.
***
Собравшись вечером у высокого костра в круге кибиток и шатров, юные цыганки ловко готовили ужин на весь табор, мужчины толковали о своем, а женщины готовились ко второму дню ярмарки, подсчитывая прибыль с первого.
Моя мать долго вглядывалась в мои голубые глаза, пытаясь выяснить, почему кони еще едят овес табора, хотя должны быть проданы.
– Завтра коней заберут. Сторговался на тысячу восемьсот, попросил только старик ночь передержать, пока место двум готовит, – пояснил я почти чистой правдой.
– Ох, Лачо, когда ж ты свою наивность на волю отпустишь. Поиздевался над тобой месткач, а ты и поверил, – с досадой покачала головой мать. – Тебе Ляля яблоко не передала, сама съела?
– Передала я! Вгрызался Лачо в него, сама видела! Может, вообще, сам и съел.
– Все как велено, сделал. И не врал тот дед. Его странным считают в деревне, говорят, любит именно на наших конях поля полоть. А если, мать, не веришь, так погадай, и увидишь. А если ж обманул меня дед, то не знаю, поменяемся с сестрами: я пойду завтра браслеты девицам предлагать, а они пусть моих коней продают стоят.
– А ну! Советы мне раздавать вздумал. Но погадать, погадаю, – недобро прищурилась Зора. – Есть, что у судьбы спросить.
Где-то над лесом, который обрамлял с одной стороны деревню в долине пробухтел гром. Зора на этот звук резко обернулась:
– Не должно быть дождя. Не должны мы застрять здесь. Откуда дождь? Я же смотрела…
Подхватив юбки, мать быстро ушла в свой шатер.
– Не припомню мать в таком волнении, – протянула Рубина, моя старшая сестра. – Лачо, что уже натворил? Ты сейчас центр судьбы семьи…
– Ничего я не натворил, – отмахнулся я и пошел к коням, надеясь, что тень за пределами костра спрячет от всех яркий румянец на моих щеках.
Что-то изменилось в наших судьбах, я тоже это почувствовал. И дождя с громом быть не должно, я сам видел, как мать раскладывала на путь, и был он ясен и чист. А теперь гроза. Гроза всегда приносит перемены, смывает следы, размывает границы, вымывает фальшь, освежает мысли или пускает ручей, преграждая дорогу, намекая, что лучше искать другой путь.
Дойдя до загона с пегими, я остановился в темноте. Сердце гулко стучало и нагоняло страх, что мать увидит мой новый интерес. Я сам его еще не понимал, но хотел понять, узнать, почувствовать. А мать могла вмиг отобрать такую возможность.
– Хоть бы дождь, – против воли пробормотал я и испугался сказанных слов. Но душа закричала: «Хоть бы дождь!»
Мне впервые очень хотелось задержаться в деревне. И не потому, что я хотел успеть Черноушка научить ложиться перед стариком, а потому что понял, что у меня внезапно появился последний шанс, да, я точно знал, что единственный и последний шанс узнать другую жизнь, свободную, вольную, без тяжелого хомута долга перед семьей. Казалось, что если я не успею узнать, а сразу упаду весь в уплату долга, то жизнь станет глупой шуткой, не имеющей никакого смысла.
***
До глубокой ночи я учил Черноушка, снова и снова поражаясь толковости коня, который быстро научился ложиться по команде. Закончив, я уже собирался идти к костру, когда за мной пришла средняя сестра.
– Ты чего тут с конями возишься? – зябко кутаясь в накидку, позвала Рада. – Идем, ужинают все уже, а потом мать будет рассказывать, что в будущем увидела. Но уже видно, что нехорошее… Хмурная она, недовольная.