Приливы и отливы. Книга первая. Раздоры
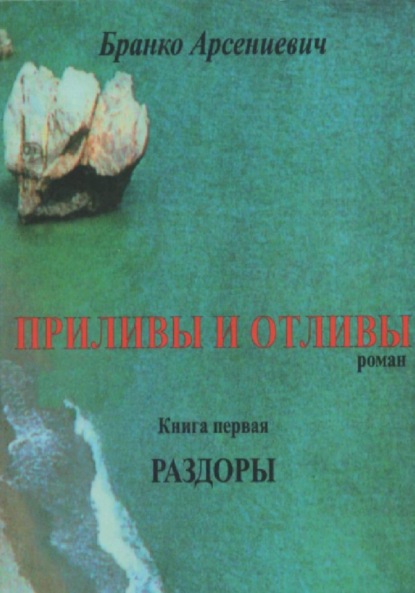
- -
- 100%
- +
Тана же его огрела плетью, а он, вздрогнув, опять заржал. Но и это не помогло, и тогда он из упрямства пошёл в гору в направлении Враняка. По этому пути, будучи под верховым седлом, он никогда не направлялся. И поэтому удивился, когда Тана отпустила поводья. Ну что же, раз так, то это уже не плохо. Там, на Враняке, он и без овса обойдётся.
Седло и в мыслях Таны вызвало какие-то необычные чувства. Обыкновенно девушки из Баневицы садятся в седло лишь когда едут в церковь на венчание. Поэтому и ей, как только что и коняге, показалось, что она что-то существенное забыла. Натянув поводья, она остановила коня, повернулась назад и посмотрела, не бежит ли кто-нибудь от дома, чтобы принести ей то, что она забыла.
День уже вовсю утвердился. Спускаясь с вершин гор к низинам, солнечные лучи золотой вуалью накрывали луга, изгоняя последние остатки тьмы из густых зарослей хвойных лесов, которые высоко над буковыми и дубовыми дубравами темно-зелёным обручем опоясывали всю Баневичкую котловину.
Привязанный к столбу вороной конь Данилы ждал его перед домом, готовый принять хозяина в седло. Добрица вышла проводить их.
– Счастья вам, дети мои! Береги Тану и не гони вороного, как это ты любишь, – сказала она заботливым голосом, будто Тана уже невеста Данилы.
Тана сразу вспомнила слова Марии: посмотри на Добрицу и увидишь себя, если выйдешь замуж за Данилу. Он так же выжмет из тебя все соки, как это сделал Милета с Добрицей. Пока не вышла замуж, была она писаной красавицей. Тана смотрела на неё сверху, стараясь найти хоть следы былой красы, о которой в Наковане много говорилось. Однако низенькая, сгорбленная, повязанная черным платком, с потрескавшейся кожей на руках и глубокими морщинами вокруг губ, перед ней стояла старуха, измученная заботами и непосильным трудом. И только в крупных чёрных глазах, влажных от невыплаканных слёз, она нашла робкие следы былой красоты.
– Не беспокойся за меня, тётя, – сказала Тана и, натянув поводья коня, погнала его вверх но крутому подъёму. Вскоре они добрались до плоскогорья. Разбитая дождями каменистая тропа, которая до этого извивалась по крутым кручам, теперь пролегала прямиком по долинам и дубравам. Кони зафыркали ноздрями, обозначая готовность пуститься вскачь по направлению к залитым солнцем лугам, которые зеленели вдали.
– Поскачем, Тануша? – спросил Данило.
Она чуть кивнула головой в знак согласия, и кони, будто поняв её ответ, поскакали по мягкой дорожке. Впереди скакал вороной Данилы. Серой масти конь Поповичей, как и его хозяева, считал вороного старой клячей, надломанной ещё в молодости тяжелыми грузами, дровами и сеном. Серый был сильнее вороного и быстрее в беге и теперь, мчась за ним, пренебрегал им как соперником. Но узкая тропа не позволяла ему обогнать вороного. Поэтому каждый раз, когда он его догонял, серый прихватывал вороного за круп.
Чувствуя это, Данило стегал вороного плетью, а Тане стоило лишь шепнуть своей лошадке: «Настигни его серый!» – и конь её мчался, догонял вороного и снова его покусывал.
XIII
Среди редких происшествий, которые влияли на формирование характера Здравко, а до некоторой степени и Таны, следует отнести непродолжительную и необыкновенную встречу с дядей Гавром, который неожиданно, как из небытия, когда его меньше всего ожидали, вернулся из России в Баневицу. О существовании дяди ничего не было известно, кроме разговоров о том, что в 1917 году волны Первой мировой войны подхватили его в Боке Которской, отнесли в дали дальние и выкинули где-то на берега Чёрного моря, уже в те времена охваченные Октябрьской революцией. Правда ли это и что дальше с ним произошло – никто достоверно не знал. Только появился он вдруг в дверях ночью, после почти двух десятилетий отсутствия, худой, бледный, с множеством шрамов на болезненном лице, что свидетельствовало о том, что жизнь ему доставалась нелегко и что ничего хорошего ему в чужбине «не обломилось».
Домочадцам, помнившим его молодым, он показался воскресшей из небытия тенью того, прошлого Гавро, быстрого длинноногого парня, которого на Враняке никому не удавалось обогнать.
Семья как раз ужинала. В очаге потрескивал огонь, а снаружи моросил мелкий октябрьский дождь. Входная дверь сперва приоткрылась на пядь, а потом всё шире и шире, пока в дверном проёме не показался человек, весь промокший, растерянный, словно не знавший, в чей дом он попал. Тишина постепенно сгущалась, пока её не проломил громкий возглас: «ГАВРО?!»
Давно уже оплаканный и забытый, Гавро стоял обрамлённый проемом, будто это его изображение, тусклое и потрёпанное изображение, которое вот-вот развеется и исчезнет, как исчезало сотни раз до этого. Случалось и раньше, во сне или наяву, когда ночью, в горах, вдруг какой-то обрубок дерева превращался в длинноносого Гавро, который из тьмы таращил глаза, такой же молодой и красивый, каким он запомнился в памяти. Открывал рот, чтобы что-то сказать, и тут же исчезал, когда к нему подходили ближе или когда его освещал проблеск молнии. Но так он виделся кому-то одному. А вот теперь увидели они все вместе, как Гавро нагнулся вперёд, собираясь переступить порог. Рот его полон невысказанных слов, а глаза – невыплаканных слёз. Тана и Здравко смотрели на воскресшего, как на призрак сумасшедшего дяди, который подался на чужбину в поисках правды, – будто правда – это то, что может быть утеряно, а потом найдено, – и который в этом поиске пропал, как пропадали и все остальные, которые до него и после него эту правду пытались искать.
– Ты ли это, дитя моё? – спросил Вукашин голосом, который и ласкает, и порицает. Он и рад, что сын вернулся, и укоряет его за многочисленные страдания, причинённые внезапным исчезновением. Но Гавро не принимает этого лёгкого упрёка и замер в ожидании, что домочадцы обрадуются его приходу. Ежели почувствует, что здесь он лишний, то готов вернуться назад и раствориться в темноте.
– Входи же! – наконец произнёс Вукашин.
Двери широко раскрылись, Гавро вошёл в дом, дошёл до очага, остановился и развёл руки в ожидании того, что кто-то бросится в его объятия. Взгляд его остановился на Здравко.
– Иди к дяде, – позвал он его. Здравко робко пошёл ему навстречу, а костлявые руки дяди подхватили его и высоко подняли. Гавро целовал мальчишку и плакал от счастья, будто именно в Здравко сосредоточены все чары родины: красоты Враняка и Блеевицы, журчание Вучьяка в сумерках, прохлада возле источников в дубравах, запах сирени весной вдоль тропинок и на лесных полянах. Заплакал и Здравко. И только тогда встрепенулась вся семья.
– Дай-ка, Миладине, винтовку, глас по селу разнести, – промолвил Вукашин. Миладин направился было в новую комнату за ружьём, но передумал и вернулся назад поцеловаться с братом. Мария прильнула к Гавро и тоже поцеловала его и произнесла торжественно:
– Слава, слава, Гавру дорогому! Слава, слава деверю родному! – и непонятно плакала она или веселилась.
Раньше сельские причиталки подобным образом его оплакивали:
– Рано улетел ты, Гавро дорогой,Из гнезда родного, сокол молодой!Горе, горе нам!Затем над домом раздался выстрел, и хриплый Дедов голос нарушил ночную тишину:
– О, Баневичане, вернулся Гавро Попович!
Вернувшись в дом, пошёл к сыну поцеловать его, но, подойдя, остановился, отошёл на несколько шагов, чтобы посмотреть на него с расстояния.
– А ты не болен? – спросил.
– Да ничего особенного, папа. Есть немного, но здесь, дома, всё быстро пройдёт.
А болезнь не отступала. Не прошло и двух месяцев, как Гавро слёг, чтобы больше не подняться, а домашние приняли особые меры по изоляции Здравко от опасной болезни.
– Дядя твой чахоткой заболел, в его комнату не заходи и долго в ней не задерживайся, – пугал и наставлял сына Миладин. Но Здравко это не испугало.
Думал он, что отец опять его обманывает, и поэтому, выбирая удобные моменты, тайком от домашних заходил к Гавро в комнату. Нравились ему ласковые глаза дяди и его приветливый голос. А больше всего то, как дядя с ним разговаривал.
– А ну, товарищ Попович, раз пришёл, то садись, поговорим немного, – и начинал ему рассказывать разные происшествия, каждый раз другие, исполненные всевозможными гибелями и жизненными водоворотами. Чаще всего это было связано с Октябрьской революцией в России. Впервые в истории человечества рабочие и крестьяне свергают ненавистное самодержавие.
Рассказывал ему Гавро о событиях в Одессе, Ростове и других городах, открывая перед ним новые горизонты, о существовании которых Здравко даже не подозревал. Потом, выйдя из комнаты дяди, он эти рассказы дополнял собственной фантазией. В мыслях он представлял себе две армии, сражающиеся между собой где-то наверху, в горах у Враняка и Яворка, а иногда и здесь, у Орловой скалы над селом. Везде, согласно рассказам дяди Гавро, побеждали красные. В разыгравшейся битве красная кавалерия неожиданно с тыла врывается в стан белых, разбивает их, и бегущего врага красные рубят саблями и затаптывают копытами коней. Виделось ему это и во сне, откуда-то выплывали бесконечные равнины, многолюдные поселения с пыльными улицами. Согнулся в три погибели старый царь, схватили его пролетарии и таскают из села в село, чтобы народ видел, кого они прежде боялись.
Так редкие встречи с больным дядей стали источником радости и вдохновения, единственной связью с незнакомым миром, его необъятными просторами, огромными морями, реками, городами, государствами, которые в рассказах Гавро сияли необыкновенным светом. Но встречи с дядей происходили всё реже и реже. Болезнь одолевала Гавро, голос его слабел, наподобие тому, как слабело журчание воды в Вучьяке в засушливые годы. Угасал и блеск в его глазах. Исхудавшее тело проваливалось в соломенном тюфяке. Если бы не голова на подушке, то показалось бы, что его и вообще нет, настолько ровно ложилось покрывало на постель. Редкие встречи становились всё короче и короче, создавалось впечатление, что вскоре они и вовсе прекратятся.
– Ты, дядя, скоро выздоровеешь? – спрашивал его Здравко.
– Надеюсь, а что?
– Когда выздоровеешь, я буду с тобой в одной комнате спать, и тогда всю ночь будем разговаривать, – отвечал он искренно. Дядю Гавро он считал единственным взрослым человеком, который никогда не обманывает и не врёт. Пока в этом не убедился, он задавал ему разные вопросы о Лако Чекиче и ране Миладина. И почему все домочадцы испугались, когда он вернулся.
– Деда нет. Он только растерялся. А вот Миладин и Мария – да. В Баневице земля между братьями делится, и при виде меня у них испортилось настроение, – ответил Гавро.
Никто другой ему бы это так не объяснил. Что-то в связи с разделом припоминалось ему, он услышал как-то ночью, когда Миладин и Мария, думая, что он спит, перешептывались между собой.
– Ты не беспокойся, Мария, не будет раздела, так же, как не будет женитьбы Гавро. Он уже одной ногой в гробу. Однако расходов у нас будет много и без раздела, похороны даже дороже свадьбы обходятся.
Гавро разговор о разделе земли переводил на разговор о другом, об источнике людских зол, и всё сводилось к разделению общества на классы. Одна кучка людей, которые выродились от безделия и стали душевными калеками, эксплуатирует весь народ, а затем это всеобщее зло перенеслось и вниз, на бедноту. Она между собой грызется за землю и воду и из-за этих ежедневных мелких споров и ссор не видит то настоящее, великое зло, которое является причиной всеобщего несчастия.
Во всех этих знакомых Здравку вопросах Гавро был искренен и неоспорим. И этого было достаточно для того, чтобы Здравко безоговорочно верил всему, что он рассказывал.
Смерть, которая сперва осторожно подкрадывалась, тайком проникала в комнату больного, наконец освоилась, нахально слонялась по дому и беспрепятственно заглядывала в комнату Гавро. Она уже стояла у его постели, наблюдала за больным, вглядывалась в его потускневшие глаза, чтобы решить, не пора ли из него извлекать душу.
О смерти в доме заговорили громко.
– Скоро костлявая его от всех мук освободит.
Миладин принес из города новую одежду: пиджак и узкие брюки с широкими отворотами, накрахмаленный воротник к рубашке, галстук и ботинки с тонкими подмётками. Деда приготовил четыре больших доски и прислонил их к наружной стенке дома. Зачастили посетители: ежедневно к вечеру приходили двое-трое, вроде бы ухаживать за больным. А в действительности усаживались вокруг очага, варили кофе, пили ракию, курили и изредка заходили в комнату к Гавро заглянуть ему в глаза, чтобы определить, не забрала ли уже его смерть.
– Нет, нет! Ещё не отошёл! И видать, ещё ночь протянет, – говорили.
Так, сами по себе, исчезли последние следы приличия. Двери в комнату Гавро уже были раскрыты настежь, а посетители и домочадцы говорили о его смерти громко, будто укоряя его в том, что он беспричинно откладывает действие, которое уже неизбежно, и тем самым подвергает себя мучениям, семью – издержкам, село – ожиданию похорон, заставляя всех томиться в предвкушении возможности напиться ракии и наконец закончить все эти хлопоты.
Здравко – всё время у двери комнаты, в которой лежал Гавро. Тщетно его родители, чтобы убрать из дома, прогоняли играть или посылали выполнять никому не нужные дела. Он слушался и уходил, но тут же бегом возвращался, будто боялся, что в его отсутствие случится нечто такое, чего он никак не хотел пропустить. Никак не удавалось его выпроводить из дома, и тогда Миладин прибег к хитрости.
– Слушай, – сказал он как-то после обеда, – твой дядя очень болен, ты и сам видишь. Если хочешь ему помочь, то вместе с Миодрагом Степановичем надо спозаранку с удочками отправиться на Вучьяк и ежедневно ловить и приносить домой хоть по одной форели. Доктор сказал, что только жареная форель может ему помочь. Но рыба ловится только рано утром, так что с вечера отправляйся к Миодрагу, там ночуй, а на следующий день, на заре, берите удочки и ступайте на ручей. И так каждый день, пока дядя не поправится. А потом и он с вами будет ходить вверх по ручью вплоть до Чёрного омута, где этой лечебной форели больше всего водится.
XIV
Чёрный омут – это круглое, как огромный котел, углубление под водопадом, в котором, когда количество низвергаемой воды после паводка уменьшается и больше не образуется сплошная пена, отражаются ветвистые стволы елей. Здесь возникает необыкновенный грохот, вечно существующий и в тоже время постоянно меняющийся, который, спускаясь по руслу Вучьяка, распространяется далеко по округе, а вверх по течению слышен аж на Враняке. Этот грохот – веление времени, это исконная мелодия, способная вызывать видения прошлого, это шум, по которому тоскуют все баневичане, переехавшие в другие края. С этим грохотом связаны многочисленные предания. Старые люди и сегодня утверждают, что Чёрный своим шумом предрекает счастье или горе, солнечную или дождливую погоду, и, собираясь на жатву, покос или в дальнюю дорогу, выходят из дома послушать, что же им Чёрный скажет.
– Стонал сегодня ночью, должно быть наводнение предчувствует, – говорят. Или:
– Воет как волк накануне голодной зимы – видать к снегу.
И по стечению каких-то неизвестных обстоятельств Рашево гумно было выбрано священным местом, где празднуют праздники и играют свадьбы, сходятся песни петь и народные танцы танцевать, куда и стар и млад приходит влюбляться; так, опять же благодаря стечению других обстоятельств, Чёрный омут был выбран местом постоянного сосредоточения всевозможных зол. Существует молва, что и день-деньской где-то в лесах у этого омута проживает прожорливое чудище, которое схватило и проглотило с костями и одеждой своенравного Дреню Цвиевича, придурковатого Еремию Шураковича и навязчивого Иована Коштанича. Да и многих других, которые в мирные времена исчезли и о которых «нет ни слуху ни духу».
– Проглотил Чёрный эту погань. – Или: – Настиг его чёрный денёк! Пристукнул его кто-то у Чёрного омута, – говорят в Баневице.
Так проще всего растолковать любопытной детворе некоторые дурные явления. Общеизвестно, что Чёрный, помимо людского мяса, любит и говядину, и конину, и любое другое. Счёта нет, сколько быков, коров и другого мелкого скота он проглотил.
Пока дети маленькие и пока они верят, что зло может существовать самостоятельно, вне людских деяний, им запрещают ходить к Чёрному омуту. А когда они вырастут, то отпускают их – девушек на Петров день, а парней на Вербное воскресение – сходить напиться «чёрной» воды и в ней искупаться. И это как бы является своего рода единением между злом и добром, без которого не существует ни одного живого существа.
Здравко и Миодраг знали об этом обычае. И то, что родители разрешили им раньше времени пойти к Чёрному омуту и доверили задание, от выполнения которого зависела жизнь человека, которого они любили, возбуждало в их сердцах чувство особой ответственности.
Рождалось тёплое весеннее утро. Паводковые воды уже сошли, но по берегам Вучьяка, по скоплениям мусора, по разрушенным яслям и плотам, по выбоинам и промоинам, которые половодье наделало, угадывались следы недавних разрушений. Уровень воды в Вучьяке установился, вода стала прозрачной, и рыба снизу, из Вучицы, поднялась на нерест. Поэтому постоянно то тут, то там, в прогретом солнцем мелководье, где вода, журча, переливается по серебристым камням, бьётся и кувыркается форель, поблескивая своими золотистыми ожерельями.
– Ух ты! А вон – наверху! И там! И всюду! Их уйма сегодня! – воскликнул Миодраг радостно, спеша по направлению к Чёрному омуту.
Берега Вучьяка обросли густым, местами непроходимым кустарником. Поэтому тропинка, вся изрезанная промоинами, то поднимается, то снова, обходя непроходимые чащобы, круто опускается к руслу ручья. Закрытое высокими берегами утреннее солнце эти места плохо прогревает. На равнине весна уже наступила, но здесь, в ущелье, – ещё не совсем. Да и студёная вода Вучьяка напоминает, что в горах зима ещё сопротивляется напору тёплых ветров.
Тропинка выпрямилась, заходя в густой еловый лес, грохот усилился, а рыбаки шли притихшие и говорили приглушёнными голосами, словно заходили в святые и таинственные места. Смешавшись с воем ветра в ветвях елей, общий шум как бы забросил пришельцев назад в прошлое, в то чувство постоянной настороженности, которое сопровождает каждое передвижение по незнакомой местности, так что в мозгах самопроизвольно начали возникать видения давно минувших дней. В воображении двух мальчиков Чёрный омут на мгновение превратился в ристалище, а отполированные за века движущейся водяной массой камни – в скользких земноводных, защищающихся от нападений лесных хищников.
– Ух ты, какой он, Чёрный! – восхитился Здравко.
Миодраг только махнул рукой и важно, как знаток, как бывалый рыбак, не боящийся омутов, начал разматывать удочки и устанавливать наживки.
– На тебе удилище, держи и смотри, чтобы наживка плавала по самой поверхности. Форель любит выпрыгивать, – сказал, забросив свою удочку.
Рыбки парами плавали вокруг приманок, приближались к ним, касались их своими резвыми хвостиками, а затем, словно чувствуя подвох, молниеносно исчезали в глубине, чтобы через несколько мгновений снова вернуться, и всё начиналось сызнова. Время проходило, а рыба не клевала.
Там, на противоположной стороне омута, где утренние солнечные лучи, пробившись через еловые ветки, уже пригревали, рыбки трепыхались и выпрыгивали из воды, каждый раз в другом месте.
– Спариваются и поэтому не берут наживку, – объяснил Миодраг.
– Что это означает?
– Значит, что женятся, это у них как свадьба.
– Ну так как раз на свадьбах много едят.
– Они не как люди, у рыб другие привычки. Когда спариваются, то только играют, а некоторые виды даже помирают от голода. Так этим наслаждаются, что питаться забывают, – сказал Миодраг и тут заметил, как кончик удилища у Здравко чуть качнулся.
– Ну, держи! Подсекай, чего зазевался?! Видишь, как дёрнуло! – крикнул. Леска натянулась, погрузилась в воду, а удилище прогнулось. Здравко обуяла радость от сознания, что он подловил лечебную рыбу, которую, как только они вернутся в село, поджарят и поднесут на тарелке больному дяде. А дядя, съев её, тут же выздоровеет, и они вместе поплывут по Вучице до Дрины, по Дрине до Савы и так далее, по рекам и морям, до Одессы и других удивительных городов, о которых ему Гавро рассказывал. Всё это перемешалось с боязнью, что леска оборвётся и пойманная рыба уплывёт. А была она большая и сильная – тянула крючок к середине омута. Удилище сгибалось, касаясь тонким кончиком водяной поверхности. В тот момент, когда уже казалось, что удилище сломается или леска оборвется, тяга ослабла, удилище выпрямилось, и рыба забилась на поверхности воды, трепыхнулась в воздухе и снова исчезла в воде.
– Тяни, тяни! – завопил Миодраг, а Здравко дёрнул удилище наверх и назад через плечо. Удилище согнулось, рыба, выдернутая из воды, как птица, пролетела над головой, сорвалась с крючка, хлопнулась о землю и, барахтаясь, начала скатываться по крутому откосу. Здравко кинулся её ловить, но она, сильная и скользкая, вырвалась из его рук и продолжала скатываться обратно в омут. Ещё несколько прыжков, и она снова окажется в воде. И он вернётся домой с пустыми руками. Дядя Гавро тогда умрёт, а ведь он мог сохранить ему жизнь.
«Ведь я уже было поймал рыбу и не должен её упустить», – подумал, настиг её и накрыл своим телом. Она бьётся у него под животом, он чувствует это, но боится пошевелиться, повернуться и даже говорить. Рыба дёргалась всё слабее и слабее, а он всё сильнее прижимал её животом. Когда она затихла, он осторожно засунул руку под живот, взял её за жабры, вытащил, выпрямился, сел, положил её на колени и дрожащим от волнения голосом весело промолвил:
– Молодчина я!
XV
Вернувшись в село с форелью, нанизанной на прут, сияя от счастья, Здравко вбежал в комнату к Гавро.
– Дядя! Милый дядя, смотри, что я тебе принёс! Я сам поймал! Сейчас её поджарим, и как только съешь, тут же выздоровеешь, – сказал, поднимая рыбу высоко над головой.
– Кто это?
Гавро не видел его. Глаза его уже отказали: зрачки расплылись, а белки замутились.
– Я, дядя, я это. Рыбу тебе принёс – форель. Все говорят, что она целебная.
– Долго тебя не было. Позавчера я тебя ждал, вчера. Хотел что-то тебе сказать.
– Позавчера папа меня не пустил. Вчера – тоже. А сегодня я ходил за рыбой для тебя. И поймал – вот она. Привстань немного и расскажи мне что-нибудь.
– Сейчас уже некогда. Уходить надо, тебя только дожидался. Ну-ка позови Миладина.
– Вот я, – вбежал Миладин.
– Бери вот это, и когда будет возможность, отпечатай где-нибудь за свои деньги, – сказал Гавро, протягивая Миладину две тетради, которые он хранил под подушкой и которые раньше показывал Здравко. – Я уже не смогу, опоздал, кажется.
– Да ну, что ты! Подожди немного, пройдёт у тебя всё, – Миладин сызнова врал. Гавро же не стал его слушать, запрокинул голову назад, замолчал и застыл неподвижно.
Что дальше было, Здравко не знал. Его выгнали из дома и приказали идти играть куда-нибудь наверх к Рашевому гумну и не возвращаться назад, пока не позовут. Ночевал он, как и прошлой ночью, у Миодрага Стефановича. А на следующий день оба сверху смотрели, как народ толпится в их дворе. Причитания со двора как бы поднимались вверх по садам, скатывались назад в долину и, смешиваясь с шумом Вучьяка, заполняли всё Дубокальское ущелье. Только к обеду он вернулся домой, увидел и запомнил, как дядю засунули в ящик, сколоченный из тех четырёх шершавых досок, которые Деда откуда-то приволок. Крышку ящика заколотили ржавыми гвоздями, которые гнулись, когда усатый Величко бил по ним обухом топора.
При этом Здравко казалось, будто он слышит голос Величко:
– На тебе! А ну, попробуй-ка отсюда вылезти, снова сбежать и где-то скрываться, а назад в Баневицу вернуться ночью, когда тебя уже никто не ждёт. Ничего у тебя не выйдет! Никто, чей гроб я заколотил, назад домой не возвращался!
И всё же даже после похорон Здравко ещё надеялся, что дядя выберется из этого ящика. Он ждал его каждым дождливым вечером, и если при этом открывали входную дверь, то всматривался в темноту. Бывало, кто-то из домашних скажет «бедняга Гавро», как бы подтверждая, что домочадцы побаиваются его возвращения. Ушёл он неудовлетворенным и сердитым и ежели вернётся, то может мстить им каким-то таинственным способом. Поэтому о нём говорят только хорошее, жалеют его и называют «бедняга». Сказывают: не позволила ему мерзкая болезнь жениться и с невестой погулять по горам. А вернулся он из дальних стран, соскучившись по нашим горам, лугам, родникам. Всё ему казалось, что он бы выздоровел, если бы смог подняться в горы, напиться там студёной водицы и полежать в лесной прохладе.
Слушая всё это, Здравко вспоминал и о том тайном разговоре родителей в новой комнате после смерти Гавро. Тогда они были рады его смерти, а теперь вот жалеют его. И тогда, и теперь они были искренними, это он наверняка знает, но удивляется, как в одних и тех же сердцах могут существовать такие противоположные чувства.





