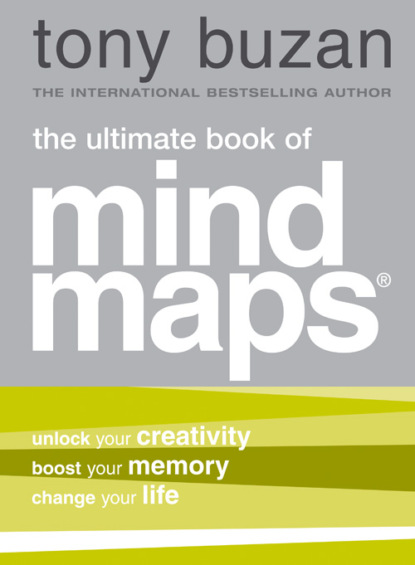Старый арбалет, синяя мухобойка, солдатский жетон и немного надежды

- -
- 100%
- +
– Не надо мне помогать!
Он только пожимает плечами.
Сквозь полуприкрытые веки Ева смотрит по сторонам.
– Что это за место? – спрашивает она и сама слышит, как сдавленно звучит её голос. Хочется пить, страшно хочется пить, но дело не в этом.
Нэйтан смотрит на неё и хмурится, хмурится, хмурится, и до Евы внезапно доходит: он тоже не знает, что она такое и откуда взялась, и ему тоже страшно.
Ну, в смысле, не «тоже». Она-то ничего не боится.
А он – ничего не знает.
Не знает, что такое тени и как выглядят монстры. Не знает, как на них смотреть и как с ними бороться. Не знает, откуда они берутся и куда отправляются. Понятия не имеет, что голову нужно обязательно отделить от тела, иначе воспоминания будут преследовать тебя наяву и во сне, и о войне тоже очевидно не знает.
И, если он ничего не знает о войне, значит, здесь нет войны, потому что если бы она была, он бы знал. О войне невозможно не знать. И, получается, когда войны нет, всё выглядит так?
Ева медленно поворачивается вокруг своей оси, стараясь запомнить всё, к чему прикасается взгляд. Рассветное солнце мёдом сочится с самого неба, пробивается сквозь лёгкие, неплотные облака, заливает лучами крыши домов и узкие улочки между ними, гладит деревья – такие зелёные, что у неё не сразу получается понять, что это деревья, тонет в огромной глади воды далеко-далеко за домами.
Отражается в этой воде так, что становится больно смотреть.
Ева снова и снова стискивает кулаки, но это не помогает. В глазах начинает щипать.
Она думает обо всех, кто погиб, так ничего подобного и не увидев.
Это просто нечестно.
– Мне нужно идти, – выплёвывает она сквозь зубы и разворачивается, чтобы сбежать, потому что если она не сбежит, она его точно ударит.
Ей хочется разбить что-нибудь, сломать что-нибудь, пнуть что-нибудь или хотя бы укусить что-нибудь, и она сжимает зубы так сильно, что челюстям становится больно. Ударяется плечом, пока спускается в люк, на секунду прижимается лбом к холодной стене.
– Это татуировки, – говорит Нэйтан ей в спину. – Это не шрамы, это татуировки.
Ева понятия не имеет, что он имеет в виду.
-3-
Нэйтан думает о случившемся, когда встаёт в пять утра, чтобы успеть поймать лучшие волны во всём океане.
Нэйтан думает о случившемся, когда ловит их – одну за одной – в одиночестве и когда на пляже начинает собираться народ, и по дороге домой думает тоже.
Нэйтан думает о случившемся, когда, вернувшись домой, засовывает пододеяльник в стирку.
Нэйтан думает о случившемся, пока тупо сидит, наблюдая, как внутри стиральной машинки наворачиваются круги.
Нэйтан думает о случившемся, когда достаёт влажный, сверкающий белизной пододеяльник и расправляет его по сушилке – чтобы ровненько, без единой складочки, не надо гладить.
Жизненная мудрость номер семь: если что-то можно не гладить, лучше не гладить. Если от чего-то в жизни можно отказаться, то глажка – первая в списке.
Жизненная мудрость номер восемь: в принципе, если ты на это не соглашался, то и отказаться вряд ли получится, и здесь перед глажкой у Нэйтана нет никаких обязательств, а личные границы он готов отстаивать с мухобойкой.
Или, может быть, с липкой лентой.
Когда Нэйтан идёт за ней в магазин, он всё ещё думает о случившемся. Не может не думать.
Всё, что раньше казалось привычным, существующим по умолчанию, теперь кажется… новым. Это глупо, но он пытается увидеть свой город глазами Евы. Не то чтобы это было важно – в конце концов, он даже не уверен, что она действительно существует, хотя тёмное пятно сумрачной крови на белом пододяельнике всё утро говорило ему об обратном, но тем не менее.
Ему просто интересно, как его город выглядел её глазами. Или, может быть, что такого она увидела, что решила сбежать?
Нэйтан – не дурак. Он, конечно, не все экзамены сдал на высшие баллы, да, в общем-то, к этому и не стремился, но тут не надо быть первым учеником, или лучшим студентом, никем угодно не надо. Это не ракетная наука, это понятно без объяснений: что-то её испугало. Или – задело. Или – расстроило настолько, что ей захотелось сбежать.
Почему вообще люди сбегают?
По дороге домой он спрашивает это у Генри, младшего брата, потому что в супермаркет за липкой лентой они ходили вместе. Ну, то есть, Генри ходил просто за компанию, просто потому что на улице – классно, а в супермаркете – весело, а вовсе не за липкой лентой, мухи его не волнуют. Он, кажется, может подружиться со всем и всеми на свете – начиная с камнями на улицах и заканчивая злой соседской собакой, и от него никто никогда не сбегает, а если и сбегает, то возвращается.
Единственное исключение, наверное, их отец, но там ведь не в Генри причина.
Нэйтану потребовалось несколько лет для того, чтобы убедить себя в том, что причина заключается и не в нём, и даже не в матери, и он готов сделать всё на свете, чтобы Генри не пришлось в себе сомневаться.
С этой точки зрения, скорее всего, было крайне тупо задавать этот самый вопрос.
Но ничего не поделаешь.
Жизненная мудрость номер девять: иногда ты и правда ничего не поделаешь.
Генри пинает камешек, и Нэйтан ловит его носком кеда, чтобы отправить обратно.
– Иногда, – говорит Генри, – люди сбегают, потому что им очень охота остаться.
Соломенная чёлка падает ему на глаза, и он, конечно, ужасно умный для своих двенадцати лет, но Нэйтан сильно сомневается, что в случае с Евой причина заключалась именно в этом.
***
Медовая принцесса никогда не лезет за словом в карман.
Пчёлы её никогда не кусают.
С ней всегда весело, у неё всегда наготове тысяча шуток, тысяча мудростей и тысяча и одно оправдание любой ерунды, которую Ева бы не натворила.
Во снах всегда так: всё, что важно, кажется мелочью, а все мелочи становятся важными – и пугают, и обижают, и ранят, но медовая принцесса разгоняет их парой удачных слов и, может быть, пчелиной армией тоже.
Если она снится Еве, значит, утром на кухне обнаружится мёд.
Ева понятия не имеет, как это работает, но предпочитает об этом не думать.
Сегодня медовая принцесса смотрит на неё почти с состраданием, но всё равно улыбается и говорит что-то вроде: «Я рада». Чему конкретно она радуется, Ева вряд ли сможет сказать, но если хотя бы кто-то радуется – уже хорошо, разве не так?
Медовая принцесса хлопает её по плечу: «Всё будет так здорово, ты даже представить не можешь».
Это правда. Она действительно не может представить, чтобы всё было здорово.
Ева просыпается, и первое, что она видит: собственные ботинки. Она, пожалуй, снимает их только когда отправляется в душ, и даже спать предпочитает всё-таки в них.
Да, монстры никогда не нападали на них днём, но никогда нельзя быть уверенной. Никогда. Это не говоря о возможной воздушной тревоге.
Ева просыпается, и второе, что она видит: Фрэнсис. Она лежит головой у Фрэнсис на коленях, и это хорошо, это привычно.
Ева просыпается и открывает пересохший рот исключительно для того, чтобы задать первый вопрос, который приходит ей в голову:
– Длинная пластиковая ручка, а сверху пластиковая же сеточка в виде ладони. Видела когда-нибудь такое оружие?
Она странная по утрам, так все говорят.
У Нэйтана было такое оружие. Он отложил его в сторону, чтобы показать, что не представляет опасности, и хотя Еве, во-первых, сложно представить, как такая штуковина могла бы ей навредить, во-вторых, сложно представить, как ей мог бы навредить он – такой домашний и никогда не видевший монстров, она всё равно этот жест вроде как оценила.
Или нет. Конечно же, нет. Что за глупости?
Фрэнсис смеётся, протягивая ей кружку с восхитительно холодной водой, и Ева с жадностью принимается пить.
– Это не оружие, – говорит Фрэнсис, двумя руками убирая волосы за уши. Кожа у неё на руках сухая, потрескавшаяся. – Это мухобойка.
Ева моргает. Потом моргает ещё раз.
Мухобойка? Серьёзно?
***
Он вешает липкую ленту под потолок и, честно говоря, это уродует комнату.
Может быть, кто-то другой сказал бы, что комнату больше уродует постоянный бардак, или два старых комода, стоящих друг к другу впритирку, или три распиханных по углам доски для сёрфинга и одна – для сноуборда, но в таком случае этот кто-то другой явно ничего не понимал бы в дизайне.
Ну, или не в дизайне, а в жизни.
Жизнь – она ведь про то, что тебе нравится делать, про то, что ты любишь и от чего получаешь удовольствие, а не про то, что хорошо выглядит или кому-то другому кажется правильным.
Жизненная мудрость номер десять, ага.
– Дались тебе эти мухи, – говорит Генри, не отрываясь от телефона.
Генри на «ты» с технологиями, особенно с новыми, вроде планшетов, и смартфонов, и джойстиков, а вот какой-нибудь CD-плеер и в глаза ни разу в жизни не видел, и он играет во что-то шумное и яркое, и играет весьма увлечённо, и, судя по довольному лицу, у него хорошо получается.
Может быть, он и с подкроватным монстром справился бы лучше, чем Нэйтан.
Интересно, а липкие ленты от них помогают?
Всё, что произошло на рассвете, всё ещё кажется нереальным.
Нэйтан точно знает, что это не было сном, хотя бы просто потому, что сны он не запоминает, а о Еве забыть не получается. И, раз такой удобный вариант отпадает, он мог бы попытаться убедить себя в том, что просто придумал себе и клубящийся сумрак в форме изломанного, мёртвого тела, и уставшую девушку, затянутую в чёрную кожу, но ему всегда казалось, что фантазия – не его сильная сторона.
– Помнишь, в детстве ты просил меня рассказывать сказки?
Он тактично не упоминает о том, что возраст Генри, на его взгляд, и сейчас ещё детство. Он тактично молчит о причинах, по которым они жались друг к другу.
Генри – совершенно нетактично – отвечает:
– Ага, и ты был безнадёжен.
Придумывать истории у Нэйтана не получается. И, раз придумывать истории у него не получается, а все пальцы постоянно были на месте, вывод напрашивается только один: и уставшая девушка, затянутая в чёрную кожу, и клубящийся сумрак в форме изломанного мёртвого тела, – всё было правдой.
И он не знает, что с этим делать.
Со вздохом Нэйтан опускается на пол. Он приваливается спиной к кровати, прячет лицо в ладонях. Как ни странно, ему больше не тяжело и не страшно, удара сзади он тоже не ждёт, под кроватью, надо думать, всё чисто. Ну, не в прямом смысле, конечно, в прямом смысле там почти наверняка много пыли, но никаких монстров там больше нет – и ощущение чужого внимательного взгляда, неотступно следящего за каждым движением, тоже пропадает.
Он чувствовал его несколько дней.
Наверное, это был монстр.
Наверное, он уходил и возвращался, пока Ева его не выследила – и не пришла за ним, холодная и стремительная, загадочная и далёкая, с этим своим арбалетом.
Если один монстр пришёл, означает ли это, что придут и другие?
Если Ева выследила монстра, означает ли это, что она выследит и других?
Нэйтан стискивает зубы.
– Тебе нужно поспать, – заявляет Генри со своей привычной, но всё ещё обезоруживающей (и иногда раздражающей) прямотой. – Выглядишь просто паршиво.
– Тогда – вон из моей комнаты, – через силу улыбается Нэйтан.
Ему стоит большого труда не добавить, что здесь теперь, кажется, не самое безопасное место.
***
Когда Ева снова просыпается, она обнаруживает, что так и лежит головой на коленях у Фрэнсис.
Тёплые пальцы перебирают её волосы, гладят по голове. Фрэнсис сняла с неё тугую резинку, распустив высокий хвост, Фрэнсис расстегнула давящий воротник куртки, Фрэнсис сняла арбалет и отставила его в сторону, чтобы не врезался под лопатку, пока Ева спит.
У Фрэнсис неровно обрезанные рыжие волосы чуть выше плеч, огромные голубые глаза с родинкой прямо на радужке и она умеет заботиться.
– Привет, – говорит Ева, потому что она всегда так говорит, когда просыпается.
– Привет, – отвечает ей Фрэнсис, потому что она всегда так отвечает.
Фрэнсис не ходит на охоту, и каждую ночь кто-то из них – или, лучше сказать, каждый из них – охотится за двоих. Это могло бы означать, что всего нужно убить двух монстров, за себя и за Фрэнсис, но на самом деле это означает немножко другое, всегда означает немножко другое.
Нужно убить как можно больше монстров, а там – будь что будет.
Ева лезет в карман, и Фрэнсис подставляет ладошки под россыпь цепочек и жетонов, которые Ева ей принесла. Они все приносят их каждое утро, такая традиция.
Где-то наверху натужно воет сирена.
Ни Ева, ни Фрэнсис не двигаются с места. Они у Евы в комнате, а комната Евы – в подвале, а это значит, что можно не бояться бомбёжки, к тому же, за последние лет восемь они стали редкими – буквально раз в три месяца, может, и реже, и, с одной стороны, это хорошо, потому что значит, что людей, способных отправлять ракеты и управлять самолётами, становится всё меньше и меньше.
Но, с другой стороны, чем меньше на войне остаётся людей, тем больше там появляется монстров.
– Иногда я боюсь, что если бомбы будут падать так редко, – чуть улыбается Фрэнсис, – то я перестану понимать по звуку их падения или взрыва, насколько они далеко.
Ева морщится. Она хочет, чтобы Фрэнсис перестала это понимать. Чтобы они все перестали.
Она вспоминает про залитый утренним солнцем город, который увидела как на ладони, и дышать становится больно. Ей хочется рассказать об этом Фрэнсис, просто чтобы та тоже узнала, что мир не ограничивается холодными подвалами, полутёмными гостиными, разрушенными домами и хриплым свистом воздушной тревоги, но она ничего не говорит – просто не уверена, что может себе это позволить.
Может быть, некоторых вещей лучше не знать.
Пусть хотя бы одна из них спит спокойно.
И живёт спокойно, потому что весь день, до самого вечера, Ева не может перестать думать о том, что увидела, и перестать думать о Нэйтане тоже не может.
Нет, не о его золотистых кудряшках или уверенных движениях, не о залитой солнечным светом крыше и не о чёрных цветах, растущих у него на руках, а о том, что из полуразрушенной школы, стоящей в высшей точке одной из полуразрушенных улиц можно попасть к нему в спальню.
Ну, почти к нему в спальню.
Что, если через этот тонкий проход, через эту трещину – между мирами – проберётся кто-то ещё?
Ей хочется рассказать об этом Фрэнсис, чтобы посоветоваться, чтобы спросить, что ей делать, но Ева думает, что и без разговоров знает ответ.
Фрэнсис – добрая, Фрэнсис – добрей, чем она, Фрэнсис не охотится на монстров, но зато умеет заботиться, и Фрэнсис обязательно скажет ей, что нужно предупредить Нэйтана об опасности. Скорее всего, Фрэнсис скажет, что одного предупреждения будет мало, что нужно будет спасти его мир, закрыть проход, что-то придумать.
Ева не такая.
Еве не хочется ничего закрывать.
Ева думает: может быть, если её мир превратился в пыль, пепел и боль, если она не знает ничего, кроме холода, сырости, осторожности и умения выслеживать тени, может быть, пусть и с другими всё будет так же?
Пусть и его солнце перестанет быть солнцем, которое гладит по щекам ласковыми лучами, и превратится в солнце, которое сжигает монстров – и ничего больше.
– Хочешь выйти на улицу? – спрашивает Фрэнсис, словно прочитав её мысли. – Позавтракаем прямо там. Сегодня должно быть солнечно.
Солнечно.
Ева трясёт головой.
Они, конечно, выходят на улицу. Недалеко, потому что далеко идти особенно некуда, просто устраиваются на ближайшем целом крыльце, вместе с термосом крепкого чая, с мёдом и двумя кусками хлеба, который Фрэнсис печёт каждый вечер. Слишком твёрдый снаружи, слишком мягкий внутри, он лучше всего, что Ева когда-либо ела, но когда она смотрит на Фрэнсис, жмурящуюся на солнце и подставляющую ветру лицо, то забывает о хлебе.
Есть две вещи, и Ева не знает, какая из них важнее и какая ранит сильнее.
Первая заключается в том, что Фрэнсис, кажется, может чувствовать ласковые солнечные лучи даже здесь. Вторая – в том, что для того, чтобы у неё и дальше была такая возможность, Еве нужно продолжать сражаться.
Что бы там ни сказала ей Фрэнсис (а она пока ничего не сказала), Ева не может забивать себе голову спасением чужого мира, когда с её собственным происходит то, что происходит. Она не может волноваться о монстрах, прячущихся у Нэйтана под кроватью, или о том, сколько в этих монстрах опасности, или о Нэйтане в целом, пока ей каждую ночь нужно драться, чтобы всё это… ну, хотя бы не закончилось, но стало чуть ближе к финалу.
У Нэйтана есть мухобойка. С ним всё будет в порядке.
Она не может позволить себе прийти к нему, пока нужно убивать тени и быть кому-то полезной, но когда за десять минут до полуночи монстр, которого она преследует, сворачивает на ту самую улицу, это превращается в отличный повод и неплохую причину.
Ева никому – даже самой себе – ни за что не признается, что, возможно, она не совсем преследовала этого монстра, скорее, загоняла его туда, куда нужно. Чтобы у неё была причина и повод.
Её бесит тот факт, что ей нужны причина и повод.
-4-
Когда Генри, пожелав ему спокойной ночи, уходит, большого труда Нэйтану стоит ещё кое-что. Удержаться от того, чтобы заглянуть под кровать и проверить, нет ли там Евы.
Нет, он помнит, что она вошла через дверь. И думает, что монстр, наверное, тоже вошёл через дверь, только он, Нэйтан, его не увидел.
Интересно, почему монстр на него не напал?
Интересно, почему он просто прятался тут под кроватью несколько дней – но так и не привёл остальных?
Интересно, он уже сошёл с ума или всё-таки ещё в адеквате?
Под кроватью нет никакой Евы и монстров там тоже нет. Зато есть забытый носок, недочитанная книга, огрызок яблока и три мёртвые мухи. Нэйтан выгребает мусор, отправляя всё, кроме книги, в корзину и думает, что может быть, настало самое время убраться.
Когда он встаёт, чтобы отправиться в ванную комнату за шваброй и тряпкой, в дверях, преграждая ему дорогу, уже качается монстр.
Он правда качается, будто бы растерянный или даже уставший, и на какое-то время Нэйтану даже становится его жаль, но потом монстр шагает вперёд и замахивается на него длинной лапой, и времени на жалость у Нэйтана не остаётся.
Жизненная мудрость номер одиннадцать: если кто-то тебя бьёт, его не нужно жалеть. От него нужно убегать – и как можно быстрее, ну либо драться.
Жизненная мудрость номер двенадцать: книги – лучшее оружие.
Нэйтан швыряет в монстра книгой, и, попав, тянется за мухобойкой. Это, конечно, просто смешно, просто смешно и в чём-то даже кинематографично – драться с клубящимся сумраком с помощью синего пластика, но особого выбора нет.
Или всё-таки есть?
Он отмахивается от монстра, будто от назойливой мухи, параллельно оглядываясь и пытаясь отыскать что-то, что поможет в бою, жалея, что он не Генри и вместо того, чтобы проводить время за компьютерными или телефонными играми, проводит его на доске.
Кстати, о досках.
В конце концов, он просто роняет на шатающегося монстра сноуборд – и, кажется, это работает.
Тот, чуть поскулив, затихает.
– Голову нужно отрезать, – слышит Нэйтан от двери и, вопреки абсурдности всей ситуации, может только вздохнуть с облегчением.
Голову так голову. Приятно, когда хоть кто-то знает, что делать.
Когда с головой покончено, они снова вытаскивают монстра на крышу – и на этот раз остаются с ним рядом. Ну, то есть, Нэйтан пару раз дёргается, порываясь вернуться, ведь если за этой тенью последует что-то ещё, нужно быть готовыми, нужно остановить, но Ева выглядит спокойной, а ей, наверное, всё же виднее, так что в итоге и он расслабляется.
В конце концов, до рассвета ещё далеко. Обезглавленное тело нужно покараулить.
Они сидят на крыше рядом, почти соприкасаясь плечами, его татуировки – к его кожаной куртке, и Нэйтан вспоминает, как она спросила, что это такое.
Интересно, это означало, что ей понравилось – или наоборот?
Не поворачивая головы, он осторожно косится на Еву, но она не смотрит на него, смотрит вдаль. Минута проходит за минутой, они оба молчат.
***
Летом никогда не бывает по-настоящему темно, но сейчас смотреть на мирный город, по крайней мере, чуть выносимей.
Небо на востоке уже начинает светлеть – тонкая полоска над горизонтом, но светлеть летнее небо начинает так рано, что солнце, на самом деле, ещё и не думает подниматься. Деревья пока ещё выглядят чёрными, водная гладь вдали тоже выглядит чёрной, равно как и крыши домов – и можно даже представить, что всё это тоже полуразрушено.
Ева не знает, спокойнее ей станет от этого или больнее.
Может быть, знать о том, что хотя бы где-то всё хорошо – это и есть настоящее счастье. Но даже если и так, она всё равно чуточку злится. Ничего не может с собой поделать, да, в общем-то, и не пытается.
Редко где горят окна. Все спят.
– Может, поговорим? – спрашивает Нэйтан, когда ей и самой начинает казаться, что молчание слишком уж затянулось.
Одна проблема: Ева не знает, о чём.
– Прости, – говорит она.
– За что?
– За то, что пришла слишком поздно и тебе пришлось сражаться с ним самому.
Ева задержалась, потому что сыпала соль на порог школьного крыльца, чтобы монстры хотя бы до утра его не замечали. И не только на порог, она оставляла по щепотке и дальше.
Нэйтану она, конечно, не скажет.
Может быть, именно поэтому она не чувствует себя виноватой и, судя по взгляду, он это понимает. Нэйтан смотрит на неё, приподняв обе брови, сомневаясь в том, что она действительно сожалеет, и почему-то именно из-за этого где-то внутри поднимает голову чувство вины.
– Ты хорошо справился, – говорит Ева, чтобы избавиться от этого чувства. Оно ей не нравится.
Он не спешит принимать похвалу.
Он передёргивает плечами, будто что-то его беспокоит, а потом открывает рот и рассказывает, что именно:
– Кажется, он и без меня был на последнем издыхании. Не такая уж и чистая победа, короче.
Победа есть победа, думает Ева.
Монстр был полным сил, когда ускользал от неё в темноту коридора.
Она сомневается прежде, чем сказать это вслух.
– Может быть, – чуть помедлив, добавляет она, – может быть, они чувствуют себя слабей в этом мире? Может быть, им здесь тяжело?
Как и мне, вот что повисает в воздухе недосказанным.
Взгляд Нэйтана становится внимательным, острым, и на всякий случай Ева проверяет, застёгнута ли молния на куртке. Молния застёгнута до самого горла, воротник давит на шею, но она всё равно ощущает себя полураздетой.
Правда заключается в том, что – как бы действительно тяжело ей здесь ни было – на самом деле ей здесь не так уж и тяжело. Это странно, запутано и непривычно, и она наверняка сбилась бы, если бы попыталась рассказать о своих ощущениях Фрэнсис, но вот что Ева чувствует прямо сейчас: она не ждёт нападения.
Не в смысле совсем-совсем не ждёт нападения, ясное дело, но приблизительно каждый четвёртый удар её сердца совершенно спокоен.
Такое вообще с ней было когда-то?
– Думаешь, они слабеют после перехода через портал или что это там было? – спрашивает Нэйтан, и звук его голоса отвлекает от мыслей.
Любых.
Абсолютно.
– Думаю, да, – с трудом говорит Ева. И зачем-то добавляет: – Я назвала это трещиной.
Нэйтан хмурится, чуть крепче обнимая колени. Он в тех же штанах, что и вчера, мягких и клетчатых, и его кудрявые волосы рассыпаются по плечам, на которых цветут всё те же цветы из не-шрамов. Еве хочется прикоснуться – и к кудряшкам, и к лепесткам, и поэтому, на всякий случай, она прижимает ладони к прохладному шиферу крыши.
– Ну, – Нэйтан сглатывает, – если есть портал между мирами или, как ты говоришь, трещина, значит, есть и два разных мира?
С ним не поспоришь.
– Получается, так.
***
У него, конечно, голова идёт кругом.
Сегодня Ева выглядит ещё больше уставшей, чем вчера, во всяком случае, если судить по синякам под глазами, но вместе с тем и чуть более… разговорчивой? дружелюбной? расположенной к диалогу?
Наверное, это всё потому, что сегодня он продемонстрировал ей свою не-бесполезность. Показал, что не станет лёгкой жертвой для монстров. Доказал, что тоже может сражаться.
Нэйтан купается в этой приятной мысли примерно четыре с половиной секунды, а потом вспоминает, что, во-первых, просто кинул в монстра недочитанной книгой, во-вторых, просто ударил его мухобойкой, в-третьих, просто уронил на него свой сноуборд.
Вряд ли это считается достойной победой?
Если честно, ему хочется, чтобы Ева сказала, что очень даже считается.
Вместо этого она говорит:
– Я не знаю, как это возможно. Никогда ни о чём подобном не слышала. Вчера я преследовала монстра, и он проскользнул в здание школы, а я просто пошла за ним, и…