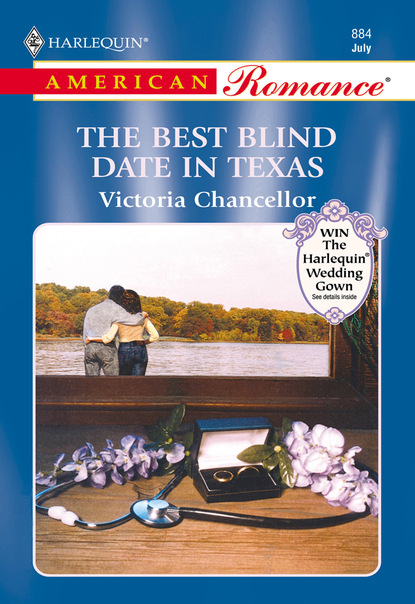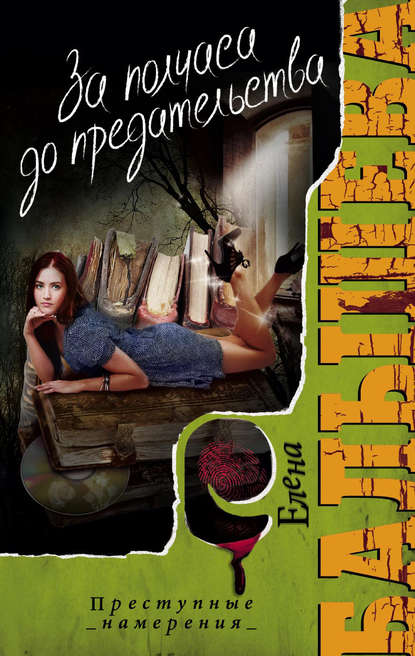Что такое Сангха? Природа духовной общины
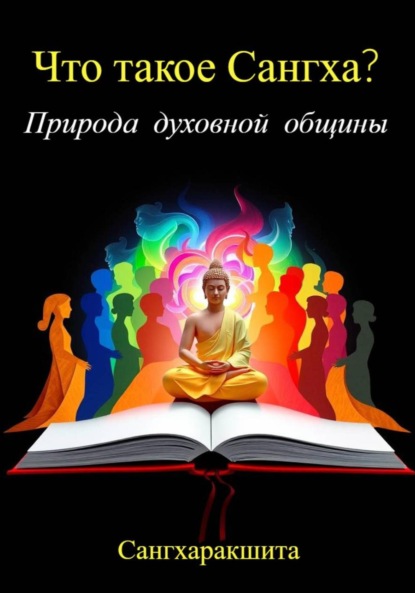
- -
- 100%
- +
Мы чаще всего нуждаемся в поощрении, поддержке и вдохновении со стороны тех, кто идет в том же направлении, что и мы. Нас естественным образом поддерживают те, кто разделяет нашу особую заинтересованность в чем-то. Несмотря на то, что нам все еще нужно прикладывать самостоятельные усилия, по крайней мере, мы видим их цель более ясно – мы меньше подвержены сомнениям. Членство в сангхе также дает нам возможность служить другим, выражать нашу щедрость и готовность помочь. Даже такое простое дело, как подготовка чая и печенья для буддийского праздника, может помочь нам открыть в нас самих способность к щедрости, альтруизму и доброжелательности ко всем.
Таким образом, сангха нужна, чтобы помочь нам узнать себя и лучше выражать себя. Это становится возможным, потому что каждый, кто участвует в ней, предан Будде как идеалу знания себя в высочайшем и глубочайшем смысле, и Дхарме как идеалу, различным принципам и практикам, благодаря которым это знание себя может быть обретено. Общая преданность первым двум Прибежищам создает единую связь между членами духовного сообщества. Мы следуем, хотя и на различных уровнях, одному и тому же пути, ведущему к достижению одной и той же конечной цели.
К тому же, если человек на самом деле не стремится к Просветлению и не пытается практиковать Дхарму, он может сказать, что предан этим идеалам, но, чтобы он ни говорил, он не более член сангхи, чем осел, следующий за стадом коров, может быть частью их стада. Этот образ Будда использовал в «Самьютта-никае». Как он это описывает, «осел может сказать «и я корова, и я», но у него нет ни рогов, ни копыт, ни чего-либо другого, похожего на коровье, что бы он ни говорил». Подобно этому, простое повторение Прибежища не делает человека членом сангхи. Это связь – внутренняя, духовная15.
На определенном этапе нашего развития, сколько бы мы ни медитировали и ни читали книги о духовной практике, нам нужно признать, что этого недостаточно. Вне всякого сомнения, мы можем многому научиться самостоятельно. Но если мы хотим полноценно развиваться духовно, рано или поздно нам придется на собственном опыте пережить, насколько важно общение в нашей духовной жизни. Следующая строфа происходит из Дхаммапады, одного из самых ранних собраний учений Будды, и цитируется здесь в оригинале, на пали:
Сукхо буддханамуппадо,
Сукха саддхаммадесана.
Суккха сангхасса самагги,
Самагганам тапо сукхо16.
Первая строка означает: «Появление Будды приносит счастье, блаженство, благословение («сукхо»)». Когда человек становится Буддой, это счастливый момент для всего человечества. Вторую строку можно перевести так: «Счастье – проповедовать подлинное учение». Преподнесение Дхармы – благословение для всего мира. Третья строка такова: «Счастлива духовная община, следующая общему пути». В четвертой строке «тапо» означает «жар» и относится к духовным практикам, которые подобны огню, выжигающему все нечистоты. Следовательно, строка означает: «Пламя духовной практики тех, кто следует одному пути, счастливо или благословенно».
Недостаточно иметь отдаленное преставление о Просветлении, теоретические сведения об учениях Будды или буддийской организации. У буддизма нет будущего без действительно единого и преданного духовного сообщества, посвятившего себя совместной практике. И, если буддисты действительно собираются вместе в подлинном духе сангхи, тогда есть возможность хотя бы на время оказаться в дхармадхату, измерении Дхармы. В этом измерении все, что мы делаем, – это практика Дхармы, все, о чем мы говорим, – это Дхарма, а когда мы молчаливы и спокойны, мы наслаждаемся Дхармой вместе в тишине и покое. Тучи стресса и беспокойства, которые столь часто нависают над нашей мирской жизнью, рассеиваются, и источник вдохновения в наших сердцах начинает бить с новой силой.
Традиционная Сангха
Празднование Прибежища в СангхеДостаточно просто принять решение посвятить себя Трем Драгоценностям. Однако совсем не так просто поддерживать это обязательство. Если мы недостаточно осторожны, видение тускнеет, мы теряем присутствие в настоящем, впадаем в отвлечение и беспокойство или устраиваемся удобнее и погружаемся в апатию и таким образом нарушаем наше обязательство. Следовательно, абсолютно необходимо, чтобы мы устроили нашу жизнь так, чтобы в ней присутствовали регулярные напоминания о нашем первоначальном обязательстве. Есть много способов это сделать (на самом деле, можно даже утверждать, что буддийская практика во всех своих аспектах разработана для того, чтобы этого добиться), но одно из традиционных напоминаний – это участие в буддийских празднованиях.
Просветление Будды отмечается в день полнолуния индийского месяца «Висакха» («Весак» по-сингальски), который приходится на апрель или май. В этот день, также известный под названием «Будда Джаянти», мы напоминаем себе о том, чего может добиться человеческое существо и, следовательно, мы тоже можем к этому стремиться. День учения Будды, «День Дхармы», празднуется в день полнолуния индийского месяца Асала, в июне или июле, и этот праздник также отмечается ежегодно в честь первой проповеди Будды, его первого развернутого учения человечеству. Что касается Сангхи, празднование в честь нее, напоминающее нам обо всех тех, кто следовал пути Просветления до нас, и о самом существовании духовного сообщества, отмечается в день полнолуния месяца Карттика (в октябре-ноябре). День Сангхи отличается от двух других основных праздников, потому что он не связан с каким-то особым событием из жизни Будды. Вместо этого, он напоминает нам о ежегодном событии в жизни ранней сангхи.
Если мы вернемся в воображении к первому духовному сообществу, сплотившемуся вокруг Будды, мы обнаружим, что оно состояло из тех, кого я назвал бы «частично вовлеченными» и «полностью вовлеченными» ее участниками. Для современных буддистов характерно, что они пытаются стать «полностью» практикующими, каков бы ни был стиль их жизни. Но стиль жизни теперь совершенно другой. Во времена Будды было много людей, желавших следовать Дхарме, но намеренно или в силу обстоятельств остававшихся дома. Они женились, заводили детей, работали, выполняли гражданские и политические обязанности, а также медитировали и практиковали Дхарму, насколько это было возможно в сложившихся обстоятельствах. Поэтому их можно было назвать «частично вовлеченными» (позже они стали известны как ученики-миряне). При прочих равных условиях, они развивались духовно не так быстро, как «полные» члены сангхи, но все-таки добивались продвижения, иногда значительного и даже большего, чем многие «полные» члены.
Напротив, «полностью вовлеченные» члены сангхи, которые превратились в тех людей, которые теперь нам известны как монахи и монахини, отсекали все связи с домом, покидали семью и светское окружение. Они отрекались от всех гражданских и политических обязанностей и принимали как знак своего образа жизни шафрановые одеяния, которые они окрашивали земляной краской «геруамати», чтобы люди могли понять, кто они, когда они шли мимо них со своими чашами для подаяния. Эти «полностью вовлеченные» ученики всецело посвящали себя практике Дхармы. Они учились вместе, медитировали и принимали на себя задачу сохранять учения Будды, заучивая их на память. Изучение, безусловно, не подразумевало чтения книг, потому что книг не было. Единственным способом изучения Дхармы было слушание ее от кого-то, кто мог прочитать ее по памяти (по крайней мере, частично), чтобы вы могли обсудить ее и впоследствии выучить самому. В конечном итоге вы стали бы своеобразной живой, ходячей книгой.
В те времена одной из наиболее важных характеристик этих полностью вовлеченных учеников было то, что они вели бродячий образ жизни, странствуя с места на место, а не обосновывались там, где могли найти дружелюбную и благоприятную поддержку со стороны мирян. Этот образ жизни рекомендовал сам Будда в особенно лаконичном маленьком стихотворении (здесь приводится перевод с пали):
Чище та вода, которая течет,
Чище тот монах, который идет.
Однако в таком постоянном передвижении были и свои проблемы – погода. Дождливый сезон в Индии наступает всегда в одно и то же время, с точностью почти до дня, в июле, и дожди идут непрестанным бурным потоком, барабаня день за днем, месяц за месяцем, до самого октября. Это было неподходящее время для того, чтобы оставаться на улице, если только не нужно было сажать рис, и то в самом начале сезона. Вынужденные, подобно прочим людям, искать кров, полностью вовлеченные члены сангхи обычно оставались на одном месте в этот период, чаще всего малыми группами. Таким образом, сложился ежегодный распорядок: монахи постоянно перемещались с места на место восемь или девять месяцев, а оставшиеся три или четыре проводили в пещере или каком-то другом укрытии, сделанном из широких тропических листьев, или в хижине из тростника и бамбука в чьем-нибудь саду. Так возникла высоко почитаемая традиция уединения в сезон дождей, варсаваса.
Со временем довольно большое число полностью вовлеченных членов сангхи стало собираться в месте для этого ретрита (десятки, а иногда и сотни людей), и все они изучали Дхарму и практиковали в одном месте. Иногда к ним присоединялись местные частично вовлеченные члены сангхи, для которых муссонные дожди также были временем вынужденной бездеятельности, и, следовательно, у них было больше свободного времени, чем обычно. Чаще всего они были слишком заняты для того, чтобы уделять большое значение Дхарме; наставления, которые они получали от проходящих мимо бродячих отшельников, были коротки и обычно быстро забывались в круговороте повседневных радостей и забот. Следовательно, сезон дождей был драгоценной возможностью для них достичь большей глубины в практике под духовным руководством полностью вовлеченных членов.
В конце сезона дождей обычно проводился большой праздник, состоящий из двух частей. Во-первых, проводилась правапарана, церемония, в ходе которой каждый просил у всех присутствующих прощения. После трех или четырех месяцев, проведенных вместе, неизбежно оставались неразрешенные столкновения и недопонимание, которые необходимо было прояснить. Поэтому старейшина полностью вовлеченных членов сангхи обычно начинал церемонию со слов: «Достопочтенные господа, если я совершил какую-либо ошибку, или обидел кого-то, или сказал что-то, чего я не должен был говорить, на протяжении последних трех месяцев, пожалуйста, примите мои извинения». Затем все остальные следовали его примеру один за другим, заканчивая самым юным из присутствующих.
Вторая церемония, проводившаяся в этот день, – катхиначиварадана. «Катхина» означает «трудный», «чивара» означает «платье» или «роба», а «дана» означает «даяние», следовательно, это церемония «трудного даяния роб». Мы говорим «роба», но на самом деле в те дни все ходили в «робах», поэтому полностью вовлеченные члены сангхи не носили специального духовного одеяния, о котором сейчас напоминает слово «роба». Частично вовлеченные члены считали себя обязанными обеспечить полностью вовлеченных членов новыми одеяниями. Такое подношение считалось особенно благоприятным в это время, после периода дождей. Подношение называлось «трудным», потому что была только одна возможность в году сделать его, отправить монахов восвояси без единого пятнышка.
И в наши дни в Бирме есть традиционная церемония, которая делает подношение особенно трудным. Каждый год миряне – или, скорее, мирянки – ставят перед собой цель сделать одеяния от начала до конца за день до церемонии. Они сидят всю ночь, прядя нити из хлопка, затем ткут полотно из нитей, разрезают полотно на полосы, сшивают их вместе и, наконец, красят готовые одеяния для церемонии, и все это за двадцать четыре часа. Этот подвиг они совершают в знак поклонения перед полностью вовлеченными членами сангхи.
Со временем, по тем или иным причинам, ретрит дождливого сезона стал распространяться за пределы самого сезона дождей. Полностью вовлеченные члены сангхи иногда оставались на одном месте и после того, как дождь заканчивался, возможно, для того, чтобы завершить напоследок какое-либо особенно трудное обсуждение Дхармы. Вероятно, за этим иногда следовал период интенсивной совместной медитации. В конце концов, они стали задерживаться так надолго, что приближался уже следующий сезон дождей, и они решали, что не добьются многого от одного-двух месяцев скитаний. Со временем их оседлость стала менее спонтанной, по мере того, как временные тростниковые хижины или шалаши из листьев заменялись более прочными жилищами. Так возникли монастыри, а полностью вовлеченные члены сангхи стали монахами.
Хотя полностью вовлеченные члены сангхи теперь в действительности постоянно были в ретрите, традиция ретритов сезона дождей продолжала соблюдаться, даже когда буддийский мир расширился до пустынных регионов Монголии, Тибета и Северного Китая, где вообще было мало дождей, не говоря уже о целом сезоне. Но, называлось ли это ретритом сезона дождей или летним ретритом, это обычно было время напряженных усилий. В некоторых странах возник обычай проводить постриг в конце ретрита, и последняя его часть непременно включала празднование карттикапурнима, полнолуния месяца Карттика или Дня Сангхи.
Традиционные категории СангхиФакт существования монахов и мирян, полностью и частично вовлеченных членов сангхи, показывает, что сангха – это не простое, однородное собрание. На самом деле, по самой своей природе сангха состоит из личностей с различным уровнем преданности и духовных достижений. Например, в ней можно выделить социальный, религиозный и духовный уровни.
Маха-сангха
На социальном уровне существует маха-сангха, великое собрание, называемое так, потому что оно обширно по размерам. Оно состоит из всех тех, кто, с какой бы то ни было степенью искренности, обращается к Прибежищу в Трех Драгоценностях и соблюдает большее или меньшее число этических наставлений. Это совокупность людей, принимающих духовные принципы или истины буддизма, независимо от их образа жизни, от того, монахи они или миряне, оставили ли они мир или во многом остались в миру и даже во многом остались «от мира сего». Таким образом, маха-сангха состоит и из полностью вовлеченных, и из частично вовлеченных членов сангхи, и даже из тех, кто является буддистом чисто номинально. Это наиболее обширный уровень сангхи.
Бхикшу-бхикшуни-сангха
Затем, на религиозном уровне, существует бхикшу-бхикшуни-сангха. Слово «сангха» иногда понимается как понятие, обозначающее исключительно сообщество полностью вовлеченных членов, что обычно подразумевает общину монахов или монахинь. Обозначения «монах» и «монахиня», несомненно, применимы ко многим полностью вовлеченным членам сангхи на всем протяжении буддийской истории. Нам трудно представить, как много их существовало в древних буддийских монастырях. До самого недавнего времени в Тибете монастырь с пятью сотнями монахов считался маленьким. Следовательно, в монастырях жило огромное количество бхикшу. Тем не менее, бхикшу-сангха никогда не было чисто монашеским орденом. Если мы собираемся использовать слово «монах» в контексте буддизма, нам нужно помнить, что у этого слова будет более широкое значение, чем у английского «monk».
Сегодня есть две основные ветви монашеских общин: ветвь Тхеравады в Шри-Ланке, Бирме, Тайланде, Камбодже, Лаосе и ветвь Сарвастивады в Тибете, Китае, Вьетнаме и Корее. Между этими двумя великими традициями существует немного различий в образе жизни и правилах, соблюдаемых монахами. Однако стоит отметить, что тибетских лам не стоит путать с бхикшу. «Лама» означает просто духовный учитель; лама иногда бывает монахом, но это не обязательно, особенно в школах Нингма и Кагью. Япония – совершенно особый случай, потому что традиция посвящения в бхикшу, появившись там, впоследствии была утрачена и заменена посвящением в бодхисаттву.
Существуют также ордена монахинь, бхикшуни. Во многих частях буддийского мира эта традиция вымерла, еще до того, как она могла бы быть принесена в Тибет, поэтому ни в буддизме Тхеравады, ни в тибетском буддизме в настоящее время нет традиции женского монашества. Но посвящения в бхикшуни все еще проводятся во Вьетнаме, Китае и Тайване (сейчас часто обсуждается, что желательно возобновить традицию посвящения в бхикшуни более широко, и эта полемика частично затрагивает вопрос традиционного подчинения монахинь монахам). Монахини соблюдают примерно те же правила, что и монахи, и им воздаются (или, по крайней мере, должны воздаваться) те же почести, что и монахам.
То, что человек является бхикшу или бхикшуни, живет ли он или она в монастыре, является странником, отшельником или своего рода местным священником, само по себе не является знаком особой глубины в Обращении к Прибежищу. То общее, что объединяет всех членов монашеской сангхи, – это особый набор этических наставлений. Это сангха в религиозном смысле – группа людей, так сказать, отделенных от мира и объединенных в религиозную общину с общим образом жизни и особенно с общими правилами.
Послушники соблюдают только десять наставлений или тридцать два в некоторых традициях, но когда они получают упасампаду, полное принятие в общину, им приходится следовать ста пятидесяти правилам, и в некоторых частях буддийского мира эти сто пятьдесят правил в действительности соблюдаются17. Многие из этих правил больше не актуальны, поскольку были разработаны в особых условиях жизни бродячих монахов в северной Индии две с половиной тысячи лет назад, и их автоматически отбросили в более поздние времена.
Четыре самых важных правила известны как параджики. «Параджика» означает «поражение». Нарушив одно из этих правил, человек навсегда исключается из общины, и ему придется дожидаться следующей жизни, чтобы присоединиться к ней. Первая параджика заключается в том, что нельзя намеренно лишать жизни другое человеческое существо. Второе правило гласит, что нельзя брать того, что не дано, нечто, обладающее такой ценностью, что присвоение этой вещи может привести к судебной ответственности. Третье правило – воздерживаться от любой формы сексуальных отношений.
Эти три параджики довольно прямолинейны, а четвертое правило требует немного больше объяснений. Оно заключается в том, что нельзя ложно утверждать о каких бы то ни было духовных достижениях. Западным людям ничего не стоит спросить у другого человека, достиг ли он Просветления или испытывал ли он самадхи. Но на Востоке считается невежливым разговаривать о любых личных достижениях с другими людьми, за исключением, возможно, самых близких друзей и собственных учителей.
Причина этого иллюстрируется отрывком из Палийского канона, в котором великий рассказывается об ученике Будды Шарипутре, который только что провел весь вечер в лесу, медитируя. Когда вечером он возвращается, он встречает Ананду, который замечает: «Твое лицо сегодня озарено чудесным светом. Чем ты занимался?» Шарипутра отвечает: «Я медитировал в лесу, но пока я медитировал, меня не посещала мысль о том, что я медитирую»18 оооо. Здесь он указывает на то, что, как только возникает подобная мысль, вы на самом деле уже не медитируете, потому что вы не продвинулись дальше уровня личного «я», субъективного «я». В каком-то смысле, вы медитируете только тогда, когда нет никого, кто бы делал это, когда это просто, так сказать, происходит.
Моггальяна комментирует это с помощью маленького каламбура. «Именно так говорят настоящие люди, – говорит он. – Они рассказывают суть или истинный смысл вопроса (аттха на пали), но не привносят себя (атта)». Напротив, большинство из нас, медитируем ли мы слегка или проявляем немного щедрости, всегда подмешивает к этому свое «я». Наши достижения мгновенно обесцениваются, когда мы думаем: «Я это сделал» или «У меня такое переживание».
Остальные правила вторичны по отношению к этим основным четырем, в том смысле, что, если кто-то нарушает их, он может искупить свою провинность, покаявшись в этих нарушениях своим собратьям-монахам. Следовательно, даже если человек является отшельником, он не должен полностью разрывать связи с большей сангхой. Ему может понадобиться регулярно отчитываться перед ней, чтобы почувствовать над собой отцовское око.
У буддийских монахов и монахинь есть различные обязанности. Их первая обязанность – изучать Дхарму и практиковать ее: они собираются, в первую очередь, для того, чтобы практиковать медитацию. Во-вторых, предполагается, что они должны подавать хороший пример мирянам. В-третьих, они должны давать проповеди и учить. В-четвертых, на них возложена ответственность защищать местную общину от неблагоприятных психических влияний. В культурах, где принимается как должное то, что мы окружены оккультными силами, традиционно верят, что, хотя некоторые из этих сил благотворны, другие несут зло, и что благодаря строгому образу жизни, медитациям и благословениям монахи способны изгнать эти вредоносные силы и не дать им нанести вред обычным людям. На Западе в подобных услугах нет большой потребности, но на Востоке это очень важная функция монахов.
И, наконец, предполагается, что монахи должны давать мирские советы. Но Востоке, если что-то идет не так – ваши дети попали в беду или у вас проблемы с деньгами, проблемы с алкоголем или соседями, мужем или женой – обычное дело обратиться со своей проблемой к монаху и попросить у него совета. Благодаря тому, что у них самих нет подобных проблем, нет детей, жен или денег, от монахов, возможно, ожидают более объективного взгляда на ситуацию, взгляда постороннего наблюдателя на трибуне, который лучше видит футбольный матч, чем любой из игроков на поле.
Ученый Эдвард Конзе однажды сказал, что без монашеской общины у буддизма не было бы костяка. Определенно можно сказать, что, не будь полностью вовлеченных людей, мужчин и женщин, которые полностью преданы буддийской практике, не было ничего, чтобы бы позволило создать сангху. В Британии первые монахи появились еще до основания буддийских групп. Одним из первых в английской монашеской сангхе был Аллан Беннетт, получивший монашеское посвящение с именем Ананда Майтрейя в Бирме в 1902 году и вернувшийся в Англию в 1908-м19. Однако с тех пор на Западе устойчивое и быстрое разделение на монахов как полностью вовлеченных членов и мирян как частично вовлеченных членов во многом было разрушено, и в дальнейшем внимание к сангхе вышло за пределы любых разграничений по образу жизни. Это духовная община как таковая – арья-сангха.
Арья-сангха
Слово «арья» первоначально использовалось по отношению к группе племен, которые вторглись в Индию с северо-востока. Обозначая более высокий статус по сравнению с завоеванными племенами, слово «арья» стало означать «благородный» в более общем смысле, а затем, постепенно, приобрело духовное значение и таким образом стало также обозначать «святой». Следовательно, арья-сангха – это сообщество благородных или святых, тех, кто вошел в соприкосновение с запредельным, тех, кто обладает знанием о подлинной реальности вещей.
Поскольку она включает мирян, равно как и монахов, можно сказать, что арья-сангха составляет духовную иерархию, в отличие от чисто религиозной иерархии буддизма. Ее нельзя характеризовать в рамках какой бы то ни было формальной схемы или публичного, организационного устройства – она представляет собой промежуточное звено в иерархии между состоянием Будды и непросветленным человечеством. Его члены не обязательно связаны друг с другом на физическом уровне – они могут жить не только в разных местах, но и в разные времена – но те запредельные переживания или достижения, которые являются общими для них, объединяют их, выходя за пределы пространства и времени. То есть основополагающая характеристика – качество мудрости или проникновения.
Буддийский путь часто подразделяют на три основных элемента: этику, медитацию и мудрость20. Все это следует развивать одновременно, но кульминацией является мудрость, поскольку этику и медитацию можно развивать без мудрости, в то время как мудрость можно развить не иначе, как на основе этики и медитации. В свою очередь, развитие мудрости (праджни), также делится на три составляющих21. Первый уровень – мудрость, проистекающая из слушания – шрутамайи-праджня. Этот термин первоначально относился к устному учению, характерному для дописьменного общества, но подразумевается, что он включает любое знание и понимание, почерпнутое из книг, равно как и из бесед и лекций. Человек узнает о природе реальности или даже о природе проникновения в природу реальности. На этом уровне цель заключается в обретении ясного концептуального представления о том, каковы вещи на самом деле.