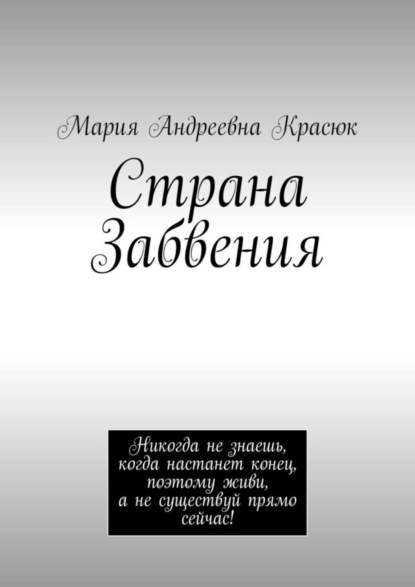- -
- 100%
- +
Против правил – не значит невозможно.
Против правил – значит: кто-то очень умный. Очень наглый. И очень уверен, что его не поймают.
Я быстро написала:
КТО МОЖЕТ ЭТО ИСПРАВИТЬ?
Служащая посмотрела куда-то мне за плечо.
И я почувствовала присутствие раньше, чем увидела его.
Тяжёлое, как сургуч на важном письме.
Шаги.
Ровные. Спокойные. Уверенные.
Я обернулась.
По залу шёл мужчина так, будто здание принадлежало ему – не по праву собственности, а по праву смысла. В его движениях не было суеты; не было лишних жестов. Каждая секунда его времени выглядела как пункт протокола, заранее утверждённого.
Высокий, статный. Тёмный плащ отделял его от мира так же уверенно, как закон отделяет себя от морали. Высокий воротник затенял шею; на чёрных перчатках свет скользил неохотно, будто боялся задержаться. Чёрные волосы уложены аккуратно – настолько, что я сразу подумала: он либо делает это сам, либо вокруг него есть кто-то, кто боится разочаровать.
Лицо было холодным и правильным – не «красивым для портрета», а красивым как оружие: без лишней мягкости, без обещаний.
И глаза.
Стальные, серые, внимательные. Такими глазами смотрят не на человека – на доказательство.
Люди расступались сами, не понимая почему. Одна женщина с папкой шагнула в сторону, будто её подтолкнули. Мужчина с завещанием вдруг вспомнил срочную необходимость «в туалет» и исчез, оставив своё поражение на скамье.
Служащая у моего окна выпрямилась так, будто ей приказали.
Мужчина остановился и положил на стекло жетон. Серебряный, тяжёлый. На нём – знак Магистрата: руна истины, вписанная в круг закона.
– Магистрат Вэйл, – сказала служащая.
Имперский прокурор.
Я слышала о нём. Все слышали.
Дело не в том, что честен, а в том, что на нём печать, которая наказывает за любую неправду. Говорили, что он раскрывает дела не в суде, а в коридорах. Говорили, что, если Вэйл задержался взглядом – ты уже проиграл; просто уведомление ещё не дошло.
Он посмотрел на меня так, будто уже прочитал меня по пунктам.
И я поймала себя на абсурдной мысли: поправить выбившуюся прядь. Желание выглядеть собранной перед опасностью – старая человеческая привычка.
– Это она? – спросил он у служащей.
Голос у него был низкий, ровный, без нажима – и именно поэтому звучал как приказ.
– Личность… не найдена в Реестре, – сказала служащая быстро. – Но физически…
– Я вижу, что физически, – перебил он спокойно.
Он взял договор из папки без спроса – так берут то, что уже считают своим делом, – и пробежал глазами.
На подписи задержался на секунду дольше.
Под воротником на мгновение блеснул тонкий серебристый знак – не украшение, не цепочка. Печать. Почти незаметная. Как угроза, сказанная шёпотом.
– Интересно, – произнёс он.
Я хотела спросить: что именно.
Я открыла рот.
Ничего.
Вэйл чуть наклонил голову, как человек, который проверяет гипотезу.
– Вы не можете произнести своё имя, – сказал он.
Не вопрос. Факт.
Я кивнула.
Служащая на секунду отвела взгляд, будто ей стало неудобно присутствовать при чём-то слишком личном. В Реестре не любят личное.
Вэйл посмотрел на камень проверки, на мои документы, на потемневшую руну.
– Юридически вы не существуете, – произнёс он. – Следовательно, вы не можете предъявить права. Не можете подать жалобу. Не можете заключить новый контракт. Не можете даже быть свидетелем.
Он перечислял это сухо, ровно – и в этой сухости была странная милость: без сочувствия, но и без театра.
– Но вы пришли сюда, – продолжил он. – Значит, вы не хотите исчезнуть.
Я сжала пальцы в кулак и кивнула.
Он сделал шаг ближе.
И внутри меня что-то отпустило – как будто рядом с ним воздух становился «разрешённым»: не тёплым, не приятным, но допустимым.
Я открыла рот и с удивлением услышала свой голос – хриплый, настоящий.
– Я…
Слово получилось.
Взгляд Вэйла потемнел – профессионально удовлетворённо.
– Работает, – сказал он. – Печать тишины привязана к дистанции.
Пока могла говорить – нужно было говорить.
– Почему? – выдохнула я.
– Кто-то использовал старый механизм, – ответил он. – «Голос» как подтверждение личности. Если вы не можете назвать себя, вы не можете быть закреплены в Реестре.
Я набрала воздух, чтобы проверить.
– Э…
Звук умер, не родившись. Горло стянуло холодом.
Вэйл наблюдал, не вмешиваясь. Как врач, который знает: боль – часть диагностики.
– Слышите? – сказал он тихо. – Не вся речь запрещена. Только та, что вас закрепляет.
Я кивнула, чувствуя, как злость поднимается по коже.
– Кто… – начала я.
И снова застряла
– Вы теряете связь, когда задаёте вопросы, которые требуют имени? – уточнил Вэйл.
Это было слишком точно.
– Тогда это не просто тишина, – продолжил он. – Это направленная тишина. Процедура.
Он подошёл ещё ближе – до границы, где личное пространство перестаёт быть личным. Я почувствовала запах его плаща: холодная ткань, воск, металл. Запах печати, которой слишком часто пользуются.
Сердце ударило сильнее. Не от романтики. От осознания власти.
– Я могу вернуть вас в Реестр, – произнёс он. – Временно. И могу найти того, кто это сделал.
Он посмотрел прямо на меня.
– Но мне нужна вы.
– Мне? – переспросила я.
– Вы – эксперт по договорам, – сказал он. – Судя по почерку. По тому, что вы пришли сюда сразу, а не побежали к друзьям и не растворились в кухонной истерике.
Это было грубо.
И почему-то приятно.
Он видел во мне не жертву.
Инструмент.
– А это… – он постучал пальцем по подписи, – работа уровня министерства. Кто-то пользуется Печатью стирания так, будто имеет право переписывать прошлое.
Служащая побледнела – едва заметно. Я заметила.
Значит, это правда.
– Что вы хотите взамен? – спросила я и услышала в собственном голосе сталь.
Вэйл улыбнулся едва заметно. Не улыбкой – линией.
– Контракт.
Он достал тонкую папку без эмблемы и без номера.
Это было хуже, чем эмблема.
– Здесь – временная защита личности, – сказал он, раскрывая папку так уверенно, будто уже видел мою подпись. – Доступ к архивам. Статус моего порученного лица.
Перевернул страницу.
– И условие тишины.
Я похолодела.
– Я уже… – начала я.
Слово застряло.
Вэйл заметил.
– Вы сможете говорить только рядом со мной, – произнёс он ясно. – Это ограничение защитит вас от повторной подмены. И защитит меня от ваших ошибок.
– А если я откажусь?
Он пожал плечами – почти честно.
– Тогда вы выйдете отсюда. И в следующий раз рамка печати может не отпустить. Реестр не любит пустоты.
Он сказал это так спокойно, будто говорил о погоде.
Я знала: он не запугивает.
Он информирует.
Это было хуже.
Я посмотрела на папку.
Строка «Сторона Первая» была заполнена: Магистрат Ардан Вэйл. Почерк – идеальный, без сомнений.
Строка «Сторона Вторая» зияла пустотой – аккуратной, почти эстетичной. Как вырезанный кусок реальности.
– Как я подпишу, если меня нет? – спросила я.
Вэйл смотрел так, будто ждал именно этого.
– Подпись – не имя, – сказал он. – Подпись – след. След можно оставить даже в пустоте.
Он положил рядом ручку с серебряным пером.
Серебро блеснуло холодно.
Я вспомнила свою лупу: серебро режет руны. Серебро вскрывает ложь.
Значит, это не просто ручка.
– Вы хотите, чтобы я стала вашим порученным лицом, – сказала я.
– Временный статус, – уточнил он. – Пока мы не восстановим ваше имя. Пока не найдём того, кто ставит Печать стирания на чужие жизни.
– И как вы собираетесь восстановить?
Он бросил взгляд на служащую. Та вздрогнула и опустила глаза, словно ей приказали не слышать.
– Есть способы, – сказал Вэйл. – Но все они требуют доступа. А доступ – это всегда контракт.
Он наклонился ближе.
– И дисциплина.
Слово «дисциплина» прозвучало у него почти ласково. Только очень холодно.
Я должна была ненавидеть это.
Я и ненавидела.
Но у меня не было роскоши выбирать чувство.
Я посмотрела на свою руку: тонкие пальцы, следы чернил у ногтей. Бумага уже давно считала меня своей.
Я хотела подумать. Посчитать риски. Прочитать договор от первой до последней запятой.
И в этот момент увидела странное: в отражении стекла моя фигура казалась размытее, чем должна. Будто свет вокруг меня не знал, как меня обрисовать.
Это было хуже любого шантажа.
Происходило прямо сейчас.
Я медленно взяла ручку.
Серебро было холодным, как решение.
Перо дрогнуло у бумаги – будто договор узнавал мою руку.
И я поняла, чего боюсь больше всего: не того, что со мной сделали… а того, что я сделаю сама.
– Подпишите, – сказал Вэйл тихо. – Пока вы ещё можете.
Я опустила перо на строку «Сторона Вторая» и попыталась написать первое, что приходит в голову любому, кто ставит подпись: своё имя.
Элира.
Линия появилась – тонкая, уверенная.
И тут же побледнела.
Словно бумага выпила чернила.
Я попробовала снова.
Буква не успела стать буквой, как исчезла.
Я замерла.
Вэйл наблюдал.
– Видите? – сказал он. – Печать стирания держит вас на поводке. Она не позволит закрепить имя даже на бумаге.
Я стиснула зубы.
– Тогда как…
– Инициалами, – ответил он. – Следом, а не словом.
Он положил ладонь рядом с моей – не касаясь, но достаточно близко, чтобы воздух снова стал «разрешённым».
– Напишите так, как подписываете формальные акты.
Я вдохнула и вывела:
Э. К.
Инициалы легли на бумагу.
Не исчезли.
В следующую секунду три символа внизу страницы – руны печати – дрогнули. Я почувствовала это кожей, словно кто-то далеко повернул голову.
Мир заметил: я оставила след.
Вэйл накрыл документ перчаткой и коснулся перстня‑печати. Металл тихо щёлкнул.
На мгновение воздух в холле стал плотнее. Люди заговорили тише. Даже шуршание страниц, летящих где-то у потолка, будто замедлилось.
– Принято, – сказал Вэйл.
Служащая не спорила. Она быстро поставила отметку в книге, не поднимая глаз.
Я посмотрела на строку «Сторона Вторая». Она всё ещё была пустой.
Но рядом стояла моя подпись.
Маленькая.
Реальная.
И от неё тянулось странное ощущение – как от тонкой нити, привязанной к запястью.
Вэйл забрал папку.
– Теперь вы пройдёте со мной.
– Куда? – спросила я.
Слова дались легко. Я снова могла говорить.
Это должно было радовать.
И пугало.
Я понимала, от чего зависит мой голос.
Вэйл взглянул на рамку печати, как на знакомого сторожа.
– В архив, – сказал он. – Туда, где Реестр хранит то, что официально не существует.
Внутри меня вспыхнула искра – профессиональная. Любопытство эксперта, которому показывают запретную папку.
– И ещё, – добавил он.
Он сделал паузу так, будто пауза – тоже инструмент.
– Не пытайтесь произнести своё имя при других. Не из-за того, что это опасно для вас.
Он посмотрел на меня.
– Это опасно для них.
Холод прошёл по спине.
– Что вы имеете в виду?
– Если пустота пытается закрепиться, она ищет место, где ей удобно, – сказал Вэйл. – Иногда это место – другой человек. Вы не хотите, чтобы кто-то оказался рядом в момент, когда Реестр решит закрыть дыру.
Я не знала, верить ли ему.
Но я видела потемневший камень. Чувствовала рамку. Знала пустую строку.
И главное – ощущала, как взгляды людей снова начинают соскальзывать с меня, стоит Вэйлу отойти хотя бы на полшага.
– Пойдёмте, – сказал он и на секунду задержался, будто проверяя, какое слово допустимо.
– …аудитор.
В этом было что-то странно уважительное.
Он не назвал меня по имени.
Но признал моей профессией.
И я вдруг поняла, что сейчас это – единственное, что у меня осталось.
Я кивнула и пошла рядом с Арданом Вэйлом по залу, где белый камень любил правила, а правила любили тишину.
Позади нас служащая поставила ещё одну отметку в книге – очень маленькую, но я успела поймать её в отражении стекла:
ПУСТОТА. ПРИНЯТО ПОД ОПЕКУ МАГИСТРАТА.
И где-то в глубине здания, за дверями, которые не открываются простым людям, реальность ответила тихим щелчком.
Как если бы согласилась.
Пока – временно.
Глава 3. Архив несуществующего
Мы шли по залу Реестра так, будто вокруг нас не было людей – и это было почти правдой.
Не в том смысле, что я внезапно стала важнее чужих очередей, фамилий и нервов. Просто люди, как вода, огибали Вэйла. Уступали ему место заранее, сами не понимая почему. Их тела делали выбор быстрее головы, а голова потом находила оправдание: «Он спешит», «Он из начальства», «У него вид такой».
У него и правда был вид такой, будто спорить с ним – грубое нарушение техники безопасности.
Я держалась рядом – ровно настолько, чтобы голос оставался моим. Это ощущалось странно унизительно и странно… удобно. Как костыль, который ненавидишь, но без которого уже не можешь стоять.
Внутри меня, где раньше жило имя – не буквами, не звуками, а привычной внутренней опорой – теперь торчал гвоздь от снятой таблички. И каждый раз, когда я пыталась не думать об этом, разум возвращался и проверял: на месте ли пустота. Как язык проверяет выбитый зуб.
Мы миновали стойки и стеклянные окна, свернули туда, где для обычных посетителей заканчивается свет. Коридор за служебной дверью был другим по запаху: меньше воска, больше камня. Камень здесь пах не свежестью, а заброшенностью. Старым холодом. Сдержанностью.
– Не оглядывайтесь, – сказал Вэйл, не оборачиваясь.
Это прозвучало так, будто он почувствовал моё намерение ещё до того, как оно стало движением.
Я всё равно оглянулась краем глаза – не назад, на людей, а на своё отражение в тёмном стекле дверной вставки.
Отражение было… неуверенным.
Контуры фигуры будто не решались: где заканчивается плечо, где начинается рукав, как свет должен лечь на скулу. Мир не забывает сразу. Он сначала перестаёт стараться.
Это было хуже, чем страх. Страх хотя бы честный: он признаёт тебя целью. А равнодушие – это когда ты уже почти не объект.
Вэйла равнодушие не касалось. Его силуэт был резким, как росчерк пера на приказе. Он двигался точно, без суеты, будто каждую свою секунду утвердил заранее.
– Вы привыкли к тому, что вас пропускают без вопросов? – спросила я.
Слова вышли легко. Слишком легко. Как будто я одолжила их у него вместе с воздухом.
Он не посмотрел на меня, но я почувствовала: вопрос попал.
– Я привык к тому, что вопросы задают после того, как я уже прошёл, – ответил он.
У него даже ирония была экономной.
Коридор вывел нас к узкому посту контроля: стол, книга учёта, два охранника в одинаковой форме и с одинаковыми лицами людей, которым достаточно одного штампа, чтобы чувствовать свою правоту.
Один из них поднялся, второй остался сидеть – как знак: «Мы не боимся, но мы готовы».
– Магистрат Вэйл, – представился он.
Это было не имя, а ключ. Он положил жетон на стол, и серебро звякнуло так, будто само знало цену своему звуку.
Охранник взглянул, и в его лице на секунду шевельнулась человеческая мысль: «Это настоящий». Затем мысль исчезла, уступив место регламенту.
– Пропуск на сопровождающего?
Не пятно виновато – оно портит порядок.
Вэйл не дал моменту созреть.
Он достал папку – нашу папку, тот самый контракт, который тянулся теперь от моей подписи тонкой нитью к его перчаткам, – и открыл на странице с отметкой Реестра. Охранник увидел знак Магистрата и надпись, сделанную чужой рукой: под опекой.
Я увидела, как мир сжалился надо мной в форме канцелярского слова.
– Сопровождение по делу о печати стирания, – добавил Вэйл.
Охранник ничего не спросил. Здесь не любят сложные слова, но уважают те, от которых пахнет проблемами сверху.
Нас пропустили.
Дальше было уже не похоже на публичный Реестр. Стены стали темнее – не грязнее, а как будто камень в этой части здания не белили нарочно. Свет здесь не лился сверху ровным потоком; он был собран в линии – вдоль пола, вдоль потолка, вдоль дверных рам. Как если бы тьма была нормой, а свет – технической разметкой.
Я поймала себя на мысли, что мне спокойнее. В белом зале я ощущала себя ошибкой на идеальном листе. Здесь, где идеальность уступала место функциональности, я хотя бы выглядела… уместно.
– Архив несуществующего – это официальное название? – спросила я.
– Официальное – «Отдел нулевого хранения», – ответил Вэйл. – «Архив несуществующего» – то, как его называют те, кто туда не попадал.
– А вы?
– Я его называю «место, где закон признаёт, что иногда врёт».
Я запнулась на секунду: это звучало слишком… философски для него.
Он заметил паузу и добавил ровно, как пункт инструкции:
– Не в моральном смысле. В техническом.
Конечно. Мораль была для него роскошью, которую он не носил с собой, чтобы не мешала при ходьбе.
Мы спустились ниже – по лестнице, которая не скрипела. В Реестре ничего не скрипит: даже дерево здесь ведёт себя как камень.
На площадке перед очередной дверью висела рамка – не такая, как в холле. Та была аркой для толпы, эта – тонкая и личная. Полоса белого металла с вшитыми серебряными нитями, и в ней – руны, слишком мелкие, чтобы их читали глаза. Их читала кожа.
Вэйл шагнул первым. Рамка не отреагировала. Разумеется,
Я шагнула следом – и холод ударил по горлу так, будто кто-то приставил нож к моей пустоте.
Я не остановилась. Дисциплина – штука заразная, особенно когда рядом человек, у которого она в крови.
Рамка промолчала.
Только воздух стал на мгновение плотнее, и я ощутила, как внутри меня дёрнулась тонкая нить – та самая, от подписи. Как будто договор проверил, на месте ли я.
– Она чувствует, – сказала я тихо.
– Реестр чувствует всё, что пытается быть «вне», – ответил Вэйл. – Особенно пустоты.
Дверь перед нами была без таблички. Ни номера, ни отдела, ни «вход запрещён». Только маленькая круглая печать на уровне груди и углубление под ладонь.
Вэйл коснулся печати перстнем.
Металл щёлкнул – и звук пошёл по камню, как трещина по льду. Дверь открылась без скрипа. Её не открывали – её просто переводили из состояния «нет» в состояние «да».
Я ожидала пыли. Я ожидала запаха старых бумаг, гниющих ниток переплёта, плесени на забытых страницах. Архивы обычно пахнут тем, что время сжевало и не смогло проглотить.
Здесь пахло иначе.
Здесь пахло отсутствием.
Трудно объяснить этот запах, но я почувствовала его сразу: воздух сухой и холодный, без единого лишнего человеческого следа. Как в комнате, где никто никогда не плакал, не смеялся и не говорил «я вернусь». И всё же – где лежат последствия.
Свет был тусклым и ровным, как утренний туман, который забыли рассеять. Стеллажи уходили в глубину: металлические, аккуратные, одинаковые. Папки на них не имели названий. Ни белых наклеек, ни красных полосок, ни привычного «Дело №…». Просто серые корешки – без лица.
– Это… пустые? – спросила я, и голос почему-то прозвучал тише, чем я хотела.
– Нет, – ответил Вэйл. – Это дела, которые не имеют права называться. Любое название – фиксация. Любая фиксация – риск.
– Риск чего?
Он остановился и посмотрел на меня впервые за весь путь вниз. Взгляд был прямой, без мягкости.
– Того, что мир начнёт помнить то, что ему приказали забыть.
Я проглотила воздух. Внутри поднялось профессиональное раздражение: в любой системе, где нет маркировки, власть принадлежит тому, кто знает порядок.
– Тогда здесь должен быть тот, кто знает, где что лежит.
– Есть, – сказал Вэйл. – И он будет не рад нас видеть.
Как будто в подтверждение его слов, из глубины между стеллажами вышел человек.
Он двигался не так, как охранники, и не так, как служащие Реестра. Те ходят по правилам. Этот – по привычкам. Пальцы у него были в чернилах, рукава чуть потёрты, глаза – слишком живые для здания, где всё должно быть дисциплинированно мёртвым.
Архивист был худощав, чуть сутул, словно всю жизнь носил на спине невидимый шкаф с чужими тайнами. Светлые волосы, собранные на затылке, выбивались прядями, как у человека, который забывает о внешности в момент, когда находит нужный лист. На носу – тонкие очки, но не для зрения: стекло было с серебряной крошкой, ловушкой для рун.
Он остановился на безопасном расстоянии – так, чтобы можно было говорить, но нельзя было легко схватить.
– Магистрат Вэйл, – сказал он вместо приветствия. – В этом месяце вы уже приходили.
– Я прихожу, когда мне нужно, – спокойно ответил Вэйл.
Архивист чуть улыбнулся. Улыбка была не дружелюбной и не дерзкой – бухгалтерской. Так улыбаются люди, которые знают, сколько стоит ваше «нужно».
– Здесь это не аргумент, – сказал он. – Здесь аргумент – доступ. И причины. Вы принесли причины?
Вэйл протянул ему контракт – не отдавая полностью, только позволяя взглянуть. Архивист прочитал первую страницу, задержался на строке «Сторона Вторая», где было пусто, и на инициалах. Чуть дольше, чем стоило бы человеку, которому всё равно.
Потом поднял глаза на меня.
Я почувствовала это неприятное ощущение, когда на тебя смотрят как на вещь, которую нужно проверить на подлинность.
– Так это и есть «пустота», – произнёс он тихо.
Я ждала сочувствия. Дело не в том, что оно мне нужно, а в том, что мозг привык к этой человеческой реакции.
Вместо сочувствия в его голосе была… заинтересованность.
– Как вас зовут? – спросил он.
Я открыла рот.
И тут же почувствовала, как горло схлопнулось холодным кольцом. Воздух вышел, звук не родился.
Архивист приподнял бровь.
– Уже началось, – сказал он, как врач, который видит симптом.
Вэйл сделал шаг чуть ближе ко мне – почти незаметный, но достаточно, чтобы воздух снова стал «разрешённым».
– Её имя недоступно, – сказал он.
– Ничего себе формулировка, – архивист усмехнулся. – «Недоступно». Как шкаф, ключ от которого украли.
Он посмотрел на Вэйла.
– А вы, значит, теперь ключ.
Вэйл не отреагировал. У него вообще было редкое умение: не реагировать на то, что могло бы вывести из равновесия любого нормального человека. Это не делало его сильнее. Это делало его опаснее.
– Мне нужны дела по печати стирания, – сказал Вэйл.
– Печать стирания не существует, – автоматически ответил архивист.
– Тогда мне нужны дела, в которых её «не существует» особенно убедительно.
Архивист вздохнул, как человек, которого заставляют работать в выходной.
– Вы же понимаете, магистрат, что каждый раз, когда вы трогаете «несуществующее», оно становится чуть менее несуществующим? – Он перевёл взгляд на меня. – А ваша… ситуация и так слишком заметная. Реестр не любит, когда его дырки начинают дышать.
– Поэтому мы здесь, – сказал Вэйл. – Чтобы понять, кто делает дырки.
Архивист наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то внутри стены, и произнёс почти лениво:
– Хорошо. Рен Лаваль. Отдел нулевого хранения. Для протокола: вы всё равно заставите меня произнести это вслух, чтобы потом нельзя было сказать, что я «не существую».
Он назвал своё имя так, будто оно ему мешало, но он привык таскать его, как старый ключ в кармане.
– Вэйл, – коротко ответил Вэйл.
И посмотрел на меня.
Я знала, что он ждёт. Не фамилии. Не имени. Любого признака, что я не просто «опекаемая пустота», а человек, способный держать линию разговора.
– Я аудитор договоров, – сказала я. – И у меня на руках контракт с печатью стирания. Подпись кровью. Моя.
Рен чуть прищурился.
– Вы сказали «моя» так, будто уверены, что ещё имеете право на собственность.
– Я уверена в одном: если кто-то может украсть подпись, он может украсть и последствия, – ответила я. – Я хочу видеть механизм.
Мне показалось, что Вэйл посмотрел на меня чуть иначе. Не мягче. Просто… зафиксировал: инструмент работает.
Рен Лаваль медленно развернулся и пошёл вдоль стеллажей. Мы двинулись следом.
Шаги здесь звучали глухо – словно пол был не каменным, а из плотной бумаги. Или из чего-то, что притворяется бумагой.
– Всё, что вы ищете, будет выглядеть скучно, – бросил Рен через плечо. – Вы не найдёте тут светящихся рун и драматических признаний. Вы найдёте формулировки, на которых мир спотыкается.