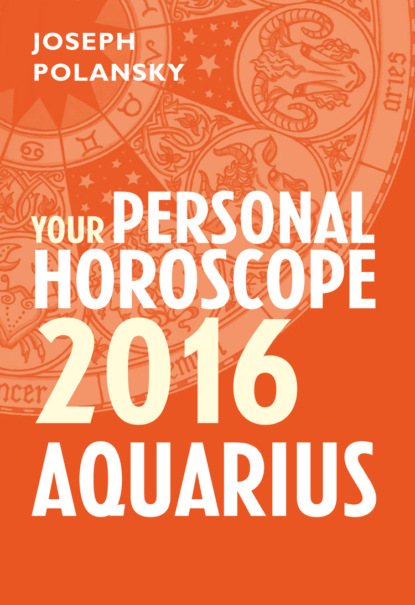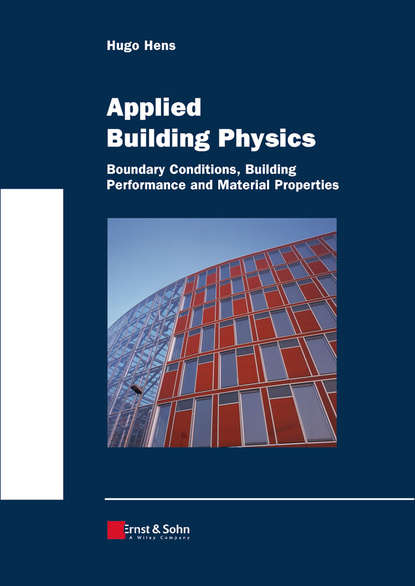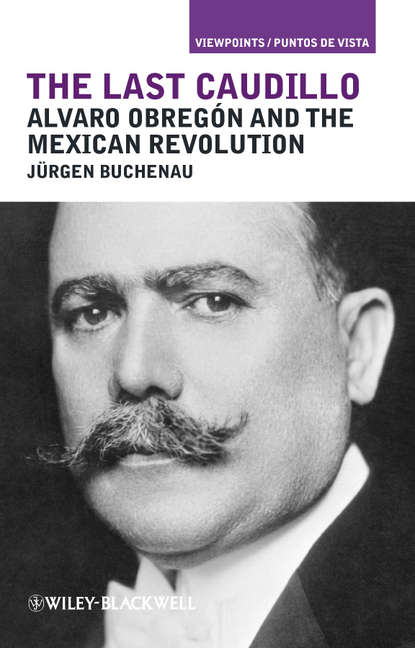Дети, столкнувшиеся со смертью и насилием. Комплексная психологическая помощь
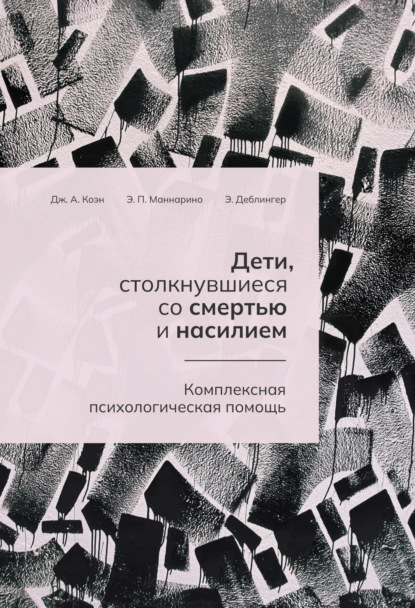
- -
- 100%
- +
Разброс в реакциях связан с особенностями восприятия ребенком травмирующих событий и их осмысления по отношению к себе, с наличием семейной и иной поддержки, с преодолением вызванного событиями психологического и физиологического стресса и с интеграцией этих событий в более широкое самоощущение. В частности, когда дети переживают травмы межличностного общения (к ним относят, например, жестокое обращение, насилие в семье, трагическую смерть), у них не только развиваются «типичные» реакции ПТСР, такие как сильный навязчивый страх, дезадаптивные убеждения или повышенная возбудимость. Зачастую им очень нелегко дается потеря основной фигуры привязанности и определенной роли в семье. Дети нередко говорят о том, что труднее и болезненнее всего справляться с последующими изменениями.
Одну девочку-подростка мать фактически забросила, а наркодилеры матери принуждали ее к проституции с целью получения прибыли. Девочка заботилась о младших братьях и сестрах и ради этого часто прогуливала уроки и недоедала. После того как учителя сообщили о прогулах, служба защиты детей изучила дело и забрала детей у матери. Старшая сестра и младшие дети попали в разные приемные семьи. Вскоре после этого мать скончалась от передозировки героина. В начале лечения девочка сказала, что «хуже всего» для нее то, что ее забрали у матери и разлучили с младшими. Она обвинила службу защиты детей в смерти матери, ведь они увезли детей из дома и лишили ее возможности «присматривать за мамой». Она постоянно беспокоилась о младших детях и ужасно злилась на «систему» за то, что ее семью разрушили. У нее были симптомы ПТСР, связанные с сексуализированным насилием и безнадзорностью, но важнее всего оказалось проработать симптомы, возникшие на фоне разлуки с младшими детьми и потери роли их защитницы. Такая реакция была вполне объяснима в контексте ее восприятия того, что помогало выжить ее семье.
Предлагаемая нами терапевтическая модель, как и любая другая, не универсальна. Она подходит не всем детям, пережившим травмирующий опыт, а только тем, у кого возникли связанные с травмой эмоциональные или поведенческие проблемы («травматические реакции»), работа с которыми является мишенью ТФ-КПТ.
Эти реакции на травму часто, но не всегда, соответствуют симптомам ПТСР. Даже в отсутствие всех диагностических критериев ПТСР ТФ-КПТ может помочь ребенку. У некоторых детей могут почти не наблюдаться классические симптомы ПТСР, но возникать иные травматические реакции. В следующем разделе и, в частности, в следующей главе описано, что реакция детей на травму может включать аффективную, поведенческую, физиологическую, когнитивную дисрегуляцию, нарушение межличностных отношений, привязанности и/или восприятия. ТФ-КПТ приносит пользу детям с широким спектром симптомов. При этом не каждый поведенческий или эмоциональный симптом обязательно связан с пережитой ребенком травмой. Эффективность ТФ-КПТ зависит от того, насколько тщательно и профессионально была проведена первичная диагностика и определена формулировка кейса. Этот процесс подробно описан в следующей главе.
Кроме того, модель ТФ-КПТ можно адаптировать под нужды конкретного ребенка. Например, ребенку с комплексной травмой может потребоваться больше терапевтических сессий (до 25), что изменит соотношение этапов ТФ-КПТ по сравнению с описанным; в начале терапии больше времени уйдет на выработку базовых навыков стабилизации и возвращение чувства безопасности [53].
Также далее будет подробно описан процесс применения ТФ-КПТ у детей, столкнувшихся с травмой утраты. В нашем понимании травма утраты у детей проявляется в возникновении отчетливых и ярко выраженных симптомов травмы после смерти родителя, брата или сестры либо другой значимой фигуры привязанности, которые наблюдаются наряду с обычными реакциями горевания, что приводит к сопутствующей травме и дезадаптивным реакциям горевания. По-прежнему ведутся споры о том, как лучше всего определять, описывать и диагностировать травматические, сложные или дезадаптивные реакции на горе в процессе развития. Самый свежий пример – включение в классификацию DSM-5 стойкой осложненной реакции утраты в качестве «объекта для дальнейшего изучения» [9, с. 789]. Вне зависимости от того, какой статус эти вопросы получат в будущем, для улучшения психического здоровья детям необходимо эффективное терапевтическое вмешательство, особенно если симптомы не проходят в течение нескольких месяцев или даже лет после смерти значимой фигуры привязанности. Наш терапевтический подход к травме утраты последовательно объединяет компоненты работы с травмой и утратой таким образом, что как только ослабевают симптомы травмы, терапевт помогает ребенку и родителю вернуться к более естественному процессу горевания. Компоненты терапии, сфокусированной на травме, описаны в части II этой книги, а компоненты терапии, сфокусированной на работе с горем и утратой, – в части III.
Признаки травмы
Мы используем термин признаки (или симптомы) травмы для обозначения аффективных, поведенческих, когнитивных, физических, межличностных затруднений, непосредственно соотносящихся с травматическим опытом. Зачастую, но не всегда, эти признаки соответствуют симптомам ПТСР, однако в их число также входит множество других симптоматических проявлений, преимущественно связанных с депрессией, тревожностью, проблемами с поведением и/или употреблением психоактивных веществ. У детей в результате полученного травматического опыта может значительно меняться восприятие самих себя, мира и/или других людей. Эти изменения отражаются на их установках и эмоциональных реакциях; и то, и другое зафиксировано в последней версии DSM-5 в разделе о негативных изменениях в настроении и восприятии в связи с травмой (кластер D). Обнаруживается все больше доказательств того, что у многих травмированных детей происходят психобиологические изменения, которые, возможно, способствуют развитию и поддержанию этих психологических проявлений.
Мы разделили эти проявления на несколько основных категорий:
– аффективные;
– поведенческие;
– когнитивные;
– межличностные;
– симптомы комплексной травмы;
– биологические симптомы.
Это разделение несколько условно, поскольку сферы во многом пересекаются. Например, два важнейших изменения, которые могут произойти после травмы, – потеря значимого объекта привязанности и слом семейных ролей. Мы решили включить их в категории аффективных, когнитивных и межличностных проблем, но их вполне можно было бы вынести в отдельную категорию.
Симптомы травмы часто возникают в ответ на напоминания о травме (их еще иногда называют триггерами). Напоминания о травме — это внутренние или внешние сигналы, которые актуализируют непосредственный травматический опыт ребенка. Напоминанием о травме могут служить люди, места, вещи, разговоры, то или иное времяпрепровождение, предметы, ситуации, мысли, воспоминания, звуки, запахи или внутренние ощущения, которые ассоциируются у ребенка с травмирующим событием (событиями). Когда ребенок сталкивается с напоминанием о травме, он может испытывать чувства, схожие с теми, что он испытал непосредственно во время травмы. В результате ребенок начнет думать и действовать так, как если бы вновь столкнулся с травмирующим событием, даже если сейчас он в безопасности.
Один преступник громко угрожал девочке, чтобы запугать ее и заставить не рассказывать о физическом и сексуализированном насилии. Впоследствии девочка оказалась в приемной семье, и когда приемная мать и учителя, призывая ее к порядку, повышали голос, она злилась и становилась неуправляемой. Однажды после того, как приемная мать резко ее одернула, она испугалась, что та применит к ней силу, и сбежала. Ни сама девочка, ни приемная мать не понимали, что так она реагирует на громкую и резкую речь, поскольку это напоминает ей о травме. Как только они осознали это на терапии, им удалось выработать успешные альтернативные стратегии поведения.
Дети часто оказываются в терапии из-за поведенческой или аффективной дисрегуляции, а не из-за самой травмы. Особенно это касается подростков с комплексной травмой, у которых значительная дисрегуляция наблюдается во многих сферах. Поскольку родители и другие взрослые часто не понимают, что эти проблемы связаны с предшествующим травматическим опытом, очень важно распознать, идентифицировать и соотнести напоминания о травме и текущие травматические проявления ребенка. Это помогает членам семьи осознать, что проблемы ребенка представляют собой реакцию на травму, что затем часто позволяет им принять потребность ребенка в терапевтической проработке травмы.
У детей, переживающих травму утраты, тревогу вызывают также напоминания об утрате и об изменениях. Напоминание об утрате побуждает ребенка вспомнить об умершем человеке. К подобным напоминаниям относятся фотографии и разговоры об умершем человеке, дни рождения и юбилеи, значимые праздники. Напоминания об изменениях — это сигналы, вызывающие мысли о том, какие изменения произошли в образе жизни или личности ребенка после смерти близкого.
Например, ребенок вырос в семье военного и рядом с другими семьями военных. Когда его отец погибает, семье приходится переехать и жить рядом с семьями гражданских. В результате ребенок теряет не только отца, но и привычный образ жизни. А его мать после смерти мужа становится единственным кормильцем семьи, и поэтому ребенок может страдать не только от потери отца, но и от значительных изменений в привычном образе жизни.
Аффективные проявления травмы
В число общих аффективных признаков травмы входят страх, грусть, признаки депрессии, гнев и/или тяжелая эмоциональная дисрегуляция (то есть частые перепады настроения и/или трудность с проживанием негативных эмоций).
Страх — это одновременно и инстинктивная, и усвоенная реакция на пугающие ситуации. В ситуации угрозы жизни дети испытывают страх инстинктивно; вегетативная нервная система реагирует на воспринимаемую опасность активным высвобождением адреналина и норадреналина, которые еще больше усиливают тревогу. Страшные воспоминания кодируются в мозге иначе, чем воспоминания, не связанные с травмой. Впоследствии некоторые дети при воздействии чего-либо, напоминающего о травмирующем событии, испытывают такую же физиологическую и психологическую реакцию страха (например, ребенок, попавший в серьезное ДПТ с жертвами, может испытывать ужас, проезжая мимо места аварии). Позднее реакция страха может стать генерализованной, иными словами, безобидные встречи, места, вещи или ситуации, напоминающие ребенку о травмирующем событии, будут вызывать такой же по силе страх, как и первоначальная травма (например, ребенок начнет бояться ездить в автомобиле в принципе). Повторяющиеся страшные воспоминания характерны при ПТСР; у детей могут возникать навязчивые, пугающие мысли днем, а ночью им могут сниться кошмары. Содержание кошмаров у маленьких детей может казаться не связанным с травмирующим событием, им могут сниться другие пугающие вещи. У совсем маленьких детей говорить о наличии ПТСР может появление новых страхов (внешне не имеющих отношения к травме, кроме близости во времени) [193].
Вследствие внезапной травмы могут появиться не только конкретные страхи, но и общая повышенная тревожность. Из-за тревожности ребенок может базово не чувствовать себя в безопасности, быть слишком уязвимым, постоянно быть настороже, чтобы ничто не могло застать его врасплох. Чувство грозящей опасности может мешать детям выполнять задачи, соответствующие их уровню развития, но при этом они будут взваливать на себя чрезмерную для их возраста и уровня зрелости ответственность. Или ребенок забросит школу, отстранится от сверстников и родных и начнет демонстрировать упреждающую агрессию, считая это единственным способом выжить. Повышенная тревожность может приводить к парентификации ребенка, его стремлению выполнять в семье функции взрослого или к тому, что он будет стараться быть «идеальным», чтобы избежать возможных угроз в будущем. Могут закрепиться настороженность, постоянное ожидание угрозы, иные вызванные тревогой формы поведения. Все это препятствует здоровой адаптации и может привести к развитию сопутствующего генерализованного тревожного расстройства либо иных сопутствующих заболеваний.
После травмы ребенок может начать испытывать чрезмерную грусть или депрессивные чувства. Они могут развиться в ответ на резкую потерю доверия к людям и к миру (например, на потерю невинности, веры или надежды на будущее). Многим травмированным детям пришлось столкнуться с потерей чего-то довольно конкретного, и это вызывает у них сильную печаль. Чаще всего сильная печаль, тоска по фигуре привязанности и страстное желание с ней воссоединиться проявляются у ребенка после пережитой смерти или трагического (возможно, внезапного) расставания с родителем (например, из-за ареста), помещения ребенка в приемную семью либо других обстоятельств. На фоне желания воссоединиться с умершим родителем или фигурой привязанности у ребенка с травмой утраты могут возникнуть навязчивые суицидальные мысли. Некоторые дети в результате травмы сталкиваются с реальной утратой и могут сильно затосковать. Так, ребенок, которого ранили или сбили машиной, который пострадал от физического насилия, которого сильно избили или обожгли, зачастую ощущает физическую боль, а также страдает от потери функции или изуродованности какой-либо части тела. Сексуализированное насилие может привести к болезненным повреждениям половых органов и/или одному или нескольким заболеваниям, передающимся половым путем. Из-за пожара или стихийного бедствия ребенок может лишиться личных вещей, дома или кого-то из близких. Вследствие таких реальных потерь у детей нередко возникают негативные убеждения или мысли (см. далее), которые во многом способствуют развитию депрессивного или иного негативного эмоционального состояния.
Из-за свойственного детскому возрасту эгоцентрического взгляда на мир ребенок может винить себя в произошедшем, а это, в свою очередь, способно привести к таким симптомам депрессии, как вина, стыд, самоуничижение, ощущение собственной никчемности и даже желание умереть. Негативное представление о себе – серьезная проблема для многих травмированных детей. Оно может провоцировать неудачный выбор друзей и партнеров, саморазрушающее поведение. Злоупотребление алкоголем и наркотиками, нанесение себе порезов, небезопасный секс, попытки суицида – все это тесно связано с жестоким обращением и иными травмами. В итоге могут возникать сильная печаль и иные симптомы депрессии, которые классифицируются в рамках кластера D ПТСР (негативные изменения в настроении).
Гнев может проявиться в ответ на чувство несправедливости по отношению к травмирующему событию, иными словами, если ребенок чувствует, что «не заслужил» травму. У некоторых детей, особенно тех, кто столкнулся с физическим насилием или травлей, гнев может возникнуть тогда, когда они видят, что взрослые не справляются с трудностями или фрустрацией. У детей, страдающих от насилия в семье, может развиться травматическая привязанность [11, с. 39–41], при которой происходит идентификация с агрессором (мы еще поговорим об этом подробнее в этой главе). У травмированных детей гнев может выражаться как непослушание, непредсказуемые вспышки ярости, истерики или физическая агрессия в виде порчи вещей или причинения вреда другим людям. Дети, пережившие сексуализированное насилие, могут начать демонстрировать сексуализированную агрессию. Важно помнить, что у некоторых детей значительные проявления гнева или проблемы с внешним поведением могут предшествовать травмирующим событиям. В том числе поэтому так важно тщательно собирать анамнез и формулировать диагноз и только потом делать вывод о том, что терапия травмы подойдет конкретному ребенку.
Дети с сильной или длительной травмой могут стать крайне восприимчивыми и чрезмерно остро реагировать на то, что напоминает им о травме (например, на поведение или ситуации, которые ассоциируются у них с прежними травмирующими событиями). Так, в ходе одного исследования было установлено, что дети, столкнувшиеся с физическим насилием, намного сильнее реагируют на гневное выражение лица (для них это напоминание о травме), чем дети, у которых не было подобного опыта [171].
У детей с комплексной травмой обычно развивается дисфункциональная чувствительность или злость по отношению к отвержению, поскольку в их опыте отвержение со стороны родителей или других людей предваряло абьюз или иные травмирующие действия. У тяжело травмированных детей часто наблюдается нарушение аффективной регуляции, то есть внезапные перепады настроения и/или крайние эмоциональные реакции, сопровождающиеся трудностями эмоциональной саморегуляции. Тяжелое нарушение аффективной регуляции чаще возникает у детей, переживших множественные или комплексные травмы (например, жестокое обращение или домашнее насилие; о них поговорим далее), чем у детей, переживших одно непреднамеренное травматическое событие.
Далеко не всегда после травмы дети получают заботу и поддержку. Зачастую родители не могут предложить хороший способ справиться с произошедшим и преодолеть тяжелое эмоциональное состояние. Именно они иногда наносят ребенку комплексные травмы, потому что после травмирующего события игнорируют, обесценивают или даже наказывают ребенка за выражение страха, печали или гнева. Например, ребенку, ставшему свидетелем домашнего насилия, родитель-агрессор велел «заткнуться», после чего избитая мать выпорола его и накричала на него. Таким образом родители не только проигнорировали обоснованные эмоции ребенка, не утешили и не успокоили его, не помогли ему справиться с тяжелым состоянием, но и через наказание усугубили его эмоциональную дисрегуляцию.
У травмированных детей также наблюдаются нейрофизиологические изменения, в том числе хроническое повышение уровня гормонов стресса и адренергических нейромедиаторов, в частности, эпинефрина (адреналина), которые усложняют процесс эмоциональной регуляции [62]. Иными словами, нарушения эмоциональной регуляции у хронически травмированных детей могут носить и психологический, и физиологический характер.
Поведенческие проблемы
Пытаясь избежать болезненных ощущений, дети могут выработать такое поведение, которое помогает им защищаться от боли, но при этом может привести к еще большим трудностям. Отличительной чертой ПТСР является избегание. Чтобы не сталкиваться с невыносимыми отрицательными эмоциями, дети пытаются избегать напоминаний о травме: мыслей, людей, мест или ситуаций, ассоциирующихся с травмирующим опытом. При сильной генерализации напоминаний о травме возможно значительное ограничение занятий, соответствующих уровню их развития, а это может привести ко вторичным проблемам.
Так, девочку, которая в темное время суток подверглась сексуализированному насилию, по ночам стал мучить страх. Он постепенно нарастал, и через какое-то время она уже не могла ночью находиться в незнакомой обстановке, непереносимыми для нее стали даже те ситуации, в которых раньше она чувствовала себя комфортно, в том числе ночевки у друзей. В результате она все меньше общалась и все больше впадала в уныние; она также начала думать, что насилие произошло с ней потому, что с ней «что-то не так, у нее нет друзей».
Старшеклассник с нетрадиционной сексуальной ориентацией подвергся травле, его жестоко избили и изнасиловали в душе после урока физкультуры. Он перестал принимать душ даже дома. Это привело к проблемам с личной гигиеной и еще большему издевательству и социальному отвержению. Все это подтолкнуло его к серьезной попытке самоубийства.
Детям обычно трудно, а порой и невозможно полностью избежать напоминаний о травме. Ребенку, ставшему свидетелем неоднократного насилия в семье, о травме могут напоминать оба родителя. Если он постоянно сталкивается с уличным насилием, то напоминанием о травме может стать весь его район. Если напоминания о травме чрезмерно генерализованы, то избегание как способ справиться с ее последствиями редко оказывается полезным в длительной перспективе. Когда избегание не помогает защититься от сильных негативных эмоций, может развиться эмоциональное оцепенение или, в более тяжелых случаях, диссоциация.
Связанное с травмой поведение также может появляться в связи с усвоением определенных поведенческих моделей или развитием травматической привязанности [11]. Дети, растущие в жестокой или агрессивной семье или среде, часто наблюдают и поэтому усваивают дезадаптивные модели поведения и стратегии преодоления трудностей, особенно если на их глазах подобное поведение неоднократно подкрепляется.
Например, ребенок, переживший физическое и домашнее насилие, по ошибке может решить, что гнев и насилие – это приемлемые способы справиться с фрустрацией. Если ребенок вдобавок видит, что родитель-агрессор контролирует жизнь семьи, задает эмоциональный фон, распоряжается финансами и т. д., тогда как родитель-жертва регулярно находится в состоянии бесправия и бессилия, он может прийти к выводу, что побои – это хорошо и даже выгодно.
В качестве другого примера можно привести моделирование сексуализированного поведения в результате сексуализированного насилия. Если подвергшийся сексуализированному насилию ребенок узнает, что такое поведение почему-либо хорошо (либо потому что дает насильнику власть над жертвой, либо потому что физически стимулирует), у этого ребенка может развиться сексуализированное поведение.
Наконец, еще один пример – главарь местной банды или торговец наркотиками. Если у окружающих такие люди вызывают уважение и восхищение, если их агрессивное, жестокое или незаконное поведение одобряется, то дети могут сделать вывод о желательности такого поведения и начнут его копировать, если в их ближайшем окружении нет альтернативных позитивных моделей.
Травматическая привязанность включает в себя усвоение некорректного поведения и развитие дезадаптивной привязанности. Человек в случае такой привязанности довольствуется надуманными объяснениями неадекватного поведения. В психоаналитической литературе это описывается как идентификация с агрессором, а в юридической практике – как стокгольмский синдром. Когда ребенок находится под контролем жестокого или агрессивного родителя, а другой родитель едва ли может защитить себя или ребенка, естественные детские потребности в привязанности и принадлежности к родительской семье искажаются и становятся противоречивыми. В подобной ситуации трудно в равной степени сохранять связь с обоими родителями, не испытывая при этом сильного замешательства и не чувствуя противоречий. Часто такие дети одновременно боятся жестокого родителя и любят его, а возможно, сами испытали на себе жестокое обращение, если пытались защитить родителя-жертву. Из чувства самосохранения они могут привязаться к жестокому родителю.
Чтобы справиться с чувством вины и внутренним противоречием из-за отстранения от пострадавшей стороны, ребенок может перенять взгляды, отношение и поведение абьюзера по отношению к жертве и сам начать проявлять жестокость или агрессию. Например, избивающий родитель может обвинять жертву в своем поведении (например: «этого бы не было, если бы ты вовремя приготовил(-а) ужин»), а развивший нездоровую привязанность ребенок может выражать гнев или агрессию по отношению к пострадавшему родителю за то, что тот «заставил» абьюзера прибегнуть к избиению. Поэтому усвоение поведенческих моделей и выработка травматической привязанности могут способствовать агрессивному поведению травмированных детей.
От травматической привязанности также страдают девушки и молодые люди, пережившие коммерческую сексуализированную эксплуатацию. Подобная привязанность часто усиливает поведенческие признаки травмы после принуждения к занятиям проституцией и может приводить к возвращению к эксплуататору и прежней жизни, к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, воровству, лжи, вовлечению других в сферу оказания сексуальных услуг за деньги и/или агрессии по отношению к другим жертвам сутенера с целью угодить последнему или поддержать иерархию среди его «девочек». Такое поведение часто связано с представлениями молодых людей о преступнике, о чем мы подробнее поговорим далее.
У детей могут появиться и другие виды обусловленного травмой поведения. Например, они часто избегают здорового, соответствующего возрасту общения со сверстниками, предпочитая общаться с детьми с похожими эмоциональными и поведенческими проблемами. Выбор друзей у травмированных детей в первую очередь связан с негативной самооценкой, характерной для многих из них. Они могут опасаться отвержения со стороны «нормальных» сверстников и воспринимать общение с теми, кто оказался в похожей ситуации, например, с теми, кто подвергается жестокому обращению, как нечто более привычное и комфортное.