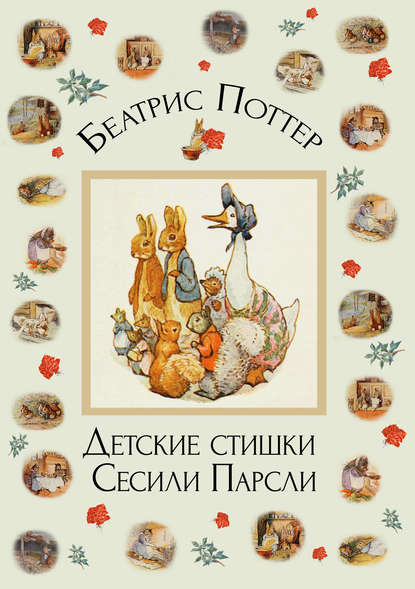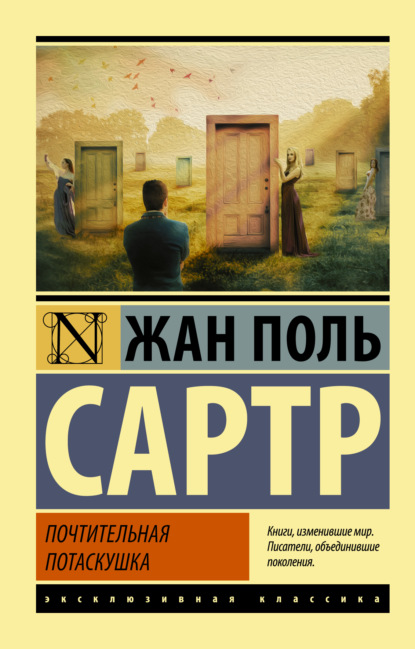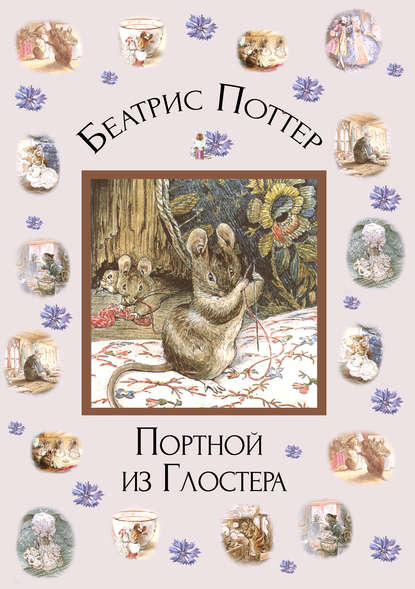Дети, столкнувшиеся со смертью и насилием. Комплексная психологическая помощь
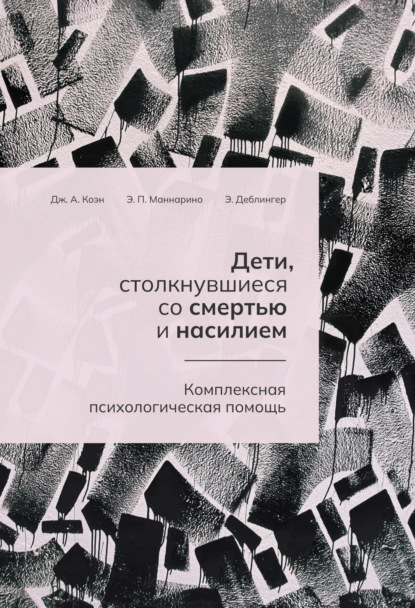
- -
- 100%
- +
Возникающий у многих травмированных детей гнев обычно проявляется в форме протестного, агрессивного и/или деструктивного поведения. Травмированные дети чаще подвержены злоупотреблению алкоголем и наркотиками; так они могут убегать от напоминаний о травме, бороться с негативным самовосприятием, а порой зависимость возникает в результате общения с другими детьми со сложной историей.
Самоповреждения (порезы, ожоги и др.) и суицидальное поведение тоже связаны с детской травмой. Некоторые склонные к самоповреждению дети говорят, что для них это способ выйти из оцепенения и хоть что-то почувствовать. Например, один подросток сказал: «Я понимаю, что я настоящий, только когда чувствую боль от пореза». Кто-то таким способом может привлекать внимание, когда больше ничего не работает. Кто-то за счет попыток причинить себе ощутимый вред справляется с отчаянием и невыносимой болью. Некоторые говорят, что самопорезы помогают им справиться с тревогой.
Также разновидностями рискованного поведения при травме выступают небезопасное сексуальное поведение, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, безответственное использование огнестрельного или иного оружия и другие виды неосторожного поведения, где высок риск нанести себе или кому-то еще серьезную травму или даже погибнуть. Опасное и саморазрушительное поведение настолько характерно для травмированных людей, что его включили в DSM-5 в качестве нового диагностического критерия ПТСР [9, с. 272].
Поскольку поведение некоторых подростков представляет значительную опасность, начинать терапию следует с работы по укреплению ощущения безопасности, чтобы снизить негативные поведенческие проявления. В крайних случаях (например, активное суицидальное поведение) для стабилизации состояния необходима госпитализация подростка, и только после этого можно переходить к когнитивно-поведенческой терапии, сфокусированной на травме.
Еще одна поведенческая проблема, которую часто упускают из виду, – взятие на себя ребенком непомерной ответственности (парентификация). Очень часто травматический опыт у детей вызван психическими заболеваниями родителей, их злоупотреблением изменяющими сознание веществами и/или сопутствующими факторами. При таком развитии событий один ребенок может взять на себя обязанности по уходу за младшими детьми и/или проблемным или больным родителем. Со временем семья начинает ждать от ребенка, что он станет заботиться о других членах семьи, а ребенок начинает считать, что это его обязанность, и в результате он берет на себя слишком много. Положение дел зачастую сохраняется, даже если он оказывается вдали от дома. Нередко важная задача терапии – помочь такому ребенку вести себя в соответствии со своим уровнем развития (то есть научить его «быть ребенком»).
Когнитивные искажения, появившиеся вследствие травмы
Вследствие детской травмы у детей (и родителей) могут поменяться установки (мысли), касающиеся их самих, виновника (виновников) травмы, других людей, правил взаимодействия в социуме и мира в целом. Пережив травмирующее событие, дети зачастую задаются вопросом, почему с ними или с кем-то из их близких случилось подобное. Если найти рациональное объяснение ребенку не удается, у него могут появиться ошибочные или иррациональные представления о причинно-следственных связях, которые в какой-то степени дают ему ощущение контроля и предсказуемости. На фоне очень распространенного иррационального убеждения дети винят себя. Они либо берут на себя ответственность за произошедшее («Меня изнасиловали, потому что я надела короткую юбку»), либо укоряют себя за то, что не предвидели и не предотвратили его («Мне нужно было догадаться, что папа разозлится, и предупредить маму, чтобы она была хорошей, тогда бы он ее не избил»; «Мне нужно было предупредить брата, чтобы он не ходил в школу, тогда бы на обратном пути в него не выстрелили»). Или, даже не обвиняя себя в произошедшем напрямую, ребенок может решить, что он плохой, неправильный или просто какой-то не такой, и поэтому «заслуживает» того, что случилось («Наверное, со мной это случилось потому, что я глупый»). Таким образом, мир остается справедливым и предсказуемым, а происходящее – закономерным; просто они заслуживают того, что с ними произошло.
Дети, которых хронически травмируют в отношениях (например, ребенок сталкивается с жестоким обращением, бытовым насилием, остается без надзора), по-видимому, особенно склонны к возникновению подобных установок. Возможно, причина в том, что такие действия являются намеренными, адресными и обычно совершаются родителями или другими взрослыми, от которых ждут, что они будут защищать ребенка, а не причинять ему вред. Ребенку зачастую намного труднее и болезненнее понять, кто действительно несет ответственность за ситуацию (то есть обвинить родителя), чем обвинить себя.
Ошибочные установки могут развиться и в отношении других людей (то есть тех, кто никак не связан с полученной травмой). Дети могут обобщить свой опыт и, если их предал один человек, решить, что доверять нельзя никому. Подобное убеждение может привести к трудностям в общении со сверстниками или нарушению привязанности к родителю и другим взрослым, непричастным к травме. А это может способствовать нарушению самовосприятия у ребенка: ребенок подрывает отношения, а затем связывает разочарование со своими недостатками. Либо дети могут реагировать на предательство регулярными попытками «исправить» или устранить полученный опыт, стремясь к чрезмерно доверительным отношениям со сверстниками или взрослыми, с которыми может быть безопасно, а может и нет. Такая стратегия нередко приводит к дополнительному болезненному опыту в виде плохого отношения или отвержения неуместных или неоправданных притязаний ребенка на безоговорочную эмоциональную близость.
Пережив сексуализированное насилие, некоторые дети усваивают ошибочное представление («Меня будут любить, только если я буду заниматься с человеком сексом»). Финкельхор и Браун [85] описали это явление как травматическую сексуализацию и рассматривали его как основной фактор сексуализированного насилия. Подавляющее большинство молодых людей, занимающихся проституцией, в прошлом перенесли межличностную травму, более 70 % из них в детстве подвергались сексуализированному насилию [213]. Очень часто те, кто занимается проституцией, поначалу описывают сутенера не как агрессора, а как бойфренда или человека, который «заботится обо мне больше, чем кто и когда бы то ни было». В основе таких описаний зачастую лежат давние дезадаптивные убеждения о том, что значит состоять в романтических отношениях, например: «Чем сильнее тебя любят, тем сильнее ранят»; «Ни одни настоящие отношения невозможны без насилия»; «Побои для него просто способ показать, что он обо мне заботится». Корректировка подобных убеждений – важнейшая часть успешной терапии [52].
У травмированных детей также могут развиться убеждения, подкрепляющие потерю веры в справедливость, бога или счастливое будущее. Такое мышление может привести к поведенческому выбору, который станет самосбывающимся пророчеством.
Например, у одного подростка старший брат и несколько друзей погибли насильственной смертью. Это привело его к дезадаптивному убеждению в том, что он вряд ли доживет до двадцати лет, а значит, нужно попытаться как можно больше успеть попробовать в жизни. Он начал употреблять наркотики, вступил в банду и бросил школу. Такое поведение сильно уменьшило его шансы на нормальное будущее; помимо того что он получил массу дополнительных травм, его на несколько лет посадили в тюрьму по серьезному обвинению в употреблении наркотиков и использовании огнестрельного оружия. Его собственные негативные ожидания, «предсказания» о том, что ничего хорошего его не ждет, привели именно к тому исходу, которого он больше всего опасался.
Разлука с фигурами привязанности и потеря семейных ролей – частая проблема, с которой сталкиваются дети с межличностной травмой, но степень травматичности этих событий может сильно зависеть от связанных со случившимся установок ребенка. Например, после того, как 13-летняя девочка рассказала о сексуализированном насилии со стороны отца, он стал это отрицать. В отцовской семье никто не верил, что он насиловал дочь. У нее всегда были близкие отношения с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, она была крестной своего маленького племянника, а после ее рассказов ей больше не разрешали с ними видеться. Девочка очень тяжело переживала разрыв с бабушкой и дедушкой, а особенно невозможность видеться с крестником, с которым раньше она сидела каждую неделю. Теперь она считала так: «Это моя вина. В насилии не было ничего ужасного. Мне не нужно было об этом рассказывать, как он и велел. Теперь у меня больше ничего нет».
У детей могут появиться не только ошибочные убеждения, как в примерах выше, но и верные, но непродуктивные установки. Они также способны усиливать негативное эмоциональное состояние, поскольку оторваны от контекста объективной реальности либо сфокусированы только на негативных аспектах ситуации. Например, установка: «Неизвестно, кто тебя изнасилует» может быть верной в данном контексте, однако настолько же верной может быть и другая: «Большинство мужчин никогда не насилуют детей». Очевидно, что первая мысль порождает страх и приводит к избеганию, тогда как вторая, тоже будучи верной, обнадеживает и вселяет уверенность. Травмированные дети часто концентрируются на ошибочных и/или непродуктивных установках, которые усиливают их негативные ожидания от других и деструктивное отношение к самим себе. Перечисленные когнитивные искажения в значительной степени способствуют сохранению ПТСР, различных форм тревожности, проблем с поведением и депрессии.
Изменения в межличностных отношениях
У травмированных детей нередко происходят изменения в межличностных отношениях. В более легких случаях дети могут отдаляться от сверстников, переставать радоваться привычным занятиям. Со временем стремление к уединению может в той или иной степени мешать социальному взаимодействию. Если ребенок испытывает стыд или полученный им травмирующий опыт стигматизирован, он может скрывать произошедшее даже от близких друзей. Это меняет характер дружбы, при том что именно в такой период ребенок больше всего нуждается в близких отношениях.
Девочку изнасиловал дядя во время ночевки у него. Она рассказала об этом родителям, и они посоветовали ей никому об этом не говорить, потому что «эта тайна не должна выйти за пределы семьи». Девочке было стыдно, она растерялась и стала бояться спать где-то вне дома. Она перестала оставаться на ночь у лучшей подруги, и та обиделась, что на приглашения ей регулярно отвечали отказом. Подруга решила, что с ней больше не хотят дружить, и девочка потеряла дружбу именно в тот момент, когда больше всего нуждалась в ней. Таким образом девочка пострадала от потери нескольких фигур привязанности (любимой тети, жены насильника, к которой ей больше не разрешали ходить, и лучшей подруги, решившей, что с ней больше не хотят общаться). Она утратила свою роль в качестве племянницы и лучшей подруги, а и то, и другое для нее было важно. Родители сказали ей, что, раз она больше не девственница, то теперь «хорошие» мальчики не захотят иметь с ней дело, и это привело к дополнительной потере части идентичности.
Родители, которые наносят ребенку серьезные или длительные межличностные травмы (например, жестоко с ним обращаются, оставляют без присмотра, допускают насилие в семье), также разрушают первичную детско-родительскую привязанность, которая лежит в основе обучения и усвоения модели будущих доверительных межличностных отношений. А это, как правило, влечет за собой серьезные последствия: такие дети зачастую сталкиваются с постоянными трудностями при попытке выстроить новые отношения, поскольку сама возможность доверительных отношений служит им напоминанием о травмировавшем их родительском поведении. Как отмечалось выше, после травматического опыта некоторые молодые люди чувствуют, что в привычном круге общения не поймут произошедшего с ними, и начинают сходиться с девиантными сверстниками, полагая, что только те знают, что значит чувствовать себя не таким, как все, быть изгоем. Подобное общение может повысить риск получения дополнительного травмирующего опыта и привести более серьезным травматическим последствиям.
Комплексное ПТСР
На фоне ранних межличностных травм, особенно нанесенных теми, кто осуществляет уход за ребенком (например, плохое обращение, бытовое насилие в семье), у некоторых детей возникает и усиливается сильная общая дисрегуляция во многих сферах жизнедеятельности. ПТСР относительно недавно, в 1980 году, классифицировали в DSM как отдельный диагноз. Было несколько инициатив по оценке необходимости включения в классификацию комплексного ПТСР в качестве подтипа ПТСР или отдельного расстройства (например, расстройство, связанное с травмой развития) для лиц, у которых развиваются последствия комплексной травмы, связанные с детским травматическим опытом. Формально в DSM-5 комплексное ПТСР не представлено в качестве самостоятельного диагноза, однако в выпущенной в 2018 году 11-й редакции Международной классификации болезней [МКБ-11, Всемирная организация здравоохранения] оно рассматривается в качестве отдельного заболевания.
Разница между комплексным и обычным ПТСР заключается в следующем:
1) люди с комплексным ПТСР пережили длительную по воздействию травму (чаще межличностного характера);
2) помимо основных маркеров ПТСР: вторжения, избегания и чувства угрозы, у людей с комплексным ПТСР наблюдаются отчетливая аффективная дисрегуляция, негативные представления о себе и нарушения межличностных отношений [34].
У подростков с комплексным ПТСР также наблюдаются заметная диссоциация, биологическая дисрегуляция и рискованное поведение.
Хотя до сих пор не существует единого инструмента оценки последствий комплексной травмы у детей и подростков, в ходе исследований ТФ-КПТ изучались различные сферы жизнедеятельности – те же, на которые обычно влияет комплексная травма. Поскольку изначально ТФ-КПТ разрабатывалась для терапии детей, переживших сексуализированное насилие (прообраз комплексной травмы), неудивительно, что ТФ-КПТ показала эффективность при работе с теми проблемами, с которыми столкнулись подростки с комплексной травмой.
В главе 4 мы упоминаем, что результаты нескольких исследований подтвердили положительный эффект ТФ-КПТ на молодых людей с комплексной травмой и ее последствиями [например, 36, 52, 151, 161, 163]. В ходе недавнего исследования в Германии сравнивали детей, у которых наблюдались перечисленные в МКБ симптомы комплексного ПТСР, с детьми с симптомами ПТСР. В обеих группах после ТФ-КПТ наблюдалось значительное улучшение по сравнению с состоянием детей в контрольной группе, при этом улучшения наблюдались у детей и с комплексным, и с обычным ПТСР. Подробнее о том, как применять ТФ-КПТ при работе с детьми и подростками с комплексной травмой, можно прочитать в следующих главах и в других работах [53].
Физиологические изменения
Тело и мозг ребенка целостно включены в его развитие, проявление эмоций, мышление и поведение. Важно понимать, что все, даже незначительные, поступки, мысли и чувства человека связаны с мозговой активностью. Поэтому неудивительно, что травма может изменить функционирование мозга. Когда подобные изменения влияют на мозговую активность в течение длительного периода (в отдельных случаях еще очень долго после окончания травматического воздействия), они могут привести к сохранению многих уже описанных травматических симптомов. Иногда хронические функциональные изменения также приводят к структурным изменениям мозга.
Физическая структура мозга может меняться: это означает, что до определенной степени структура мозга зависит от того, как он функционирует. Например, количество рецепторов головного мозга для различных нейромедиаторов может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от многих факторов, в том числе наличия и интенсивности стресса. Известно, что стресс влияет на гуморальную и гормональную регуляцию и мозга и других частей тела, что, в свою очередь, приводит к физиологическим реакциям, таким как учащенное дыхание и сердцебиение, рост артериального давления, приток крови к скелетным мышцам, повышенная активация.
Детская травма, в особенности ПТСР, связана с хроническими физиологическими изменениями в данных областях. Иными словами, у травмированных детей в состоянии покоя могут наблюдаться учащенный пульс, повышенное давление, общее напряжение в теле и чрезмерная активация. У травмированных детей, в особенности у тех, кто перенес межличностную травму (например, жестокое обращение или насилие в семье), были зафиксированы и другие изменения в структуре и активности мозга. Так, согласно результатам одного исследования, подвергшиеся сексуализированному, физическому или домашнему насилию дети имели меньший внутричерепной объем (размер мозга), более низкий показатель IQ, у них были хуже оценки, меньше объем мозолистого тела (часть мозга, которая соединяет левое и правое полушария) и более высокие показатели диссоциации, чем дети, у которых не было подобных травм в анамнезе. Более того, степень этих изменений напрямую коррелировала с продолжительностью негативного воздействия [63].
Поскольку деятельность и структура мозга меняются в зависимости от нашего жизненного опыта, мыслей, чувств и поведения, было бы разумно связывать возврат к более адаптивному с психологической точки зрения поведению с соответствующей нормализацией мозговой деятельности и, возможно, структуры мозга. Если развить мысль в этом направлении, то можно предположить, что терапевтическое (или иное) вмешательство, приводящее к восстановлению у ребенка эмоциональной, когнитивной и поведенческой регуляции, способно минимизировать или даже нейтрализовать неблагоприятное воздействие травмы на мозг и организм в целом. В частности, подобно тому, как после пережитой травмы развиваются новые нейронные связи, можно выработать новые реакции в противовес существующим реакциям страха. Наработка таких новых, более устойчивых реакций со временем может помочь полностью справиться с реакциями страха [59].
По мнению некоторых специалистов, к изменениям в мозге могут привести лишь определенные виды терапии (например, переработка движением глаз или методы телесной терапии), а КПТ и другие «разговорные» подходы не обеспечивают значительных изменений в мозге или теле травмированного ребенка. Мы полагаем, что вернуться к здоровой психофизиологической адаптации возможно различными способами, в том числе с помощью ТФ-КПТ. В настоящее время мы сотрудничаем с коллегами из нескольких учебных учреждений США для оценки воздействия ТФ-КПТ на нейронные связи и обращаем внимание на хорошо организованные нейробиологические исследования, в ходе которых применяются иные методы лечения травмированных детей. Нейробиологических исследований в области психотерапии травм еще очень мало, поэтому делать научно обоснованные выводы о влиянии терапии травм на нейронные связи детей пока рано. Тем не менее, даже если вызванные травмой функциональные или структурные изменения в мозге не являются обратимыми, как это предполагается в ТФ-КПТ и иных психотерапевтических подходах, это не умаляет ценность психотерапии как инструмента, позволяющего облегчить психологические симптомы травмы у детей, улучшить их способность к адаптации и качество жизни.
Травма утраты у детей
Травма утраты может возникнуть у детей в результате смерти значимой фигуры привязанности. Она выражается в виде отчетливых травматических признаков, отличающихся от обыкновенных реакций горя. Переживание травмы утраты у столкнувшегося со смертью ребенка приводит к описанным выше симптомам травмы, а также к сложным или неадаптивным реакциям на горе.
Травма утраты может развиться у ребенка в ответ на внезапную, насильственную или случайную смерть, в том числе на гибель в результате ДТП или иного несчастного случая, домашнего насилия, суицида, стихийных бедствий, войны или террористических актов. Однако травма утраты у ребенка может появиться не только в ответ на неожиданную, насильственную или внезапную смерть. Например, исследование детей и подростков школьного возраста показало, что у тех, кто пережил смерть одного из родителей в результате продолжительной болезни, вероятность развития ПТСР и дезадаптивных симптомов утраты была выше, чем у тех, кто пережил внезапную смерть родителя по естественной причине (например, от сердечного приступа) [121]. Это позволяет предположить, что травма утраты может развиться у детей, ставших свидетелями смерти от разных причин, в том числе тех, которые формально травмирующими не считаются.
Неосложненное горе
Люди по-разному реагируют на горе, и не существует единственно «правильного» или «нормального» способа прожить горе после смерти близкого человека. Неосложненным («типичным») горем называют процесс горевания, через который проходит большинство детей после смерти важной фигуры привязанности. Неосложненное горе, за исключением нескольких заметных отличий, напоминает большое депрессивное расстройство (БДР, или клиническую депрессию) [9, с. 126]. Например, основными чувствами при проживании горя выступают чувство опустошенности, печаль и тоска по ушедшему, тогда как при БДР – постоянная подавленность, невозможность радоваться или испытывать счастье (ангедония). Связанный с горем негативный аффект с течением времени, на горизонте от нескольких дней до нескольких недель, постепенно уменьшается. Проявляется он волно- или приступообразно при контакте с тем, что напоминает о человеке или его смерти, а грусть чередуется с радостными воспоминаниями об умершем. Напротив, негативное влияние БДР стабильно и не связано с конкретным мыслительным содержанием. При обычном горевании ребенок не испытывает вину и не страдает от низкой самооценки, тогда как при БДР это типично. Связанные со смертью переживания – это часть обычного горевания, они соотносятся с желанием единения с умершим близким, а не с желанием умереть как таковым. При БДР мысли о том, чтобы проститься с жизнью, соотносятся с ощущением собственной никчемности или неспособностью справиться с муками депрессии. В ходе недавно проведенного популяционного исследования удалось зафиксировать, что дети (особенно мальчики), пережившие смерть родителей, в течение как минимум 25 лет оставались подверженными повышенному риску самоубийства [107]. Но неясно, была ли хотя бы у некоторых из этих детей травма утраты.
Хотя в ранних работах высказывалось предположение о том, что существуют стандартные стадии горевания, как они описаны у Кюблер-Росс и других исследователей, в более поздних концепциях описываются скорее задачи, возникающие перед детьми при нормальном проживании горя [218, 219]. Дети справляются с ними различными способами, в разной последовательности и за разное время. Как правило, когда переживающие утрату дети не сталкиваются с существенными препятствиями или затруднениями при решении этих задач, считается, что они нормально проживают горе.
В число задач, возникающих перед детьми при проживании горя, входят:
1) переживание глубокой боли, связанной с уходом близкого человека;
2) принятие необратимости смерти (в соответствии с возможностями ребенка на том или ином этапе развития);
3) встреча с воспоминаниями об ушедшем и принятие его целиком;
4) преобразование активной связи с человеком в память о нем;
5) присвоение себе важных положительных качеств умершего;
6) фокусировка внимания на положительных отношениях в настоящем;
7) возвращение к здоровой траектории развития.
Затяжная реакция горя
Как и где проводить границу между «нормальной» и «затяжной» реакцией горя? Споры об этом продолжаются [153]. Важно найти баланс между желанием избежать ненужного лечения (например, детей с нормальной реакцией горя, которая должна разрешиться сама собой) и желанием предотвратить ненужные страдания в том случае, когда проблема поддается лечению (если речь идет, скажем, о ПТСР или других симптомах с риском долговременных последствий). Было трудно определить, какие дети попадают в ту или иную категорию и как скоро после смерти фигуры привязанности об этом можно делать выводы.
Для описания нетипичных реакций на горе использовались различные термины и концепции, включая такие как затяжная реакция горя, патологическая реакция горя и травма утраты. Например, в DSM-5 выделяется малоизученное состояние «пролонгированное комплексное расстройство, вызванное тяжелой утратой», которое требует наличия определенного количества симптомов в каждом из трех отдельных кластеров (сепарационная тревога, вызванный смертью дистресс и личностная или социальная дезорганизация) [9, 122]. Интересно, что эти же кластеры симптомов характеризуют и другие виды межличностных травм, представленные ранее в этой главе. Метод оценки этого расстройства описан в главе 2. В данной редакции травматическая тяжелая утрата связывается только с переживанием насильственной смерти или самоубийства, «с постоянными тревожными переживаниями по поводу травматического характера смерти» [9, с. 790].