Уроки деда (книга в книге). Премия им. А. П. Чехова
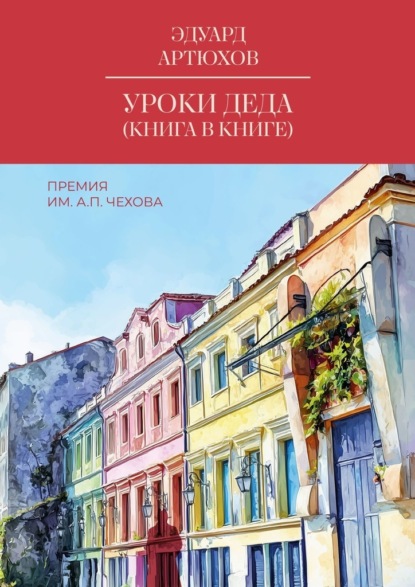
- -
- 100%
- +
Взрослые еще суетились по домашним делам, только собираясь отдыхать, а мы уже видели десятые, сказочные, многие цветные, сны. Набираясь сил и заряжаясь энергией к новому, сказочному летнему утру. То, что оно будет сказочным, для нас, беззаботных и радостных, сомнений не было.
Сомнения были, видимо, лишь у старой калитки, которая не выпускала нас на уличную свободу зимой, весной и осенью. По известным причинам- холода, морозы, дожди, слякоть, грязь… Но летом – она распахивалась и запахивалась многократно, как молодая и бодрая. И хотя мы с Дедом, предусмотрительно, обильно смазали ее кованные петли солидолом, она, выпуская нашу детскую свору на свободу, недовольно, а может быть назидательно, поскрипывала. Видно, это черта всех стариков – бурчать на рвущуюся на свободу, к новым впечатлениям и приключениям, молодежь.
Но только не моего Деда. Открывая засов калитки, как будто отправляя нас в самостоятельную взрослую жизнь, со строгим видом и напускной строгостью в голосе вопрошал он к нам: «Помните, что говорил, чему учил? Как вести себя нужно?»
– Да! – как стая воробьев, галдели мы. И выпускались за калитку, под ее недовольно назидательный скрип.
Учил Дед многому, внятно и понятно. С чужими взрослыми на деревне не ходить никуда, на вопросы отвечать, но не больше… Тут же звать взрослых, для взрослых разговоров. Аргумент Деда был четкий по-военному, авторитет старого буденовца в нашей мелковозрастной среде был безгранично высок, как Бога среди верующих,
– А если это – вражеский шпион? – спрашивал он нас и точно знал, что мы все поняли и действовать будем бдительно, соразмерно суровой действительности.
К знакомым взрослым должно относится с почтением и уважением, но без разрешения своих никуда не ходить и ничего не делать. В лес за околицу деревни одним не ходить, в сторону болота за луга не ходить, в воду, кроме луж, одним не лезть, в колодцы, свесившись головой вниз, не смотреть, в гости с разрешения ходить, через посадки к железнодорожной ветке за околицей деревни – ни ногой, чужих собак не задирать, зверя из леса (волка, кабана, медведя, лису, лося, и даже зайца) увидев – сразу домой взрослым рассказать… В общем, никуда без спроса.
Обученные технике безопасности пребывания вне границ двора, мы отпускались на волю. Знания нас остерегали, но совершенно не предохраняли от разбитых коленей и локтей, носов, шишек синяков и ссадин, и непродуманных, иногда не очень хороших поступков. А взрослые, хоть этого мы не замечали, за нами приглядывали. Лучше современных информационных систем и средств связи работало междворовое деревенское радио.
Вырвавшись на улицу, деревенское пространство общего пользования, рискуя «подорваться» на разложенных по утру стадом коров «минах» и тут же быть отправленным на лечение под летний душ и полное переобмундирование домой, с риском быть «госпитализированным» до вечера, мы мчались к деревенскому стадиону на задворках старой хаты с громким названием – «Сельсовет».
Стадион – тоже названо громко. Хорошо выкошенное поле с импровизированными, из трех жердей, сбитых колхозным пастухом и по совместительству плотником дедом Семеном, воротами по обе стороны.
Вместе с тем, футбольные баталии были здесь не менее жаркие, чем на городских каменных стадионах. Тем более, что в нашем распоряжении всегда был настоящий кожаный мяч, что лежал на крыльце Сельсовета. Общественный, общедоступный, купленный для деньги общества председателем Сельсовета, уважительно всеми называемым в деревне Михалычем. Для детворы дядькой добрым, сильно уважавшим коллективную спортивную игру- футбол. Часто выступавшим тренером и игроком с нами.
Думаю, что именно тогда и моя любовь к футболу зародилась и укрепилась на всю жизнь.
На стадионе нас уже ждала деревенская команда «Цыганенок», состоявшая сплошь из цыганят, проживавших на другом конце деревне в большом цыганском доме. Приходились они внуками цыганскому барону, которого мой Дед называл кратко и просто Яшка-цыган.
Как то, узрев мое недоумение по этому поводу, ведь по возрасту они равны, а внуков у Яшки-цыгана на десяток побольше, Дед мой сомнения мои тут же развеял, с долей шутки.
– Мы с Яковом партизанили вместе, огни и воды прошли. Лихой воин. Для Вас он- Яков Романович, а для меня – всегда Яшка-цыган. А барон у них, как у нас председатель колхоза. Должность у него это такая.
Мяч уж был в поле. Начались футбольные баталии. Бились с переменным успехом, побеждала все больше дружба. Силы футболистов стали иссякать и требовалась срочная и эффективная подпитка. Объявив перерыв, по предложению цыганят мы воробьиной объединенной стаей полетели за яблоками в колхозный сад на окраине деревни.
Август- месяц сладкий и вкусный. Яблоки в пору августовскую наливаются спелой сладостью и сочностью, с трудом держатся на ветках, соблазняя видом своим голодных футболистов. В колхозе начиналась пора яблочного сбора, но и у колхозников есть обеденный перерыв.
Когда мы просочились на простор яблочного сада, то никого там не оказалось. Стройным рядами стояли ящики полные крупных спелых яблок, стоял умопомрачительный яблочный дух-аромат… Рядом множество корзин, полных, пустых и полупустых.
Оголтелой, голодной стаей набросились мы на добычу. Набрав полные карманы, майки краснобоких яблок, метнулись мы на стадион, где и свершили праздничную трапезу. Ешь от пуза! Огрызки и остатки роскоши мы щедро скормили постоянному нашему зрителю – поросенку Борьке.
Борька по месту жительства своего приходился нам соседом. Хозяйка его – тихая, одинокая женщина по имени Агафья проживала в доме по соседству, через дорогу. Бабушка Настя и Дед Василий часто помогали ей, да и мы, по делам хозяйственным. Знали на деревне, что навалилось на Агафью, согнуло, состарило раньше времени, но не сломало большое горе. Погибли в войну и муж ее, пятеро сыновей и три дочери, мать и отец, семь братьев и пять сестер с домочадцами… И осталась она – одна одинешенька на белом свете. Жила в отцовском доме, каждое утро, еще затемно, ходила в город в церковь, после шла на деревенское кладбище, где прибиралась и ухаживала за могилками, и своих сродственников, и тех, кого уже никто не посещал. Ходила всегда в трауре. Уважали ее в деревне, с пониманием про беду никогда не вспоминали. Помогали, коли надобно. Но она ничего сама не просила, никогда. От помощи не отказывалась, благодарила с поклоном. Дрова да уголь колхоз выделял, сено со всеми косила, все, как и все колхозники, получала. Дед ей дом чинить помогал, Бабушка в огороде и саду. Вместе урожай собирали, варенье варили, по грибы и ягоды ходили… В общем, по-соседски жили. И была у бабушки Агафьи в это лето одна отрада – поросенок Борька. Любила она его и холила. Вся деревня Борьку знала, мы, как тимуровцы, шефство над ним взяли, присматривали. Вот он с нами везде и бывал. И на футболе тоже. Но за яблоками то с нами не пошел, видно умнее оказался.
После перерыва две мощных команды футболистов провели еще два матча. И убедившись, что дружбу не побороть, решили вернуться к истокам, тем более, что к шестнадцати, семнадцати часам по действующему времени исчислению, что нас, что внуков Якова Романовича, должны были ждать кружка молока, скибка белого хлеба с медом, или иным вкусным ингредиентом- варением.
Веселой гульбой мы к дому, цыганята к себе. Вместе с довольным Борькой,
ворвались мы в кухню Бабушки. Расселись вокруг накрытого стола, кроме Борьки, который уж хряпал во дворе приготовленную баланду.
– Мать, – прозвучало сурово и жестко, – Накрыла, иди по хозяйству. Мне с этими бусурманами нужно поговорить…
Много лет спустя и тогда, не мог я понять, почему же Дед мой, свою жену зовет Матерью. Какая она ему Мать? Маме и Отцу —да, и то по кровному родству лишь Маме. Нам же – Бабушка! Но, мой Дед не может ошибаться…
Спустя многие годы я понял сакральный смысл его слов. И он – прав!
Для него моя Бабушка- Богом данная супруга, дочь Матери Божьей дарованной ему, хранительница очага семейного, лоно рода предков и потомков, его сердце, душа, и тело… Без Нее нет будущего, без Нее пустое настоящее, без Нее гибнет прошлое… Было тогда, что не сам выбирал… Но ведь принял решение Рода, согласился….
Слышал я, как Дед мой, по-иному звал Бабушку Настю, не всю красоту слов этих помню… Но в жизни обычной, в горячке болезни, когда думали, что не услышу, но слышал… Настя, Анастасия, Настюшка, Лада, Ладушка, Любушка, Милушка, Милая Моя, Красавица, Чудо мне данное, Кудесница моя, Душа мая, Сердце мое, Хозяюшка, Любовь моя, Сердце мое, Душа моя, Солнце мое, Лада моя, Счастье мое… Не все могу я нынче вспомнить… Да и вы попробуйте, то слово доброе в его многообразии назвать. Может и более эпитетов наберется… Она для него и нас – Мать, Дочь Богородицы. И я с ним в том вечно согласен!
Разве не это Любовь, описанная простыми словами? При том, что Дед мой немногословен был. Но, истинно любил!
Застав нас за вечерним столом и видя, что не сильно голодны, спросил Дед просто и сокрушительно.
– Ну что, яблоки вкусные были? Как же вы могли? И меня и Бабушку опозорить… Как нам и родителям ваши обществу в глаза смотреть? Вы же-лиходеи, люди не честные, воры… По что яблоки у людей покрали? Разве я вас учил чужое брать без спроса? А я вам верил… Думал, что слова мои помните… Чужое не бери, свое не отдавай! Можно и должно свое отдать, коли жизнь другого или твоя от того зависит. Коли нет иного пути жить и любить. Но, никогда нельзя брать чужое!
– Василий, ты уж их прости, – за нас Бабушка встала Матерью, – несмышленыши, не со зла они… То – по глупости… Разве мы с тобой без греха живем? Коли нас с тобой не услышали, мы в ответе с тобой перед Боженькой…
Нахмурился Дед, замолчал. Смотрит на нас задумчиво. На Бабушку взглянет, что-то сказать хочет вроде, нет – молчит… Но за солдатским своим ремнем не идет.
Коль не знал бы, то не поверил. Внуку важно Деда прощение! Это Бог ему право дает, нашим глупостям снизить его, Бога, счет.
Пригорюнились мы за столом, понимая, о чем речь идет… Стыдно, но сделанное то уже не возвратишь. В красный угол глянули. И показалось нам, что Спас Нерукотворный смотрит на нас сурово, с осуждением…
Совсем мы притихли и пригорюнились. От осознания того, что Бог накажет Бабушку и Деда, да родителям от Него достанется за нас. Сказать хочется, но почему-то не можется. Может Бог дара речи на время осознания содеянного лишил в наказание. А в головах уже крутится, раскаяние-молитва:
Дед и Бабушка, Вы простите нас,Боже их не лишай Ты нас…Это мы во всем виноваты,Не предъявляй счет им для расплаты…За дела свои мы сами в ответе…Не смотри на то, что мы дети…Ты прости, Отца и Матушку,Деда нашего, нашу Бабушку…Не виновны они пред Тобой…Мы бываем глупы порой…Повесили головы добры молодцы, засопели носы к реву детскому. Осознать-осознали, все поняли, раскаялись и повинились, а как исправлять то не знаем. Яблоки уже не вернешь.
Поняла все Бабушка, улыбнулась втихаря, чтоб мы не заметили:
– Ох, бедовые вы наши. Что ж с вами делать то теперь? Твое слово, Василий. Ты глава семьи- твое слово и последнее.
Все понял и увидел Дед. Был мудрым и правильным Дед.
– Завтра, вместе пойдем мы в обед к бригадиру колхозных садов, чтоб пред обществом вы повинились… За себя и Борьку отработаете, поможете урожай собирать. Цыганята с вами пойдут… С Яшкой-цыганом я уже виделся. А Вам еще раз говорю, как и говорил – нельзя брать чужое без спроса. Не берите чужого- это жизни нашей основа. А сейчас Бабушке помочь со стола убрать и мигом спать. Вижу, что сказать желаете. Бог вас услышал и слышу. Слов лишних не нужно. Мы все вас прощаем. А завтра общество простить должно, для него слова свои приберегите.
Сказано- сделано. По утру собрали два Деда наши футбольные команды и повели в колхозный сад. Оба при параде – фуражки служилые, пиджаки с орденами и медалями, брюки отглажены в стрелочку, сапоги до блеска начищены. Только Борьку не нашли. Да и зачем ему позор, в разорении он не участвовал. Только позже мы узнали, что и с ним беда приключилась. Но об этом позже. И что же дальше, спросите? Знают Деды, как решать все беды. И потому дальше сказ о том, как наши Деды решили все наши беды.
Знают Деды, как решать беды(сказ-быль)Мастера творить мы беды,Не со зла, по глупости…Решить, как беды отвести-Не хватает смелости,Не хватает мудрости…Дед Василий и Яков ДедПривели нас в Сад в обед.В Райском, будто бы, Саду,Сотворили мы беду…От стыда мы, как свечи сгорали,Но сгореть нам Люди не дали.– Что ж, что взяли мы вам прощаем.Нам помочь вам предлагаем.Коли в день яблок вы норму соберете,По домам целый ящик возьмете…Мы трудились, как договорились.За позор свой трудом откупились….Дедов запомнили вечно завет,Взять чужое без спроса – нет!Но беда не приходит одна.Борька вдруг пропал- вот беда!Кто ж сумел умыкнуть его?С утра не видел его никто.Вместе с Дедом мы к хлеву пошли,Следопыт Дед, все там и нашли….– Посмотри-ка, с вниманием, внучок…Ведь не волк Борьку уволок…Волк не может сломать забор,С корнем вывернуть шкворень-запор…Агафья Борьку на замок не закрывала…Из того, что для нас с тобой стало?Может в тот миг, а может нет,Через много после лет,Сам о том тогда и не думая,Меня сыщиком сделал Дед.– Деда, Борьку мы вчера видали,И до хлева его провожали.Агафья-бабушка его принялаИ ко сну его в хлев увела…Здесь – чья-то другая рука.Сама забор поломать, не могла.Хлева дверь взломать,Борьку сонного забрать…Улыбнулся мне в ответ Дед.Следопыт – или есть, или нет.Видно, чуть понял ты науку,За что с братьями получал оплеуху.Цыганята из подозреваемых-В раз отпали,Вместе к хлеву БорькуМы провожали.Только по деревне прошли слухи,Все узнаешь коль остро ухо,Что были цыгане -лихие,Не наши, деревне не родные.Не хотел меня с собой брать Дед,Но коль требовать с цыган ответ,Подозрения коли высказали и есть,Вместе спрашивать нам и держать ответ.Дом цыганского барона красив и высок.С Дедом входим в калитку в срок.Не видать цыганят —друзей.Говорит мне Дед: «Не робей!»Выходи Яшка на разговор,С тем пришел я к тебе на двор.Говорят, в деревне, цыгане бывалиИ Агафью в ночь обокрали.Брат Василий, ты, зря не шуми.С внуком в дом мой проходи.По сто грамм выпьем мы за Победу!А для внука найдется конфета.Про беду на деревне я знаю,И Агафью я уважаю,Мы пока за столом посидим,Все проблемы, знаю, решим.Чинно сели Деды за стол,Разговор о жизни пошел.Жили вместе как, воевали…Из руин жизнь как поднимали…– Вижу я, смену готовишь? —Яков Дед с улыбкой спросил. —Средь мальцов наших он в уважении,Как и ты среди нас был.Глянул Дед с хитрецой мой:Всем когда-то нам на постой,Вот и нас с тобой когда-то не будет,Кто цыган к порядку призывать будет?Рассмеялись два суровых Деда,Что прошли огни и воды, беды…Кем бы ни были, как не величались,Все пройдя – Людьми остались.Залетели в залу цыганята,Деда Якова внуки-пострелята,– Деда, лиходеев дядьки отыскали,Борьку бабушки Агафьи отняли.Деды вновь по стопке разлили,За Победу их осушили.Мы ж гурьбой чаю попили,За Победу, как Деды испили.Посидели, поговорили…Попрощались, в двор свой поспешили.Деды руки друг другу пожали,Не такие еще проблемы решали.Мимо дома Агафьи идем,Хлев Агафьи не узнаем…Крыша новая, новая дверь,И забор ее- новый, плетень.Борька носится, словно олень.В дом Агафьи распахнута дверь.Что-то с бабушкой она обсуждает,Слезы радости платком утирает.Улыбнулся суровый Дед,Для огорчения повода нет.– Внук, в дом идем через огород,Видишь Мать и Агафья нас ждет.Обещал я ей не употреблять,Но не смог обещание сдержать.В сенях-бражка. Я выпью кружку,Повод есть – спасли хрюшку.Партизанами мы пробрались в дом,А там накрыт богатый стол…Партизан жен обмануть-Нет, не правильный мы избрали путь…Пробрались мы, по-тихому, в сени,А там уже Агафья и Бабушка:– Ну, что партизаны, пошли,Поедим со сметаной оладушек!На том празднике и я был.Чай с медом, не пиво пил.По усам не текло, усов нет.Тогда запомнил я на много лет-Не исправят что Деды- нет бед!Усвоили мы все вместе, и я в отдельности, очередной урок мудрого Деда. Чужого без спроса —не бери! И другим брать не позволяй!
Через годы звучат, как колокола, Деда истины слова:
«… Чужое не бери, свое не отдавай! Можно и должно свое отдать, коли жизнь другого или твоя от того зависит. Коли нет иного пути жить и любить. Но, никогда нельзя брать чужое! Не берите чужого- это жизни нашей основа!»
Спасибо, Дед, за урок!
Урок деда третий
В старом дедовском доме были тайные, недоступные для нас, малышей, места и предметы. Всегда сухие и холодные, зимой и летом, сени скрывали в себе два огромных, окованных железом дубовых сундука. Сундуки закрывались на два больших железных замка, которые не пускали нас к сказочным тайнам. Ключами владела хозяйка дома – Бабушка Настя, где она их хранила, наверное, не знал, даже домовой.
Тот самый, что иногда шуршал за печкой, поскрипывал в углах дома, поскрябывал где-то в глубине деревянных стен, но никогда не хулиганил, сразу же затихал, получив блюдце с молоком и вместе с нами по конфетке. Кот-крысолов Василий молоко домового не трогал и в места его присутствия не ходил. Видно, уже пообщались и заключили взаимоуважающее соглашение. Хотя кот Василий – боец отчаянный, крыс отлавливал с себя ростом, да по две сразу и приносил на крыльцо Бабушке. Отчитывался о проделанной работе. С удовольствием уплетал плату- густую сметану в плошке. В весенних кошачьих схватках, да и в другие времена года, Василий равных себе на деревне не знавал. Даже волкособ Полкан Василия уважительно пускал спать в свою будку, что для иного кота или кошки было, однозначно, – жестокая трепка с кошачьего тела повреждениями.
Полкан и Василий были не просто товарищи, не просто друзья, а боевые друганы. Как-то, ближе к окончанию весенних кошачьих игр, на возвращавшегося домой по утру довольного Василия имела несчастье напасть стая деревенских собак. Несчастье- потому, что все это увидел, мирно до этого дремавший на крыльце, Полкан.
Он ворвался в гущу окруживших Василия бедолаг как смерч, из сказки Волкова об Элли и ее собаке Тотошке. Стаю разметало и разбросало в стороны, кроме одного визжащего барбоса, в морду которого во все четыре лапы вцепился злобно орущий Василий. Ощутив подмогу, он снисходительно отпустил, тут же умчавшегося вдаль, пса, и с наглым видом, показывающим Полкану, что и сам бы справился, чего влез, но в его сопровождении прошагал к крыльцу, где уже стояла плошка со сметаной.
Совершенно неправильно думать, что Василий был неблагодарным котом. Просто, мало было кого-то, кто смел обидеть Полкана. Однако, случай доказать свою дружбу и отплатить на добро добром Василию представился.
Как-то под вечер, у старой скрипучей калитки Дед мирно беседовал с подошедшим деревенским пастухом Степаном. Наверное, о сменах договаривались. Полкан подбежал к Деду и Степан, в шутку, замахнулся на него кнутом. Это была его ошибка. С виду спавший на ветке яблони Василий коршуном упал на Степана. И только фуражка и капюшон брезентового пастушьего плаща спасли его от жестокой расплаты. Пришлось Деду отдирать Василия от капюшона плаща. Кот злобно шипел на Степана, протягивая когтистые лапы в его сторону, но хватку Деда ему не одолеть. И, заметьте, на руках у Деда ни царапины.
Домового и Деда Василия кот Василий задирать себе не позволял. Может понимал, что они тезки. С Дедом. И что кормящую хозяйскую руку царапать и кусать нельзя. Хотя предпочитал Василий сидеть на коленях у Бабушки, спать у ее ног или в сенях с Полканом, но только зимой, куда Дед переводил их со двора, чтобы не мерзли. Дед в шутку, будто ревнуя, бывает, шуганет его с бабушкиных колен. Кот со взглядом, говорящим – вот же ты какой нехороший человек, с видом глубочайшей покорности гордо скрывался под кроватью, но через пару минут вновь оказывался на коленях у Бабушки. Фигушки тебе, Дед.
История поименования Бабушкой кота Василием явно имела сакральный, для нас всех глубоко скрытый, только им двоим понятный смысл. Иногда, на зов: «Василий, поди сюда!», – Дед не двигался с места и с улыбкой спрашивал: «Настюшка, кота кличешь?»
– А что, кот мне дров нарубит и принесет? – парировала Бабушка, – звала б его, «кыс-кыс» сказала. Али « кыс-кыс» и тебе приятно?
Тайна бабушкиных сундуков открылась просто, как и их замки. Хранились там, пропитанные, как солью утоптанное в кадку сало, нафталином зимние вещи, шубы, тулупы и тому подобное, бабушкины парадно-выходные одежды, дедова кожаная тужурка с портупеей, гимнастерка и галифе, хромовые сапоги, и разные другие ценные вещи. Но самое ценное- дтри настоящие буденовки. Которые впоследствии, раз уж обнаружились, по разрешению Деда, выдавались нам с возвратом Бабушкой для игр в войну.
В большой зале, под боковой широкой лавкой стояли два таинственных сундука Деда. Их тайна раскрылась Дедом мне значительно проще. В одном он хранил сапожные и мелкие плотницкие инструменты, всякие мелочи иногда нужные в хозяйстве, чтоб не потерялись. В другом же хранились его ружье, финский нож в кожаных ножнах, походная фляга, кожаный кисет с табаком, аптекарские весы с набором гирь и гирек, жестянки с порохом, холщовые мешочки с дробью разной, пулями, капсюлями, промасленная бумага, тонкий, но твердый картон, твердый войлок, да патронташа, груда металлических гильз и много еще разного интересного.
Часто вечерами, Дед открывал этот сундук и самолично снаряжал патроны для своей «Тульчанки». Из этого процесса мне он доверял – нарубить пыжей из картона, войлока и бумаги. Все остальное он делал сам, но подробно рассказывал мне, что и как нужно делать. Когда приходило время вставлять капсюля в снаряженные патроны, Дед отправлял меня на кухню помочь Бабушке. И лишь когда, патроны занимали свои места в патронташе, звал обратно. Помогать прибираться. Сначала я обижался, а потом понял. Берег меня Дед. От беды. А если бы капсюль бракованный и искранул… А я на линию попал бы выстрела…
– Дед. Скажи, а почему ты ружье в сундук прячешь? У многих оно на стенке висит, на ковре. Красиво.
– Запомни, внук. Не зря народ говорит, что незаряженное ружье раз в год стреляет. С оружием баловать нельзя. Оно для страшного дела предназначено. Очень надо быть осмотрительным с ним. Никогда нельзя ружье в сторону людей и животных направлять. В животных и птиц – только на охоте. А на людей- нельзя. Вас, любопытных, в доме – не углядеть. Так что пусть оно в сундуке отдыхает, пока с тобой в лес не пойдем.
– А ведь на войне людей убивают?
– Убивают. Но, то на войне. И все равно – это грех страшный, беда… Нельзя людей убивать. Страшно это. Нельзя просто жизни никого лишать. Не нами дана, ни нам отбирать. На войне, внук, там враг. Помирать то никому не хочется. Но коли враг пришел тебя убивать, семью твою, что делать? Бить первым, если есть возможность, то лучше не насмерть, а чтоб победить только. А коли придется, то и до смерти. Зверя и птицу для забавы тоже губить плохо. Мы ж охотимся по необходимости, для пропитания, или для защиты. На войне тоже, приходится врага жизни лишать, защищаясь. Как бы ни было, грех это, плохо это. А, к сожалению, приходится.
– Дед, а тебе приходилось?
– Так, давай-ка, мешочки завязывать и в сундук складывать, дробь не перемешай. Она по размеру для разной дичи предназначена.
– Дед, а что это за железные горошины и цилиндрики? Это же не дробь.
– Это- картечь. Их по три-четыре штуки в патрон. Страшная штука, большого зверя насмерть валит. Кабана, медведя., лося… Картечи под стать только жаканы. Это – вон, видишь, большие катаные круглые пули и цилиндры с насечками. Ими по белке, зайцу можно конечно стрельнуть, только кушать нечего будет и от шкурки лохмотья останутся.
Так, за разговорами, хитро уходя от ненужных тем, Дед быстро все уложил в сундук, запер.
– Все, спать быстро. Завтра в лес идем.
Уже засыпая, подумал я, что не на все мои вопросы Дед ответил, но видно есть тому причины. То, что ответы я получу и очень быстро, я даже догадаться не мог. А- случилось. Представился тому случай.
Поутру, заправившись разваристой, томленой с вечера, гречневой кашей с маслом и парным молоком, пока Бабушка отправляла «наш молокозавод», пеструю корову Марию Васильевну, в общее деревенское стадо для выгула на пастбища, быстро мы собрались и отправились в путь-дорогу. На окраине деревни успели нагнать сонно идущее коровье сообщество. Только вот им вправо на луга, а нам влево- в леса. Пастух дядя Степан, с кавалеристской выправкой восседая на колхозном вороном мерине Буране, помахал нам, приветствуя, и рысью помчался в голову стада, убедившись, что его хвост переполз за околицу.
Если подумать, что мы с Дедом ходили в лес просто так, то – ошибиться по незнанию. Каждый поход приносил с собой в дом что-то: грибы, ягоды, зеленые молодые и старые коричнево-бурые шишки, пучки собранных Дедом трав для Бабушки, березовые ветки с набухшими бруньками или попозже с молодыми листочками и сережками, веточки малины с листьями и еще зеленоватыми неспелыми ягодами, орехи в шапочках с лещины, еловые и сосновые веточки с молодыми салатовыми еще побегами, цветущие одуванчики прямо с корешками, весенние ландыши, ароматные цветочки лесной липы, пастушья сумка (это растение такое, а не потерянная сумка пастуха Степана), лесная крапива, подорожник, лопух, репей в мешочке и на штанах, желуди из-под лесного дуба (бочоночки с шапочками, из которых мастерились чудные человечки), березовые, осиновые, дубовые, еловые, сосновые, кленовые и другие, увязанные сразу, Дедом веники, коряжки и причудливо изогнутые ветки, из которых мы с Дедом потом мастерили игрушки, поделки, дверные и мебельные ручки, все и не перечислить… Много что может дать лес, если лесовик добрый и разрешит. А на этот случай всегда у Деда в котомке большая холщовая сумка, или заранее корзинки с собой припасены.

