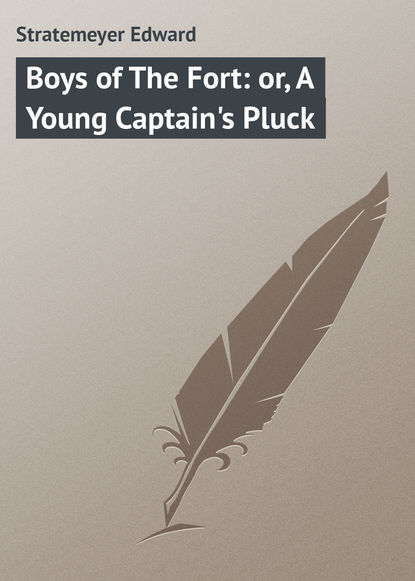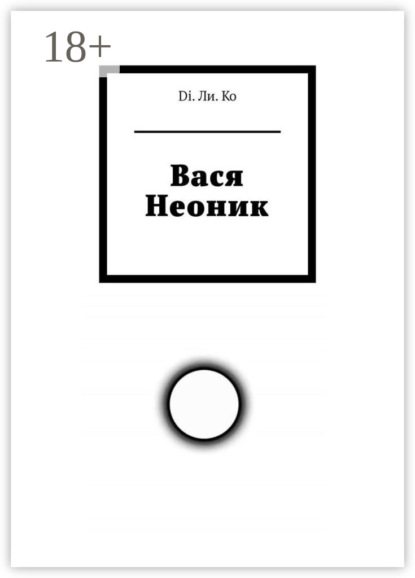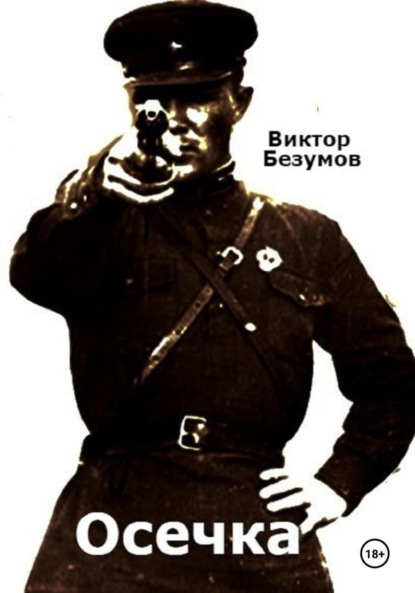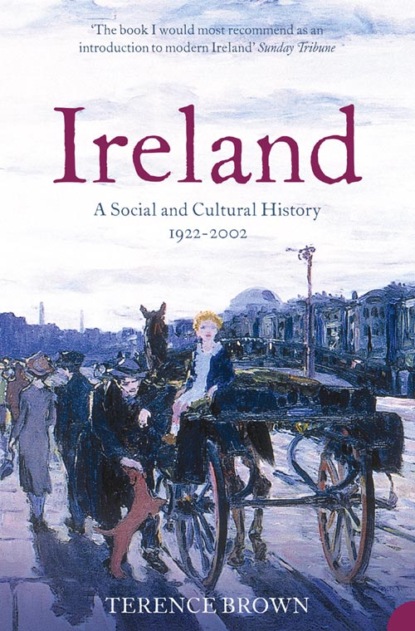Артиллерийское вооружение. Часть I. Минометы

Артиллерийское вооружение. Часть I. Минометы: исторический и технический контекст
Книга Юрия Ивановича Литвина посвящена глубокому анализу минометов как ключевого элемента артиллерийских систем. Автор прослеживает эволюцию этих орудий от первых примитивных конструкций до высокотехнологичных моделей XX века, делая акцент на их тактической роли, инженерных решениях и влиянии на ход военных конфликтов. Особое внимание уделяется взаимодействию технологических инноваций с требованиями поля боя — каждый этап развития минометов связан с попытками преодолеть ограничения предыдущих поколений.
Истоки: от древности к промышленной революции
Прародителями минометов Литвин называет метательные устройства античности — баллисты и катапульты, использовавшиеся для навесной стрельбы по укреплениям. Однако настоящий прорыв произошел в XV веке с появлением мортир — короткоствольных орудий, стрелявших каменными ядрами под большими углами. Их недостатки, включая низкую мобильность и долгую перезарядку, сохранялись до Крымской войны (1853–1856), где русские войска применили чугунные «бомбовые мортиры» для разрушения укреплений Севастополя. Эти опыты доказали эффективность навесного огня против укрытой пехоты, но отсутствие стандартизации сдерживало развитие класса.
Рождение современного миномета: Русско-японская война и инженерная мысль
Переломным моментом стала осада Порт-Артура в 1904–1905 годах. Капитан Леонид Гобято, столкнувшись с необходимостью поражать японские окопы на обратных скатах высот, создал первое орудие, объединившее черты мины и артиллерийского снаряда. Его «бомбомет» из обрезанной 47-мм морской пушки стрелял надкалиберными снарядами с крыльями-стабилизаторами — прообразом современных оперенных мин. Несмотря на кустарное производство, система показала КПД, заставивший военных пересмотреть доктрины.
Параллельно в Германии инженер Вильгельм Шуман разрабатывал минометы с газодинамическим принципом запуска, но бюрократические препоны затормозили внедрение. Литвин подчеркивает: именно практический опыт окопных боев, а не теоретические изыскания, стал катализатором прогресса. К началу Первой мировой минометы уже входили в арсенал ведущих держав, но их конструкции оставались разнородными — от импровизированных «окопных бомбометов» до серийных моделей вроде французского «58 T N°1» с поворотным лафетом.
Стандартизация и массовое производство: межвоенный период
1920–1930-е годы автор называет «эпохой триумфа минометной доктрины». Красная Армия, анализируя опыт Гражданской войны, сделала ставку на мобильные минометные расчеты как основу поддержки пехоты. Конструктор Борис Шавырин создал серию батальонных минометов калибра 50–120 мм, где впервые реализовал идею мнимого треугольника — жесткого соединения ствола, опорной плиты и двуноги-лафета. Это обеспечило быстрое развертывание и высокую точность. Немцы, ограниченные Версальским договором, тайно отрабатывали минометы в СССР на полигоне «Кама», что позже позволило им создать мощные системы вроде 8 cm Granatwerfer 34.
Отдельная глава посвящена японским экспериментом с минометами-гигантами, такими как 98-см Тип 98 «Осу» для разрушения укреплений линии Барлева. Хотя эти монстры оказались непрактичными, они продемонстрировали пределы роста калибров. Литвин детально разбирает компромиссы между массой, дальнобойностью и разрушительной силой, приводя расчеты оптимальных углов возвышения (45–85 градусов) и давления газов в стволе.
Вторая мировая: эволюция тактики и технологий
Великая Отечественная война стала «звездным часом» минометов. Советские 82-мм и 120-мм модели составляли до 70% артпарка стрелковых дивизий. Автор приводит статистику: залп шести 120-мм полковых минометов за минуту выстреливал 720 кг взрывчатки, превосходя по плотности огня гаубичные батареи. Но рост темпов операций потребовал новых решений — минометы на самоходных шасси (немецкие «Грилле»), устройства быстрого заряжания, корректируемые мины с крыльями (опытный образец «Грач» КБ-47).
Интересный эпизод — применение «хибинских минометов» в Заполярье: легкие 50-мм системы перевозились на оленьих упряжках, обеспечивая мобильную поддержку в условиях бездорожья. Литвин не избегает и критики: массовое производство в ущерб качеству приводило к дефектам стволов, а отсутствие прицелов ночного видения снижало эффективность в зимних боях.
Холодная война: автоматизация и новые материалы
После 1945 года развитие минометов пошло по пути унификации с артиллерией. Советский 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» (1975) мог стрелять ядерными боеприпасами, превратившись из тактического в стратегическое оружие. Израильские войска в Ливане (1982) продемонстрировали эффективность компьютерных систем управления огнем, интегрированных в минометные батареи. Литвин подробно разбирает французский MO-120 RT — первый миномет с нарезным стволом и донным газогенератором, позволившим использовать активно-реактивные снаряды с дальностью до 13 км.
Особое место занимает анализ российских разработок 1990-х — дуплекс «Поднос-К» (миномет + ПТРК на едином шасси) и цифровые системы целеуказания «Капустник-М». Автор предупреждает: переход на высокотехнологичные модели требует пересмотра подготовки расчетов — современный наводчик должен владеть электроникой на уровне оператора РЛС.
Конструктивные особенности: от ствола до боеприпасов
В технических главах Литвин детализирует компоненты минометов. Стволы гладкоствольных систем изготавливаются из легированной стали 30ХГСА с хромовым покрытием, увеличивающим ресурс до 10 000 выстрелов. Опорная плита, воспринимающая силу отдачи, в моделях М-160 имеет ксилолитовый амортизатор, гасящий колебания. Автор объясняет принцип «свободного затвора»: мина, скользящая по стволу под собственным весом, инициирует выстрел при ударе капсюля о неподвижный боек — это исключает необходимость механизма замка.
Боеприпасам посвящен отдельный раздел: осколочные мины с готовыми поражающими элементами (типа 53-О-832А), кассетные (9M55K4 с 24 суббоеприпасами), корректируемые «Краснополь-М2» с лазерным наведением. Подчеркивается роль пороховых зарядов — добавление нитроглицериновых гранул в шашки ГУ-1 позволяет регулировать дальность без смены угла возвышения.
Тактика и стратегия: уроки локальных конфликтов
На примере Афганской войны (1979–1989) Литвин показывает ограничения минометов в горной местности: разреженный воздух снижал дальность на 15–20%, а термическая деформация стволов вела к рассеиванию мин. Ответом стали системы принудительного охлаждения и мины с раскладным оперением. В Чечне (1994–1996) минометы стали оружием террора — самодельные «муравьеды» из газовых труб обстреливали города, что потребовало разработки контрбатарейных радаров типа «Зоопарк-1».
Современные доктрины, как отмечает автор, рассматривают минометы как часть сетцентрических систем. Американский M326 MCCMS интегрирован в тактическую сеть FBCB2, получая целеуказания от дронов-разведчиков. Однако Литвин предостерегает от чрезмерной автоматизации: в сирийской кампании (2015–2018) расчеты ВКС России успешно использовали устаревшие М-160, корректируя огонь через планшеты с GLONASS-навигацией — синтез традиционных технологий и цифровизации.
Перспективы: лазеры, дроны и гиперзвук
В заключительных главах обсуждаются эксперименты с электромагнитными минометами, использующими рельсотронный принцип разгона снаряда. Проблема — огромное энергопотребление, делающее системы стационарными. Более реалистичными автор считает «умные» мины с ИИ-наведением, подобные израильскому Fire Weaver, и рои дронов-корректировщиков. Отдельно упомянут гиперзвуковой минометный снаряд Mach-5, испытания которого в 2021 году показали возможность поражения целей на 150 км — но стоимость одного выстрела превышает $500 000, ставя под вопрос массовое внедрение.