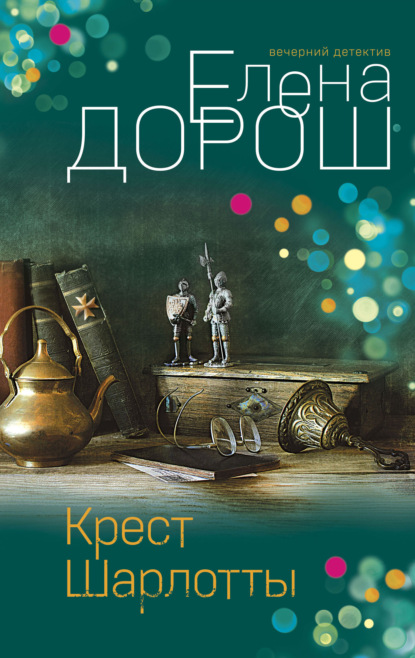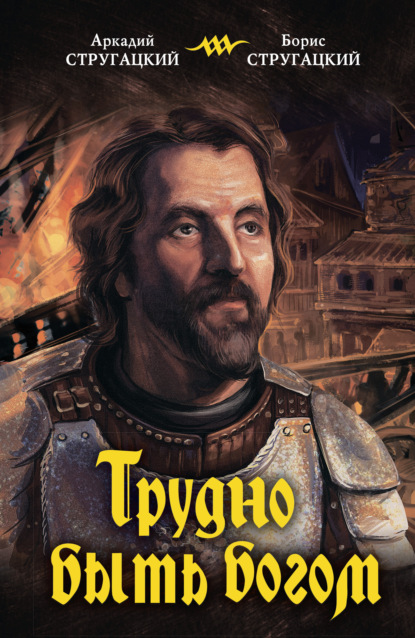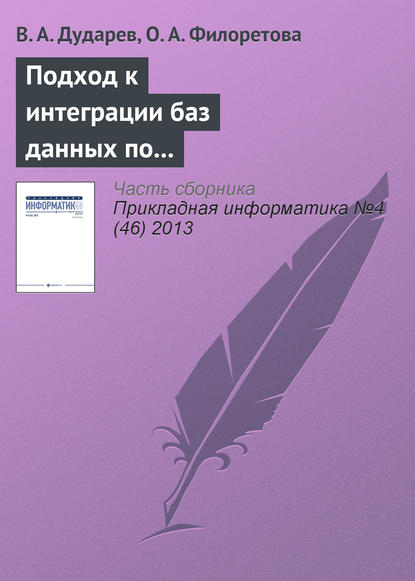Клиническая психология. Академический курс лекций
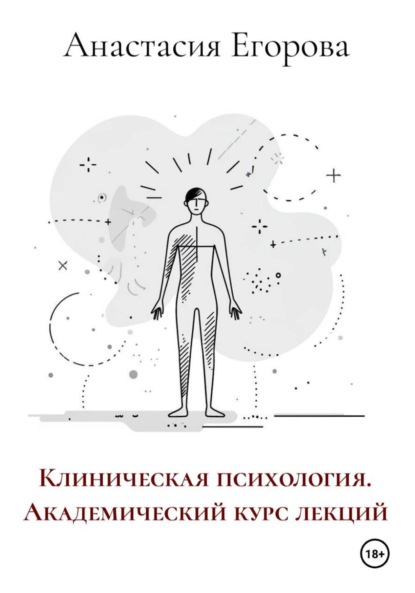
- -
- 100%
- +
Оценка рисков: специалист проводит оценку уровня суицидального риска и степени тяжести самоповреждающего поведения. Выясняется частота, способы и цели самоповреждений.
Информирование о пределах конфиденциальности: психолог четко и деликатно объясняет подростку пределы конфиденциальности. Подчеркивается, что информация о насилии над несовершеннолетним, согласно законодательству, не может оставаться конфиденциальной и подлежит передаче в органы опеки и попечительства для защиты прав и жизни ребёнка.
Мотивация на раскрытие информации: специалист мягко мотивирует подростка дать согласие на обращение в соответствующие органы, объясняя, что это необходимый шаг для прекращения насилия и обеспечения его безопасности.
Информирование органов: в случае согласия подростка или при наличии непосредственной угрозы жизни и здоровью (тяжелые формы насилия), психолог осуществляет звонок в органы опеки и полицию. Действия координируются с внутренним регламентом учреждения.
Разработка плана безопасности: совместно с подростком разрабатывается план экстренной психологической помощи и безопасности, который включает техники саморегуляции, список телефонов доверия и алгоритм действий в момент острого желания нанести себе повреждения.
Кейс 2: Суицидальный абонент на линии телефонного консультирования
Ситуация: На телефон доверия звонит анонимный абонент и сообщает о своем твердом намерении совершить суицид сразу после окончания разговора. Местоположение и личные данные абонента неизвестны.
Алгоритм действий психолога горячей линии:
Немедленная фокусировка на кризисе: Психолог признает серьезность намерений абонента, не преуменьшая их значимость. Задача – удержать абонента на линии любыми средствами.
Установление эмоционального контакта и активное слушание: Специалист проявляет максимальную эмпатию, пытаясь выяснить причины такого решения и давая возможность абоненту выговориться. Важно показать, что его слышат и понимают.
Прямой вопрос о суицидальном плане: Психолог задает прямые, но тактичные вопросы: «Расскажите, что именно Вы планируете сделать?», «Есть ли рядом с Вами кто-то, кто мог бы помочь?».
Мобилизация ресурсов и поиск альтернатив: Специалист пытается найти «ниточку» к жизни: вспомнить о значимых близких, отложить выполнение плана («Давайте договоримся, что Вы ничего не будете делать, пока мы разговариваем»), предложить немедленно вызвать ему скорую помощь.
Попытка идентификации локации: Мягко и ненавязчиво психолог пытается выяснить адрес или местонахождение: «Для того чтобы Вам помочь, мне нужно знать, где Вы находитесь. Вы можете назвать мне свой адрес?».
Эскалация ситуации и привлечение экстренных служб: Если абонент назвал адрес или его удалось идентифицировать по косвенным признакам (звукам, упоминаниям), психолог, не прерывая разговора, передает коллеге информацию для экстренного вызова полиции и скорой помощи. Если связь прервалась, предпринимаются попытки перезвонить.
Кейс 3: Обращение мужчины с амнезией на фоне возможного участия в тяжком преступлении
Ситуация: Мужчина, руководитель строительной бригады, обращается с запросом на прояснение обстоятельств. После совместного распития алкоголя с подчиненными, между ними и незнакомым мужчиной произошел конфликт. У клиента наблюдается амнезия на события вечера. На утро участковый сообщил, что неподалёку было найдено тело незнакомца со следами насильственной смерти. Клиент хочет выяснить, участвовал ли он в убийстве и последующем расчленении. Предварительная гипотеза психолога: корсаковский синдром.
Алгоритм действий клинического психолога:
Четкое определение профессиональных границ: психолог сразу информирует клиента, что его профессиональная компетенция заключается в оценке и восстановлении психических функций (памяти, мышления), но не в установлении факта совершения преступления. Подчеркивается, что специалист не является следователем или судьей.
Оценка психического статуса: проводится первичная диагностика для выявления симптомов, характерных для корсаковского синдрома (фиксационная амнезия, конфабуляции, дезориентация) или других органических и токсических (алкогольных) расстройств.
Этическая и юридическая дилемма: специалист оказывается перед сложным выбором. С одной стороны, сохраняется конфиденциальность. С другой – известно о возможном тяжком преступлении. Действия психолога должны строго регламентироваться внутренними инструкциями учреждения и нормами закона. В подобной ситуации психолог обязан проконсультироваться с юридической службой.
Рекомендация обратиться в правоохранительные органы: основной рекомендацией клиенту должно стать немедленное обращение в полицию для дачи показаний и прохождения судебно-психологической и психиатрической экспертизы в установленном законом порядке. Психолог разъясняет, что только экспертиза в рамках уголовного дела может правомерно оценить его состояние и степень ответственности.
Отказ от непрофильных действий: клинический психолог воздерживается от любых попыток восстановить память гипнотическими или другими методами, так как это может исказить потенциальные доказательства и неприемлемо с юридической точки зрения. Работа фокусируется на объяснении клинику его текущего состояния и необходимости следования букве закона.
Современные методы исследования в клинической психологии
Методы общей и клинической психологии во многом совпадают, поскольку такие методики, как исследование памяти, внимания, мышления и типа личности, применяются как в «здоровой», так и в «больной» популяции. При этом «здоровая» группа часто используется в качестве эталона для сравнения.
Ряд методов был разработан специально для нужд клинической психологии и внедрен, в частности, в Санкт-Петербургском психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева. К ним относятся:
– ЛОБИ (личностный опросник бехтеревского института): предназначен для исследования самочувствия пациентов, их отношения к болезни, лечению, медицинскому персоналу, семье и другим значимым аспектам;
– ПДО (патохарактерологический диагностический опросник): используется для исследования типа личности подростков, выявления акцентуаций характера, аномалий и склонности к девиантному поведению.
Существуют методы, доступные для применения только психологом или психотерапевтом. Однако простые диагностические методики могут использоваться и средним медицинским персоналом, чаще по поручению врача. Такой специалист может проводить диагностику отдельных когнитивных функций (память, внимание, мышление) и некоторых личностных свойств (темперамент, самооценка, уровень тревожности), используя для этого несложные инструменты.
В современной практике большинство методик, используемых в клинической психологии, компьютеризированы, а подсчёт результатов автоматизирован. Несмотря на это, клинические психологи обязаны понимать и уметь применять «ручные» методы работы с бланками, знать их содержательное наполнение и принципы интерпретации.
С точки зрения клинических психологов, методологическую основу дисциплины, по классификации В. Д. Менделевича, составляют три основные группы методов:
Клиническое интервьюирование.
Экспериментально-психологические методы исследования (психологические эксперименты).
Методы оценки эффективности психокоррекционного и психотерапевтического воздействия.
Особое место занимает психодиагностика, без которой практическая деятельность клинического психолога невозможна. Отсутствие психодиагностической работы в практике означает, что специалист не занимается клинической психологией в её полном объёме.
Основными методами в практике клинического психолога являются: клиническое интервьюирование, экспериментально-психологические методы и проективные методы.
1. Клиническое интервьюирование
Данный метод, ранее известный как «метод беседы» или «наблюдения», является неотъемлемой частью диагностического процесса. Его цель – прояснение проблем пациента, изучение его отношения к заболеванию (внутренней картины болезни) и составление плана психотерапевтической помощи.
Важной задачей первого интервью является оценка фрустрационной толерантности – способности человека переносить состояние фрустрации (переживания непреодолимых трудностей, «потолка» в достижении целей) без нарушения психологической и социальной адаптации. Низкая фрустрационная толерантность проявляется, например, когда человек при первых признаках не тяжелого заболевания впадает в панику, забрасывает свои обязанности и полностью погружается в переживания. Ярким примером высокой толерантности является поведение А. П. Чехова, который, будучи неизлечимо болен туберкулезом, в последние годы жизни создал выдающиеся литературные произведения, поддерживал социальные контакты и не поддавался депрессии, несмотря на осознание неизбежного конца.
Критерием успешного клинического интервью является достижение максимальной доверительности. Для этого используются адекватные вербальные и невербальные техники общения, среди которых ключевое место занимает установление раппорта – особой доверительной связи. Раппорт устанавливается деликатно, с соблюдением профессиональной дистанции (около 1,5 метров, что соответствует социальной зоне общения).
На процесс взаимодействия влияют:
– дистанция (выделяют интимную, личную, социальную и публичную зоны; нарушение границ вызывает дискомфорт);
– взаимное расположение (позиция напротив друг друга без стола способствует доверию, тогда как расположение напротив за столом может провоцировать конфликт);
– особенности обстановки (расположение мебели, время суток, продолжительность беседы).
Клинический психолог должен контролировать мягкость голоса, собственные жесты и избегать прямых, некорректных вопросов («Бывают ли у вас галлюцинации?»). Последовательность вопросов эффективна при следовании предварительной схеме, а частые одобрения пациента способствуют углублению контакта.
Если в один день планируется и интервью, и тестирование, то беседа делится на две части: до и после эксперимента. По окончании интервью важно выяснить, получил ли пациент какую-либо степень помощи и стало ли ему легче.
В процессе интервью клинический психолог ведет постоянное наблюдение за мимикой, интонациями и реакциями пациента, осуществляя своего рода профессиональный «профайлинг» или верификацию эмоций. Эта работа требует высокой концентрации и энергозатрат, несмотря на внешнюю раскованность специалиста.
2. Экспериментально-психологические методы
Эта группа методов чрезвычайно разнообразна и включает тестовые задания, опросники, проективные методики и психофизиологические исследования. Диагностика может быть направлена как на оценку отдельных психических функций, так и на изучение индивидуально-личностных свойств.
Психометрические методы: используются для исследования интеллекта (например, тест Векслера) и представляют собой сложные, стандартизированные инструменты, применимые только клиническими психологами или психиатрами.
Психофизиологические исследования: проводятся в тандеме с поведенческими экспериментами и включают измерение кожно-гальванической реакции, сердечного ритма, ЭЭГ в ответ на специфические триггеры (например, у пациентов с ПТСР).
Процесс психодиагностики должен быть огражден от случайных влияний. Нельзя, например, проводить тест на тревожность с пациентом, страдающим социофобией, в людном коридоре, так как это исказит результаты. Результаты чётко классифицируются на норму, пограничное состояние и патологию (например, в тесте Эббингауза на запоминание 10 слов здоровые люди воспроизводят их все после 5-7 повторений).
Опросники делятся на:
– закрытые, которые предполагают выбор из ограниченного числа вариантов («да/нет», «скорее да/скорее нет», шкалы от 1 до 4). Примеры: тест Леонгарда-Шмишека, опросник Айзенка;
– открытые, которые позволяют давать свободные ответы. Пример: методика исследования уровня притязаний, где испытуемого просят назвать как можно больше имён, городов и т.д.
3. Проективные методы
При использовании проективных методик (тест Роршаха, метод незаконченных предложений) испытуемому предъявляется неопределённый стимульный материал, который он должен дополнить, развить или интерпретировать. Эти методы позволяют получить обобщенную оценку неосознаваемых побуждений, внутриличностных конфликтов, механизмов психологической защиты. С их помощью можно оценить, например, тип реакции на фрустрацию:
– экстрапунитивная: направленность вовне, обвинение окружающих.
– интрапунитивная: направленность на себя, самообвинение (аутоагрессия).
– импунитивная: оценка ситуации как малозначимой.
Проективные методы отличаются высокой сложностью и неоднозначностью интерпретации, поэтому их применение требует от клинического психолога значительного опыта и квалификации. Начинающим специалистам не рекомендуется опираться исключительно на эти методики, так как ошибка в интерпретации может иметь серьёзные последствия при работе с пограничными расстройствами личности, аддикциями и другими сложными состояниями.
В клинической практике проективные методы не могут выступать в качестве основных и используются только в комплексе с другими диагностическими инструментами.
После проведения курса психокоррекции или психотерапии клинические психологи оценивают эффективность предпринятых мероприятий. С этой целью Б.Д. Карвасарским были разработаны специальные шкалы, позволяющие специалисту оценить:
Степень симптоматического улучшения у пациента.
Уровень осознания психологических механизмов болезни.
Динамику изменения нарушенных отношений личности.
Степень улучшения социального функционирования.
Для оценки эффективности терапии, как правило, применяется широкий спектр инструментов, включая методы исследования памяти, шкалы для оценки тревожности и другие стандартизированные методики.
Клиническая психология является доказательной научной дисциплиной и несовместима с такими областями, как парапсихология или экстрасенсорика. Несмотря на то, что в арсенале клинического психолога присутствуют суггестивные техники (например, аутогенная тренировка или клинический гипноз), их применение требует наличия соответствующего диплома и специализированного сертификата. Грамотный клинический психолог или нейропсихолог обязан предостерегать пациентов и их семьи от обращения к псевдоспециалистам, аргументируя свою позицию данными доказательной медицины.
От специалиста в области клинической психологии требуется максимально рациональное мышление и высокая компетентность. Например, при работе с пациентом с параноидной акцентуацией личности любое неверное упоминание или косвенное одобрение практик, связанных с гаданием или экстрасенсорикой, может спровоцировать манифестацию параноидной шизофрении.
Сфера деятельности клинического психолога чрезвычайно широка и включает нейропсихологию, патопсихологию, семейную психотерапию, работу с сексуальными аддикциями, посттравматическими расстройствами, аномалиями развития и психосоматическими заболеваниями. Профессиональная деятельность не ограничивается интервьюированием и психодиагностикой; она также encompasses ведение тренинговых программ, обязательную супервизию или интервизию, а также постоянную личную терапию.
Личная терапия рассматривается как необходимое условие для поддержания психического здоровья самого психолога, формирования здоровой самооценки и профилактики профессионального выгорания. Она позволяет специалисту адекватно оценивать клинические случаи, не проецируя на них собственные нерешенные проблемы.
Супервизия является важнейшим элементом профессионального роста, особенно для начинающих клинических психологов. Она предоставляет возможность разбора сложных случаев под руководством более опытного коллеги, что способствует повышению квалификации и предотвращению ошибок. При этом существуют различные форматы получения супервизионной поддержки, от индивидуальной работы до более доступных по стоимости интервизионных групп.
Отдельное место в структуре клинической психологии занимает патопсихология – отрасль, изучающая закономерности распада психической деятельности и свойств личности в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания психических процессов в норме. Термин был введён В.М. Бехтеревым в 1903 году.
Патопсихология, как часть клинической психологии
Основоположником отечественной патопсихологии является Б.В. Зейгарник – ученица известного немецкого психолога К. Левина. Ей принадлежит открытие так называемого эффекта Зейгарник, который заключается в том, что человек лучше запоминает прерванные действия, чем завершенные. Это явление концептуально близко к популярному понятию «незакрытый гештальт». Б. В. Зейгарник разработала теоретические основы патопсихологии, описала расстройства психических процессов и сформулировала принципы работы патопсихолога, которые были продолжены её последователями (Ю. Ф. Поляковым, С. Я. Рубинштейн, Б. С. Братусем и др.).
В то время как клиническая психопатология выявляет и систематизирует проявления нарушенных психических функций, патопсихология раскрывает характер протекания и особенности структуры психических процессов, приводящих к наблюдаемым расстройствам. Несмотря на первоначальную тесную связь с психиатрией, методы патопсихологии сегодня нашли применение и в общесоматических клиниках.
Ключевыми понятиями в патопсихологии являются симптом, как отдельный признак патологического состояния и синдром, который является закономерным сочетанием симптомов, объединенных общим механизмом возникновения. Синдромальная диагностика обладает большей специфичностью и ценностью, так как один и тот же симптом, например, галлюцинации, может наблюдаться при различных заболеваниях, таких как: отравления, депривация сна, тревожные расстройства, в то время как синдром представляет собой более определенную картину.
Патопсихологический синдром включает в себя не только признаки нарушений, но и сохранные стороны психической деятельности, что позволяет сформулировать функциональный диагноз. Этот диагноз отражает динамическую характеристику состояния индивида, его связи с социальной средой и потенциал компенсации нарушений. Патопсихологическое исследование особенно ценно при отсутствии четких клинических критериев, для оценки динамики состояния и эффективности лечения.
Клинический психолог не правомочен выставлять медицинские диагнозы, но формулирует психологический диагноз, например: «задержка психического развития». Заключение, составляемое специалистом, служит основой для взаимодействия с другими профессионалами: психиатрами, неврологами, дефектологами.
Психологическое заключение, предоставляемое по запросу пациента или при необходимости направления к смежному специалисту, должно включать:
– результаты диагностики и клинического интервью;
– гипотезу, объясняющую причины возникших нарушений;
– конкретные рекомендации и предпринятые психокоррекционные меры.
Эта информация помогает лечащему врачу определить наиболее адекватную тактику дальнейшего ведения пациента, делая сотрудничество между психологом и врачом максимально продуктивным.
Клинические психологи и нейропсихологи принимают участие в различных видах экспертиз: врачебно-трудовой, военно-врачебной, медико-педагогической, судебно-психиатрической. Результаты обследования, проведенного клиническим психологом, в судебной практике могут выступать в качестве самостоятельного вида доказательств.
Специалисты в области клинической психологии (клинические психологи, нейропсихологи, патопсихологи) активно участвуют в реабилитации больных и психокоррекционной работе. Реабилитационный процесс интегрирует фармакобиологические средства, психосоциальные методы лечения, а также мероприятия, направленные на оптимизацию социального окружения и внешних условий адаптации личности.
В геронтологических центрах работа клинического психолога, нейропсихолога или патопсихолога является необходимостью, поскольку восстановление пациентов после инсультов, инфарктов, повреждений мозга и нейрохирургических вмешательств в значительной степени зависит не только от медикаментозного сопровождения, но и от грамотно разработанной психокоррекции, психореабилитации и психотерапии.
Разграничение психотерапии, психокоррекции и реабилитации
С точки зрения клинической психологии, важно различать смежные понятия.
Так, психотерапия (в переводе с древнегреческого – «лечение души») представляет собой глубокий анализ проблем клиента с ориентацией на бессознательные процессы и структурную перестройку личности. Её лечебное воздействие направлено не на психику изолированно, а через психику – на весь человеческий организм. Психотерапия способствует разрешению эмоциональных, поведенческих и межличностных проблем, а ее конечной целью является изменение мировоззрения и улучшение качества жизни.
Психокоррекция (означающая «исправление») – это комплекс методик, направленных на исправление недостатков психологии или поведения человека, не имеющих органической основы. Психокоррекция повышает гибкость и адаптивность психики. Ключевое отличие от психотерапии заключается в том, что психокоррекция не ставит целью изменение структуры личности и может быть эффективной даже без полного осознания клиентом своих проблем. Если психотерапия воздействует на внутренний мир и мировоззрение, то психокоррекция фокусируется на устранении конкретных недостатков в развитии психики или поведенческих паттернах.
Реабилитация занимается возвращением лиц, перенесших психические или соматические расстройства, в общественную и профессиональную жизнь. На этой стадии речь идет о третичной профилактике.
Реабилитацию нельзя свести к одному-двум методам воздействия (например, психотерапии или трудотерапии) или описывать только через конечную цель (бытовое или трудовое устройство). Согласно системному подходу, реабилитация представляет собой динамическую систему взаимосвязанных компонентов, являясь одновременно и методом, и целью.
Концепция реабилитации, предложенная М. М. Кабановым и реализованная в клиниках Ленинградского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, имеет свою историю. Возникнув в середине 1920-х годов из идей «физической медицины», она обогатилась достижениями медицинской психологии, медицинской педагогики и медицинской социологии, сформировавшись на базе принципов нестеснения и социальной терапии.
Многие ошибочно сводят реабилитацию к «долечиванию» или использованию остаточной трудоспособности, что неправомерно сужает это сложное понятие. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, реабилитация понимается как третичная профилактика (где первичная – это профилактика в собственном смысле, а вторичная – лечение). Реабилитация – это, прежде всего, принципиально иной подход к больному человеку.
Современная концепция реабилитации предусматривает комплексный, интегральный подход к пациенту, учитывающий не только клинико-биологические особенности заболевания, но и личностные характеристики, а также факторы окружающей среды. Цель реабилитации состоит в восстановлении личного и социального статуса пациента вне зависимости от нозологии (будь то невроз, шизофрения, инфаркт миокарда или нарушения опорно-двигательного аппарата).
Диагностический инструментарий подбирается клиническим психологом индивидуально, в зависимости от поставленной задачи. Специалист находится в рамках профессионального стандарта, но несёт ответственность за методологический выбор.
Опытные клинические психологи (со стажем более 10 лет) обладают правом методической адаптации: они могут применять стандартизированные методы в нестандартизированном варианте для качественного анализа особенностей психической деятельности, если это оправдано диагностическими целями и профессиональным опытом.
Помимо патопсихологических методов, для решения диагностических задач, особенно в неврологии, нейрохирyргии и детской практике, применяются нейропсихологические методы. Они направлены на исследование особенностей речи, зрительного, слухового и тактильного гнозиса, а также позволяют выявить специфику нарушений кратковременной и долговременной памяти, в том числе с преобладанием патологии определенной модальности (зрительной, тактильной, слуховой). Наиболее распространены нестандартизированные варианты нейропсихологических методов, хотя применяются и стандартизированные, такие как диагностика по Л. И. Вассерману.
С точки зрения клинических психологов, при выборе психологического метода необходимо руководствоваться следующими принципами:
Цель исследования. Если целью является дифференциальная диагностика, определение глубины психического дефекта или изучение эффективности терапии, выбор метода определяется особенностями предполагаемого нарушения. Например, при подозрении на расстройство мышления клинический психолог выберет не тест Роршаха, а метод пиктограмм А. Р. Лурии, который позволяет выявить проблемы в мыслительной деятельности и оценить опосредованное запоминание.