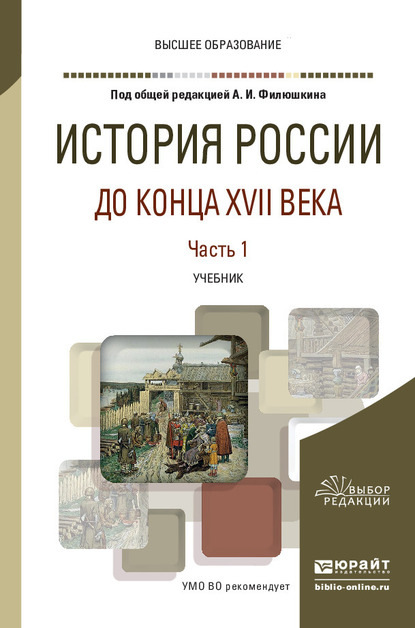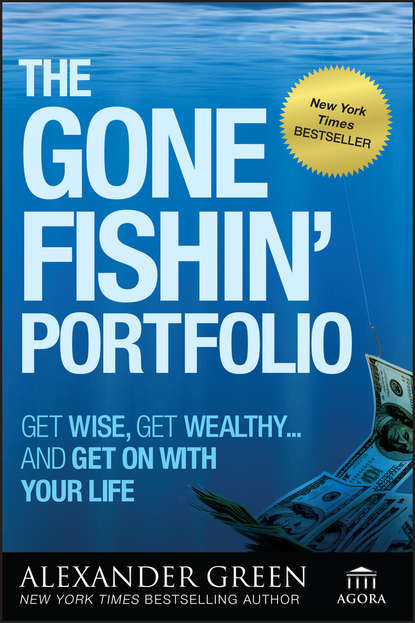- -
- 100%
- +

I
«Драная собака, драная собака, иди отсюда!», – кричат дети во дворе.
Драной и иногда ободранной собакой они называют Мелиссу. Аллергия разъедает ее тело. Кожа покрывается твердыми темно-бордовыми корочками, а потом скатывается или обдирается Мелиссиными руками из-за раздражительной чесотки, оставляя за собой живые, сочащиеся красные рубцы.
На крики Мелисса не отзывается, она молчит, и в ее молчании больше слов, чем в возгласах детей. Девочка тихо и медленно шаркает ногами по хрустящим листьям в сквере. Шуршания успокаивают ее.
В доме Мелиссы, высоком и многоквартирном, проживают разные люди. Соседка Зина, женщина семидесяти лет, по воскресеньям встречается на рынке с Риммой, бабушкой Мелиссы. Мать Мелиссы, Клара, утром с понедельника по пятницу идет на автобусную остановку с матерями Сони, Ксении и Алеши, с которыми она училась в одной школе. Председатель дома, баба Тома, чей сын ругается с Иннокентием, отчимом Мелиссы, в конце каждого месяца ходит с зеленой тетрадкой по квартирам и записывает показания счетчиков горячей и холодной воды. Нет в этом доме человека, которого бы не знали и который бы не знал квартиру номер сорок на пятом этаже второго подъезда, где живет больная семья больной Мелиссы.
«Мелисса, поднимайся, морковный сок!», – кричит с балкона бабушка. Каждый день Мелиссе необходимо, помимо звуков природы, впитывать стакан раздавленной соковыжималкой «Журавинка» морковки. От рыжего корнеплода кожа девочки желтеет и пахнет загаром. Однако морковный сок менее отвратителен ей, чем печенья из цветной капусты, которые в нее впихивает мама. Мелисса давится ими каждую субботу, потому что капуста не вызывает аллергии. Но сегодня ей было так нестерпимо, что она заперлась в ванне и не выходила, пока отчим не отпер дверь. Мелисса молча водила пальцем по переводным картинкам, кусками сохранившимся на стенах комнаты, пытаясь отодрать их, как те корочки, что покрывали ее лицо. Глаза Мелиссы опухли и покраснели от обиды и непонимания, почему там, во дворе, бегают дети, чья кожа не морщится, хотя они жрут все, даже недавно завезённые в Россию “Snickers” и “Mars”.
– Опять начинается?! – буркнул отчим, чья фигура снизу выглядела еще устрашающе.
Она не смогла ничего ответить и заплакала – детский, скрипучий визг бессилия и отчаяния. Этот дядя, неродной отец, раздражал Мелиссу, раздражали и их ночные стоны с матерью, которые протискивались сквозь нетолстые хрущевские стены и нарушали детский сон. С годами Мелисса научилась сосредотачиваться на внутренней музыке, которую она слышала в моменты тревоги. Эта музыка начинала играть, когда ей хотелось уйти от действительности и убежать в то будущее, которое она сладко воображала.
Будни Мелиссы были размеренны. Школа, художественная школа, музыкальная школа, дневной поход в водолечебницу, уроки и вечерние одинокие гуляния, во время которых Мелисса подолгу следила за бегающими в ряд муравьями. Жуки тоже приковывали ее внимание. Она наслаждалась синим переливом их жестких спинок, а потом медленно давила насекомых.
Природа увлекала девочку, но как только Мелисса сливалась с ней, так сразу она просыпалась из-за режущего крика: «Мелисса, морковный сок!». И пока морковка разливалась по ее телу, в дверной замок медленно заползал ключ, скребся об тесные стенки, нехотя щелкал несколько раз об засечки и также нехотя наконец открывал дверь. Коридор наполнялся запахом чего-то родного и доброго и иногда перебивался амбре лака для волос, от которого веело дешевой сладостью. Клара, мать Мелиссы, почти всегда приходила домой с работы в семь вечера, ставила в коридоре большие черные пакеты, и неспешно разувалась.
– М-а-а-м, – тянула Мелисса, не оборачиваясь и продолжая пить сок расчлененной морковки. Мелисса никогда не бежала встречать Клару, особенно в те моменты, когда ей приходилось давиться ненавистной рыжей подругой.
– Да, дочь? – устало отвечала мать, протягивая змейку молнии правой туфли.
– А ты родишь мне кого-нибудь? – спрашивала Мелисса, – ну хотя бы котеночка?
На кошачью и собачью шерсть у Мелиссы тоже аллергия, как и на пыль, прямые солнечные лучи, сахар и воду. Последнее ее радовало, поскольку никто не заставлял мыть посуду. От долгого нахождения в воде на руках девочки появлялись красные пупырчатые бисеринки.
– Мелисса, мы это уже обсуждали! Ты ела сегодня?
– Нет, – обернулась Мелисса, – не ела!
– Почему? Завтрак должен быть питательным! И обед! – удивилась мама.
– Завтрак никому ничего не должен! И обед! – крикнула девочка, уходя в свою комнату.
Своей комнаты у Мелиссы не было, она делила ее с бабушкой. Квартира трёхкомнатная, но воздуха все равно не хватало – в гостиной испарялся умирающий пьющий дед Игорь.
Запах немытого деда стоял в доме долго. Он прописался в квартире сорок. Он – тоже член их семьи. Этот запах сначала походил на слепого котенка, о котором мечтала Мелисса, а потом перерос в жирного кота, расхаживающего по комнатам и нагло цепляющегося когтями за занавески. Этот «запахкот» терся спиной и хвостом об дряхлые кресла и верхнюю одежду, висевшую в метровой прихожей. Запах дышал чем-то краденным – спертым, сырым, пыльным, старым, резко потным, испражнененным, еле мертвым, едва живым. Он въедался не только в детский комбинезончик Мелиссы, но и успевал выспаться на ее волосах. И как бы она их ни мыла, запахкот все равно приходил, цеплялся лапами за ее черные кудряшки и засыпал, горячо дыша на макушку.
А вот деда Игоря, в отличие от его запахкота, в доме никто не замечал. Он был мельче своего шлейфа. Игорь либо спал, либо ел, либо спал, ел и пил в гаражах, где его находила жена Римма. Игоря трезвым почти не заставали. Пробояршным он был уже с утра. Дед развязался после смерти своей мамы, бабы Кати. На похоронах друзья уговаривали его: «Игорь, ну выпей, мать ведь! За мать нужно». Удостоив покойную стопкой, он удостоил себя до конца жизни быть мертвоживым или живомертвым.
Весь дом ежедневно видел спитого Игоря, который когда-то этот дом строил, который когда-то водил двадцать первую волгу и катер, работал на железной дороге и забирал дочь Клару из школы.
Дворовые дети тоже знали, чья Мелисса внучка и потому дразнили ее еще больше, а их родители были довольны, что сыновья и дочери не общаются с той больной из сороковой.
Отчаяние, которое поначалу и разъедало Мелиссу, стало привычным и системным ее настроением, и потому на обиды девочка реагировала слабо. Сильно она реагировала, когда Клара развелась с ее папой Левой. Мелиссе тогда было три. Сильно она реагировала, когда Клара после развода переехала с ней в квартиру стариков. Сильно она реагировала, когда Клара съехалась с Иннокентием. Тогда Мелиссе только исполнилось шесть, и она затеяла бунт – решила не замечать отчим-отца, думая, что так мама все бросит и вернется к бывшему мужу, родному отцу дочки, царю всех зверей, к тому, что Лева. Лева был хорошим, потому что его бросила мама. Мелисса не видела, что мама его бросила от бессилия. От бесполезной борьбы с его картами, стеклянными бутылочками и банальными поисками «дядь» в шкафу. Папа был хорошим, а Иннокентий, потому что чужой – автоматически плохим, но детская забастовка безмолвия не сработала.
На первое второе сентября Мелиссе задали заполнить прописи. Почему-то шариковой ручки ни у кого в доме не было. Ни у кого, кроме Кеши. В его жирной барсетке уныло висели оранжевые стержни с длинными синими колпачками.
– Кееееш, дай Мелисске ручку! – умоляюще просила Клара.
– Не дам! Не дам, пока она ко мне не подойдёт, по имени отчеству не обратится, не дам! – буркнул Иннокентий.
В ту ночь Мелисса не спала, она мыкалась, а за окном выла умирающая или рожающая кошка, но Мелиссу эта кошка тревожила меньше, чем незаполненные прописи.
В шесть утра она подошла к кровати родителей, которая рычала мужским храпом: «Иннокентий Викторович, дайте, пожалуйста, ручку!».
Маленькая фигура с полными щечками стояла над пробуждающимся Кешей и унизительно смотрела в пол. Кеша резко дернул головой, потом покряхтел и злобно буркнул: «Сейчас дам!». Кеша не любил, когда его будили. Кеша вообще не любил просыпаться. Так в то утро закончилась забастовка Мелиссы.
Скрипка, масло и школа давались ей легко, почти на отлично.
– Бабушка, у нас есть в классе такой мальчик противный, – пробормотала Мелисса.
– Почему противный? – удивилась Римма.
– Он все знает! – недовольно ответила девочка – Вообще все! Бабушка рассмеялась и еще долго рассказывала об этом «противном» на семейных застольях с белой скатертью и хрусталем из сервиза.
Квартира сорок с домашним запахкотом, дедом Игорем, бурчащим Иннокентием, усталой Кларой, больной Мелиссой и строгой Риммой жила своей привычной бедной ругающейся жизнью, переваривая перловку от завтрака к ужину и от ужина к завтраку, пока не пришла новость.
В пятницу мама вернулась позднее обычного, в восемь вечера.
– Дочь, – позвала Клара Мелиссу, зайдя в коридор и тяжело расстегивая сапоги – Знаешь, а все-таки мы котеночка тебе на новый учебный год не подарим!
Мелисса уткнулась в выпуклый ящик, попивая морковку и как всегда не оборачиваясь на мать.
– Мелисс, ну посмотри на меня! Мелисс, ну повернись!
Мелисса вяло двинула шеей, и в глазах у нее стояла ленивая усталость.
– Дочь, а я беременна! – улыбнулась Клара.
В ту минуту что-то отдаленно похожее на улыбку родилось на молчащем лице Мелиссы.
II
Клара проснулась в восемь утра, когда воды отошли из ее тела, и она тихо подошла к спящему Иннокентию со словами: «Кеш, ну все, просыпайся, началось!». Язык у Кеши был блестящим, но иногда затирался матовым покрытием. Он подскочил: «Тебе не больно? Тебе не больно?». Кларе не было ни больно, ни страшно, это были ее вторые роды, и она, тридцатидвухлетняя, уставшая от обид судьбы женщина, плавно собирала сумку в роддом, красилась и долго укладывала волосы – хотела, чтобы младенец встретил ее красивой.
Клару положили на скрипучую кушетку, ножки которой опустились под грузной тяжестью беременной женщины. Вспотевшее лицо роженицы начало морщиться от приближающихся схваток. Схватки корчили ее каждые двадцать секунд. Судороги волной проносились по телу, отключали и включали разум. Тридцать минут и можно сказать, что роды прошли так же спокойно, как и сборы Клары на них, и когда из палаты вышла медсестра к Кеше, Клара услышала:
– Поздравляем, у Вас девочка!
– Я так и знал, – ответил Иннокентий.
Кеше было тоскливо. Надежда о мальчике в нем теплилась до секунды, которую разрушила молодая сестра.
Так родилась я. Катя. В тот день стоял удушающий зноем, липкий сентябрь. В палате было мало воздуха, роженицы задыхались, врачи потнились. Мне все кажется, что в прошлой жизни я была грешным человеком, и потому родилась я в тот душный день неслучайно, а чтобы искупить ошибки того, кто когда-то был мной. Я, кто когда-то был мной, явно тлел в аду. Иначе, почему я не переношу жару? Больше всего в жизни я не терплю жару, а жарко мне почти всегда.
Роды прошли спокойно и вместе с тем стремительно, так, что Клару, мою мать, успели заразить какой-то инфекцией. Возможно, та самая медсестра, которая сообщила отцу безрадостную новость о рождении дочки, забыла продезинфицировать инструменты, и потому Клару оставили на сохранении в больнице еще на неделю. Это всех расстроило, ведь отец на выписку, которая должна была состояться, но не состоялась из-за лечения мамы, заказал эскорт. Полгорода бывших бандитов, друзей Кеши, приехало встречать нас. Мелисса тоже поехала посмотреть на котеночка, о котором выпрашивала несколько лет, и когда мама из окна высунула голую меня, Мелисса испугалась и спряталась за Кешу.
Я была мокрой, склизкой, сморщенной, красной, прямиком из ада. Поджаренной креветкой. О чем я тогда думала? Что чувствовала? Наверно, хотела родиться обратно, чтобы не знать мерзкой жары.
Через несколько дней Клару все-таки выписали, и нас забрали домой. Беременность мамы не была мягкой. Со мной ее мучил тяжелой токсикоз, с Мелиссой – нет. Ее беременности мной мало кто был рад, ее беременности Мелиссой были рады все. Свекровь рыдала, когда видела семимесячный живот Клары.
– Ну как же так? Ну зачем ты решила рожать от него?
Бабушка не любила сына, который наплодил детей в бывших браках.
– Ну что я уже сделаю, Любовь Трофимовна? Что? Рассосется оно разве теперь?
Римма, мать Клары, тоже была недовольна, ненавидела Иннокентия и считала, что от такого, как он, могло родиться только «какое-нибудь зверье». Это мне рассказала бабушка в мой двадцатый день рождения: «Я так расстроилась, когда Клара забеременела тобой, а как только тебя увидела, так сразу и подумала: «Это же ангел, точно ангел к нам пришел!».
Мое детство прошло в квартире сорок. Я поселилась вместе с запахкотом, бабушкой Риммой, мамой Кларой, папой Кешей и сестрой Мелиссой. Наверно, всем было страшно. Дефолт. Может, потому всю жизнь я ощущаю себя дефолтной. Они хотели ребенка, родили, получили, а мучаться с этой жизнью пришлось мне. У них – подарок, у меня – борьба, и сколько себя помню, столько и ощущаю какую-то томительную грусть. Словно я ошибка, лишний рот, словно мое рождение – великое горе. Словно я дефолт.
Родители поженились, когда мне исполнился год. На свадебной фотографии я сижу у папы на руках в розовом сарафанчике и белой косынке. Мама стройная, в ярко-желтом платье, в волосы вплетены цветы, Мелисса тоже в желтом платье, а Кеша – в белой рубашке. Все загорелые смотрят в камеру, и только десятилетнее безрадостное лицо Мелиссы ушло куда-то в сторону. Отчужденно. В пустоту. Может, в тот самый момент она загляделась на проходящего мимо котеночка, о котором так сильно просила.
III
В ясли меня отдали в год и три месяца, а уже в три года я сама ходила в детский сад. Я отчетливо помню, что происходило в саду, а вот ясли помню фрагментами. Ученые скажут, что это воспоминания о воспоминаниях. Ну, пускай, значит, я буду елозить по бумаге воспоминаниями о воспоминаниях.
Осенним утром мы с мамой вышли из подъезда. Голова чесалась от связанной бабушкой шапки, ноги чесались от колготок, в дублёнке было тяжело передвигаться. Она давила на плечи и позвоночник. Она висла камнем, как будто что-то смертное тянулась за мной. Я спрыгивала, не торопясь, по ступенькам. Раз-два, раз-два, раз-два-три. Раз-два-три-четыре. Остановка. И опять стук сапогами о ступеньку. Прислушиваюсь. Соседи кричат. Держусь за ножки перил и мечтаю поскорее вырасти, чтобы достать до ручек. Хотя, если держусь за ножки, значит, ручки – это их голова. Если достану до голов перил, то смогу управлять жизнью и временем.
Спустились. Мама побежала на маршрутку, и я рванула за ней, хотя знала, что детский сад в другой стороне. Клара остановилась.
– Катя, тебе в другую сторону! – мама участила шаг.
Я встала, трехлетняя, заглядевшись на ее удаляющуюся фигуру, которая с каждой минутой уменьшалась.
Меня всегда отводили в детский сад. Бабушка, Мелисса, мама, не помню, чтобы хоть раз папа, но наверняка и он тоже, а иногда даже пьяный запахкот. Меня никогда не бросали на дороге.
Я вросла в асфальт, решив, что так безопасней. Мама была в короткой кожаной юбке. Высокие сапоги на каблуке – помню их стук и как они отрывались от земли. Помню ее собранные в деревянный крабик каштановые волосы с вульгарным рыжим милированием, помню указывающую руку, которая как будто отгоняла мух от себя, и оборачивающееся лицо. Оно шептало: «Иди, ну иди же». Словно в море бросили – решили по-советскому методу научить плавать.
Спустя минуту я оторвалась, как жвачка, и, последовав материнскому совету, пошла. Всю дорогу, которая, к слову, занимала минуты три-четыре, я рыдала. Я ненавидела садик и всегда там думала о маме. О ее мягкой улыбке, о ее запахе, о том, что приду домой и первым делом побегу в спальню, чтобы уткнуться в ее подушку. Буду нюхать эту подушку. Мамина подушка пахла по-особенному. Запах лака для волос и чего-то родного. Мама пахла добротой и безопасностью.
В детском саду жило какое-то терзание. Манная каша вызывала рвотный рефлекс, и я, съедав три ложки, которые казались мне веслами, блевала в тарелку.
«Хааа, она вырвала!», – ругалась нянечка Света.
Почему я до сих пор помню их имена? Наверно, потому что воспитатели, если я описывалась, били меня. Сказать об этом родителям я не решалась, иначе они поругаются с воспитателями, и тогда воспитатели поругают меня и снова побьют.
Дети почему-то меня не особо любили. Ребята смеялись над моими ботиночками. Всю одежду и обувь я донашивала за Мелиссой. От нее мне передались зеленые сандали с красными застежками, в которых было удобно бегать. У остальных девочек были ботиночки красные, блестящие.
– Смотрите, какие у меня красивые туфельки! – сказала Кристина, показывая всем обувь.
– А посмотрите, какие у меня! У меня тоже красивые! – довольная, толстая, широко улыбающаяся, говорила я.
– Нет, Катя, они некрасивые! – смеялись девчонки.
Тогда я расстраивалась, потому что мне мои ботиночки до той минуты казались прелестными. С того дня я стесняюсь своей обуви.
Сегодня мне двадцать шесть, и у меня одни дешевые ботиночки на лето, которые я исцарапала, бегая по московскому метро.
Поняв, что надо мной все время смеются, я решила взять это в оружие и стала веселить ребят. Корчила рожи, устраивала представления с разными гримасами, радуясь их громким беззубым улыбкам. Сейчас они посмеются, и тогда точно возьмут в команду строить песочные замки. Так и произошло. Меня приняли.
IV
В советское время многим жильцам нашего дома выдавали земли за парком аттракционов. Наверно, потому что на сто одиннадцатом до сих пор висит табличка «Дом образцового содержания». Когда я научилась читать, то при виде этого ордена, мне становилось смешно. Наша квартира сорок была совсем не образцовая. Соседские дети общались со мной нехотя. Все знали, что я внучка запахкота. Их родители – тоже, и мне кажется, они запрещали им со мной тесно дружить. Бывало, дети приглашали меня в гости, но я никогда никого пригласить не могла. Это было запрещено и стыдно. Еще я стыдилась, когда запахкот узнавал меня на детской площадке. Особенно стыдилась, когда он подходил пробоярышным, спрашивал, как дела и просил у нас чипсы. Мы угощали его, но на вопрос, как дела не отвечали, а молча уходили в сторону. Я не говорила с дедушкой при всех, делая вид, что мы не родственники. Никто не задавал мне неудобных вопросов, но все знали, что я живу с этим человеком в одной квартире. Сейчас он посидит на лавочке минут десять, подержится за голову и поднимется на пятый этаж. Через полчаса поднимусь и я.
Бабушка Римма любила рассказывать один случай. Они с дедом поругались. Лето, как всегда, было знойным, и потому во время их ссоры я лежала голая на кровати. Мне было три года. Пьяный дедушка назвал бабулю сукой. Тогда я выбежала, кинулась на запахкота с кулаками и закричала: «Деда, ты сам сука! Это ты сука, ты!». Бабушка смеялась, когда вспоминала эту историю и всегда добавляла: «Вот мой защитник без штанов! Смелая такая была!». Я этого не помню, но представить детально могу.
Зато я хорошо помню, как дедушка Игорь умирал. Целый день он лежал в грязной кровати, обернувшись в пожелетвшие простыни, и каждые две минуты просил принести воды. Меня это достало, и когда он в очередной раз попросил пить, я ответила ему, что он только что выпил большой стакан. Он жалобно посмотрел на меня из-под одеяла, помолчал минуту, а потом снова выдал: «Катюша, принеси, пожалуйста, воды». Я выполнила его просьбу, и он уснул. На третьем курсе в Литературном институте я прочла «Смерть Ивана Ильича» Л.Н.Толстого, и мне подумалось, что смогу написать похожее – «Смерть Игоря Запахкота».
В своей комнате бабушка смотрела “Культуру”, дедушка – сны, а я в зале – «Первый» и ждала, когда родители заберут меня домой. В середине нулевых они построили двухкомнатный дом и съехали от стариков. В будни после шести вечера папа заезжал на работу за мамой, а потом к бабушке – за мной, и вез нас в домишко, который был вдали от центра города, зато свой.
В пять вечера бабушка в узорчатом халате вышла в главную комнату, посмотрела на меня, затем на деда и буркнула: «Ну что, уснул?». Я утвердительно кивнула, и она ушла на кухню. Она всегда готовила ему какую-то тюремную похлебку. Для меня – вкусные обеды, а ему – закисший суп, который наливала в ржавую тарелку и ставила на стул возле кровати со словами: «На!», на что он ей каждый раз отвечал: «Не на, а нате!». Где-то через двадцать минут копошений и звяканий тарелками бабушка вышла, поставила суп и принялась его будить: «Игорь, вставай! Игорь!».
Дедушка не просыпался. Римма стала его шевелить, толкать, а он продолжал каменно лежать с закрытыми глазами. Помню, мне не понравился ее агрессивный натиск, и я почему-то совершенно спокойно сказала: «Бабушка, он умер!», чтобы она прекратила его дергать. Терзать его Римма прекратила только тогда, когда из его рта полилась темно-коричневая густая струйка крови. Мне было девять. Я тихо заплакала, сама не понимая почему, а бабушка заревела: «Надо же, он нас так мучил, но все равно горестно». Она позвонила в скорую, там ей ответили, что нужно звонить в полицию. Приехал полицейский, стал фотографировать деда с разных ракурсов и попросил меня походить по соседям, чтобы я привела их как понятых. Слез уже не было. Я нервно нажимала на дверные звонки, но никто не открывал, и потому мне пришлось выбежать на улицу, чтобы попросить бабушек, сидящих на лавочке, подняться на пятый этаж. Они не хотели, но я докучала, так как умер дедушка, и товарищ полицейский велел всех собрать. Через полчаса пришла мама, папа ее не забрал с работы в тот день.
Вместе со своей матерью Клара безмолвно раздела труп своего отца и переодела в приличную одежду. На него натянули какие-то спортивные брюки “ADIDAS” и цветастую рубашку. Так дедулю забрали в морг.
Через час приехал папа. В машине родители молчали, а я разговаривала в своей голове с дедушкой. У меня лились капельки из глаз, но их я уже выдавливала, потому что нужно было хорошенько поплакать – я видела это в кино. Всю дорогу я просила у дедушки прощения за то, что не хотела приносить ему воду. Мне казалось, именно из-за этого он умер. Не от обезвоживания, а от безразличия внучки.
Дома мы скромно поужинали. Папа в одиночестве выпил рюмку водки за деда. Запахкот перестал вонять в семьдесят пять лет.
Ночью я услышала, как мама заплакала. Папа ее успокаивал, и они почему-то занялись сексом, за что я их возненавидела. Первый раз в темноте я увидела их сношения в три года. Тогда мы еще жили в квартире сорок, и мой диванчик стоял в одной комнате с их кроватью. Мелисса жила с бабушкой, в главной – спал дедушка. Почему-то я тогда улыбалась. В три года казалось, что эти сношения и есть любовь, и родители точно никогда не будут ссориться.
С возрастом эти звуки стали противны. Я считала их поведение нечестным по отношению ко мне. Пыталась заткнуть пальцами уши, чтобы ничего не слышать и уснуть. Боялась пошевелиться, лишь бы они не узнали, что я тоже не сплю. На утро я не могла на них смотреть. Моя ненависть увеличивалась. В школе мы рассказывали друг другу эти ночные истории. Оказалось, что многие одноклассники слышат мерзкие стоны, и тоже за это ненавидят родителей, поэтому приходят в школу не выспавшимися. Некоторые замечали за этим делом даже бабушку с дедушкой. Благо, Господь меня от этого уберег. В девять-десять лет да и после, лет до пятнадцати, секс кажется каким-то грехом, и мы с одноклассниками не понимали, как наши благочестивые родители могут заниматься таким злом. Но мне было радостно, что не только мои предки творят это зло. Разговоры с одноклассниками лекарственно действовали на каждого из нас. В какой-то книжке по психологии, лет в двадцать, я прочла, что если ребенок застает родителей за половой стратью, то это может нанести ему трамву, соозмеримую с изнасилованием. Я с этим согласна. Насиловали мой слух, мозг, а главное – лишали сна.
Когда Мелисса приезжала из Москвы на каникулы, мы спали с ней вместе на диване. В одну ночь я в очередной раз проснулась из-за родительского шуршания. Испугалась, что Мелисса тоже не спит, и сейчас мы вместе окунемся в болото смущения. Посмотрев на нее, я удивилась, обнаружив ее спящей. Будто камнем придавило. Ее сон пробуждал во мне зависть, и эта зависть вырастила мне язык.
Когда родители в соседней комнате кричали, кричали – значит, ругались, разбудив меня в три часа ночи, я, зная, что после этой ссоры последует противное для меня примирение, долго выкармливала храбрость. Крутила мысли. Наращивала их, переваривая, обдумывая слова, выстраивая их в предложения, даже не вслушиваясь в причину их очередной стычки. Храбрость подросла и заполнило горло. Я встала, зашла к ним в комнату и заорала: «Хватит ругаться, я хочу спать, вы меня достали, вы эгоисты, нам вставать в шесть утра, а вы орете, вы эгоисты, я вас ненавижу!», а затем кинула в них подушку и громко хлопнула дверью, которая подгнивала от влажности и слабо закрывалась. Послышался пустой хлопок. Совершенно бездушный. Ярости в нем не было, и мне стало обидно. Родители ничего не ответили, они закрыли рты, а я легла спать, почувствовав победу. На утро мы не разговаривали, но я вела себя гордо, смело и вальяжно. Обычно я их побаивалась, старалась быть незаметной, но в то утро я первый раз почувствовала, что за свой сон и слух можно бороться.