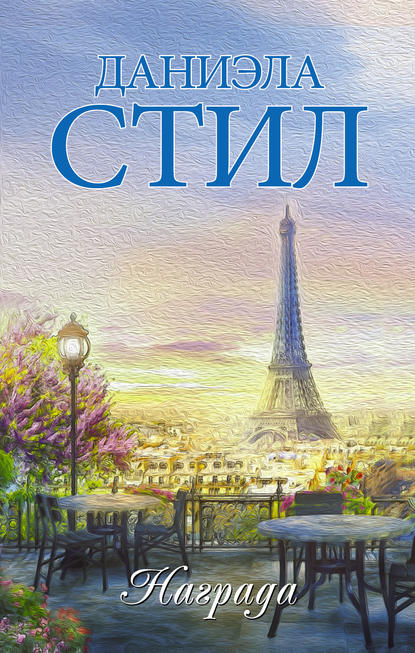- -
- 100%
- +

ВСТУПЛЕНИЕ. ПЛАЧ НАД ВЫЦВЕТШЕЙ ФОТОГРАФИЕЙ
Если бы мне сказали, что моё детство можно разлить по бутылкам, как молоко, я бы, наверное, аккуратно (чтобы не расплескать) перелила его – всё до капли, вместе с пенкой обид и густым, сладким осадком нечастых радостей – в темные стеклянные емкости, залила сургучом и спрятала подальше от Солнца.
Но, увы, детство, как известно, – не молоко. Оно, скорее, – тонкий, белый, почти невидимый шрам, который (если до него не дотрагиваться) в общем-то не болит, но стоит провести пальцем по его гладкой, холодной поверхности, достает из памяти буквально все. Вспоминаются даже незначительные детали, причем, так ярко, так больно, так до тошноты отчётливо, будто это случилось не тридцать лет назад, а происходит прямо здесь и сейчас – на кухне, пропитанной старыми страхами.

Я сижу на том самом стуле с протертой сидушкой. Он скрипит подо мной всё тем же жалобным голосом из моего детства, впивается в меня, как заноза и тянет за собой из тёмного колодца прожитых лет длинную-длинную верёвку, на конце которой болтается… весь тот ужас, вся та безумная, уродливая, пожирающая любовь, которая когда-то называлась моей семьёй.
***
Бабушка… Если бы я могла вырвать её из совей памяти, как больной зуб изо рта, я бы сделала это, не моргнув глазом. Но её нет уже двадцать лет, в то же время, она всё еще в складках занавесок, которые она штопала дрожащей рукой, в потёртом линолеуме, который она мыла каждый день, в воздухе, который до сих пор, как мне кажется, пахнет её лекарствами, разрезанным луком и слезами, которые она проливала от всепоглощающей ярости на весь белый свет.
Она любила меня. О, да! Она душила меня свей любовью по ночам, закутывая в десять одеял. Она кормила меня ею с ложки, пихая в рот безвкусную манную кашу, которую я ненавидел больше всего на свете.
– Ешь, ешь, внученька, расти большой и сильной! – приговаривала она.
Я была её проектом. Её искуплением. Её живой иконой, которую она то украшала, то бросала на пол в припадке ярости.
***
А дед… мой тихий, неслышный дед. Он был как тень. Как мебель. Сидел в старом кресле, курил сморщенную «Беломорину» и смотрел в стену. Он совершенно точно видел на ней что-то своё – может, ту жизнь, которая могла бы быть, если бы не бабушка… если бы не квартира, набитая до потолка старыми вещами и обидами. Он никогда не спасал меня. Он просто был…
ГЛАВА 1. МНОГОТОЧИЕ
Начинать надо, а я не знаю, с чего. Бабушка говорит, если не знаешь, с чего начать, начни с самого начала и ставь многоточие. Оно как дырка в заборе, в которую можно подглядеть, что же там, за штакетинами. Вот я и ставлю… многоточие…

Понедельник,
14 сентября
7:30. Автобус №47.
Я хочу быть одна,
Я хочу быть ничьей.
Я хочу, чтоб Луна
Освещала ручей.
Дождь. Он не кончается никогда. Не дождь даже, а какое-то наказание. Питерское небо протекает, как дырявое корыто, и заливает все вокруг своей серой вонючей жижей, в которой плавают окурки и чьи-то растоптанные надежды.
Я сижу в автобусе, а он пыхтит и трясется – кажется, вот-вот развалится на куски от вселенской тоски. Пахнет старым хлебом, который кто-то уронил под сиденье и не поднял.
Я прилипла лбом к стеклу. Холодно и противно, как прикладываешься к лбу мертвеца. Закрываю глаза и представляю, что это не стекло автобуса, покрытое разводами от чьих-то грязных пальцев, а иллюминатор, и что я не Вика Соколова, уродина курносая и веснушчатая, в которую все тычут пальцами, а капитан Виктория Смелая. Волосы у нее не торчат паклей в разные стороны, как у меня, а развеваются на ветру, как знамя. Автобус мой – не автобус, а быстрый корабль «Отчаянный», а грязная лужа на асфальте – не лужа, а океан, в котором водятся русалки и акулы.
А плыву я туда, где нет школы, нет кома в горле, который не проглотить, и чувства, что я чужая вещь, которую по ошибке поставили не на свою полку и теперь не знают, куда деть.
Ну вот, после многоточия пошли слова. Поехали. Только куда?
7:45
За брата старшего стою,
Он – верный друг и мой герой.
Я всей душой его люблю,
Пусть будет счастлив он со мной.
В куртке, которую мне Артем отдал, загудел телефон. Это СМС от мамы:
«Викунь, купи хлеба и сосисок. Деньги, сама знаешь где. Я на второй уборке, заночую у тети Иры, не жди. Целую. Мама.»
«Не жди» – это наше коронное семейное слово. Оно написано у нас на роду. Мама вечно где-то моет полы – оттирает чужую грязь, а ее собственная жизнь проходит за краем швабры. Отчим (Сергей Петрович) ушел на «вахту» – так он пафосно называет свои загулы с собутыльниками, после которых приходит злой, как черт, и швыряет нам купленные в спешке носки с оленями или дешевые конфеты в знак примирения. Мол, на тебе, жри, отстань!
А Артем… мой брат – тренер по кикбоксингу. На нем держится вся наша семья. Это он мне куртку подарил, когда я в прошлом году выросла из своей:
– Носи, закаляй характер! В жизни пригодится!
Артем научил не растопыривать пальцы, когда бьешь.
–…а то сломаешь, – говорит.
Еще он меня научил не смотреть в глаза – даже если страшно до тошноты. Он учит меня:
– Проблемы, сестренка, как грабли: наступишь – получишь по лбу. Так что думай сначала, а потом делай.
Он всегда прав…
8:15.
Школа.
Звенит звонок, как приговор судьбы,
Опять уроки, та же дребедень.
В мечтах – сплошные воля, волны, паруса,
А тут зубри, пиши весь злополучный день.
Школа не просто пахнет, а именно воняет… смесью столовской каши-размазни, дешевого мыла из туалетов и миллионов чужих, незнакомых жизней.
Я пробираюсь к своему шкафчику, глядя в пол. Я знаю, что они смотрят. Шепчутся. Я слышала обрывки фраз, впивающихся в спину, как занозы:
– Смотри, Соколова…
– Пацанка что ли?!..
– Это просто мутант какой-то…
– И в кого такая?
Пусть шепчутся. Мне все равно. Плевать.
9:15.
Перемена.
Начало всего.
Не в пышных платьях и не в блеске злата
Найду красу, что истинно чиста.
Она в душе, где нет греха и смрада,
Где светит доброта и простота.
Побежала в библиотеку, за новой книжкой про пиратов – мне необходимо было срочно вернуться в свой вымышленный мир, в котором все просто и есть четкое разделение на хороших и плохих. Там предателей вешают на реях, а герои пьют ром и поют песни.
Тут я наткнулась на сцену… Три старшеклассницы. Стоп! Не так!
Гламурные гиены из 10 «Б» окружили маленькую худенькую девочку – Лену Королеву. Да-да, ту самую дочь богатых родителей, в прошлом году устроившую для всего нашего класса прогулку на шикарном белом теплоходе по Неве. Ее все боготворили. И, как выяснилось, боялись…
Она стояла, прижимая к груди дизайнерский рюкзак, стоивший, наверное, больше, чем мамина зарплата за три месяца.
– Королева, а где мани? – воскликнула одна из гиен (высокая блондинка с губами, накачанными до невероятных размеров, похожими на две надутые сардельки). – Мы кофеек пить собрались, а ты нас подводишь.
– У меня нет с собой наличных, – испуганно прошептала Лена.
– Врешь! Кэш у тебя всегда есть! – одна из губошлепок толкнула Лену плечом, та вздрогнула и еще сильнее прижалась к стене.
Тут во мне что-то щелкнуло. Брательник назвал бы это триггером. Не удивляйтесь, он у меня еще тот знаток умных словечек – очень много читает. А вот мама называла бы этот щелчком идиотизма. В моем же собственном понимании это были те сам грабли, про которые писали классики, и я на них осознанно наступила.
– Эй, криповые! – гаркнула я, шагнув в их сторону. Голос, к моему удивлению, не дрогнул. – Рылами не вышли рэкет хейтить. Валите лучше капучино за мелочь пить.
Наехавшие на Королеву девчонки разом обернулись. Блондинка фыркнула – ее сарделечные губы изогнулись в презрительной улыбке.
– О, а вот и Соколова пожаловала? Тебя забыли спросили. Иди своей дорогой, пацанка.
Лена с мольбой посмотрела на меня огромными, как у диснеевской принцессы, голубыми глазами. В них без труда читался панический страх.
– Последний раз говорю, отвалите от нее! – я сделала еще шаг и приняла стойку готовности, как учил Артем: кулаки сжаты, руки согнуты в локтях, вес на передней части стопы.
Я была готова к бою. Старшеклассницы аж раззявили рты. Они, конечно, были сильнее и выше меня, но я была дикой, как кошка, непредсказуемой, как пантера, и сумасшедшей… когда сильно достанут. Одним словом, пацан в юбке, как называет меня брат.
– Ладно, Королева, с тобой разберемся потом, – просвистела блондинка и уплыла прочь со своей свитой, громко цокая каблуками.
В коридоре вдруг стало очень тихо. Лена продолжала дрожать, как осиновый лист на ветру.
– Спасибо, – прошептала она так тихо, что у меня в груди даже екнуло.
– Да не за что, – отмахнулась я. – Этим курицам только дай волю. Ты как?
– Ничего… Они… почти всегда так… Я им просто давала деньги – чтобы отстали…
– Глупость какая, а! – отрезала я. – Таким надо сразу в морду бить. Или хотя бы сделать вид, что готов это сделать. Это очень надежно и продуктивно. Проверено.
Лена улыбнулась сквозь слезы.
– Ты такая странная. Все тебя боятся, а ты вот – оказывается, ходишь в библиотеку, читаешь книжки и защищаешь таких, как я.
– Просто я никого не боюсь, – вот тут мне пришлось соврать самым наглым образом. – А книжки… книжки помогают коротать время. Лучше их читать, чем тупить в тик-токе и смотреть, как такие вот гиены там себя хайпят.
Дальше по коридору мы пошли вместе. Лена была рядом, от нее пахло невероятно дорогими духами – мне даже показалось, что она только что вышла из бутика, а не из школьного туалета.
15:00.
После уроков.
Встреча нежданная, взгляд лучистый,
В жизнь вошла ты, как солнца луч.
Новый друг, словно ангел чистый,
Развеяла мрак и горечь мук.
Лена, запыхавшись, догнала меня у выхода из школы.
– Вика, слушай, я хочу тебя отблагодарить. Давай поедем ко мне? Прямо сейчас. Наш домашний повар просто нереальные торты печет.
– Мне надо хлеба купить. И сосисок, – ответила я, сжимая ремень старого рюкзака. – Мама просила.
– Ну и что, купить успеешь, – воскликнула Лена, в ее голосе слышалась такая уверенность в том, что все в мире решаемо, что мне стало почти завидно.
Я было хотела отказаться, мол, меня ждут важные дела – помыть пол на кухне и еще брат обещал научить новому приему, если придет пораньше. Но, посмотрев в ее огромные, голубые, все еще грустные глаза, возражать ей почему-то расхотелось.
– Ладно. Но только на минутку. Мне правда надо многое переделать.
***
Мы вышли из школы. У обочины, как в самом настоящем голливудском фильме, мою новую знакомую ждал длинный черный лимузин. Я проскользнула в открытую дверь, вжалась в мягкое, как мамины руки, кожаное сиденье и почувствовала себя пиратом на королевском галеоне, переодетым в шутовские лохмотья. Сами подумайте: Вика Соколова в потертой куртке брата в окружающем пространстве, пахнущим кожей и деньгами.
Лена смотрела в окно на унылые питерские улицы, проплывавшие за тонированным стеклом.
– Знаешь, у меня, кажется, есть все. Абсолютно все. А друзей… нет. Все они… как торты нашего повара – внешне красивые, сладкие, идеальные, но абсолютно пустые внутри.
Я не знала, что ответить. Просто не была готова к такой откровенности. Мысли, не в силах остановиться в голове, застучали, как мячики для пинг-понга внутри барабана «Спортлото».
– А у меня… ну… В общем, у меня есть только брат. И мечта. Уплыть на необитаемый остров. Я уверена, там полно ракушек и диких, но очень симпатичных обезьян.
Лена рассмеялась – искренне, по-настоящему, от этого смеха в салоне стало светлее.
– Я бы с тобой уплыла. Честно! С удовольствием!
В этот момент я поняла, что у меня – Вики Соколовой, гадкого утенка с торчащими во все стороны волосами – появилась подруга. Самая неожиданная и самая странная на свете.
21:00.
Кухня.
Темнота сгущается в углу,
Когда он входит – я молчу.
В его глазах лишь злоба и укор,
И сердце бьется, где души простор?
Дом, «милый» дом. Мамы нет. Вот и отчим пришел – уже хмурый и недовольный, сразу начал ругаться, что еда не готова, что он пашет как лошадь, а дома даже ужина нормального нет. Я молча сварила сосиски, нарезала хлеб. Он ест, глядя на меня поверх тарелки, и ворчит, пережевывая:
– И в кого ты такая уродилась? Кучерявая, как черт. И губа эта… Совсем не в мать, та хоть красавица.
Я молчу. С горем пополам грызу хлебную корку и жую сосиски, которые кажутся мне ватными. Вспоминаю бабушку в деревне. Она всегда шепчет, гладя мои непослушные кудряшки:
– И в кого ты такая, милая?!.. Внешность – не главное. Главное – душа. Зато ты добрая, честная и веселая. В наше время это редкость. Ничего, все будет хорошо, Викушка.
А еще бабушка учила меня шить на допотопной машинке «Зингер». Говорила, нечего мне в футбол с пацанами гонять, надо делом полезным заниматься. Всегда после этого она с трепетом и любовью показывала свою машинку:
– Вот моя ровесница, еще ни разу не подвела. Я на ней и халатики для мамки твоей шила, и платьишко для тебя, Викушка. А брату твоему, Артему, труселя с потаённым кармашком – чтобы от жены, когда женится, деньги прятал.
Мы с ней всегда заливались смехом. Труселя с потайным карманом! Это же надо было придумать! А потом она вздыхала и смотрела на меня с бесконечной, всепрощающей любовью. В такие минуты все мои обиды растворялись – прямо как сахар в крепком травяном чае с малиной.
Но бабушка сейчас была очень далеко. А здесь, на кухне – отчим. Его слова, как острые иголки, впиваются под мою кожу и остаются там, шевелясь. Я чувствую их, хочу закричать, но смотрю на свои руки. Не изящные, как у Лены – с обкусанными ногтями и следами от чернил на пальцах. Может, они и не ухоженные, но зато я этими руками могу поставить блок и написать в своем дневнике: «Я – гадкий утенок. Но однажды, я обязательно, превращусь в прекрасного лебедя и улечу далеко-далеко отсюда. Обязательно улечу!».
И найдется мой капитан Фракас из историко-приключенческого романа Теофиля Готье, который увидит не мою отвратительную губу и беспорядочную россыпь веснушек на безобразном лице, а настоящего капитана Викторию Смелую. И мы уплывем. Вместе с ним в безграничный океан…
А пока… Пока я доедаю свою вторую сосиску и представляю, что завтра на физре нужно будет по-тихому, аккуратно, чтобы учитель не заметил, дать сдачи Петьке Сидорову, который опять дразнил меня. И в кармане у меня лежит смятая записка от Лены с ее номером телефона. И этот маленький, смятый клочок бумаги греет меня изнутри сильнее, чем любая еда.
Вторник
6 октября
17:08.
Моя комната.
Вернее, угол за шкафом.
Минуты тянутся словно столетья,
Каждый вздох – словно шаг вдалеке.
И в мечтах расцветают соцветья,
На заснеженном жизни песке.
Я сижу за шкафом. Это мое убежище. Узкая щель между стеной и старой советской стенкой, пахнущей нафталином и прошлым веком. Здесь меня никто не найдет. Здесь я не Вика, я – тень и призрак.
Артем сегодня пришел домой странный. Не крикнул, как водится, с порога:
–Эй, капитан, как там с пиратами?
Не спросил про уроки. Просто прошел мимо, бросил на табуретку спортивную сумку.
Она упала на сидушку с глухим, зловещим стуком – как будто в ней лежали не боксерские перчатки, а тяжелые, чугунные блины для штанги. От того стука у меня похолодело внутри.
Я прилипла к дверной щели – слушаю, затаив дыхание. Артем на кухне разговаривает с мамой. Голос у брата какой-то сдавленный, чужой что ли…
– Ма, я все обдумал. Контракт подписал. Ухожу.
Тишина. Даже вечно тикающие кухонные часы, кажется, замерли в ожидании.
– Куда? – выдохнула мама, в этом слове был такой ужас, что мне захотелось вбежать и обнять ее.
– В армию. По контракту. Тебе не придется пахать, как проклятой. То есть, нам.
Мама тяжело вздохнула и я услышала, как скрипнул стул – она, кажется, села на него.
– Тема… сынок… Ты же тренер, у тебя карьера… Зачем?
– Карьера? – Артем беззлобно фыркнул. – В «Заре» платят копейки. Хватает только на мои проездные, съем комнаты, да на поесть. А там… Ма, я смогу спокойно тебе помогать. По-настоящему. Деньгами. Не такими копейками.
– А Вика? – прошептала мама, мое сердце упало в тапки. – Она же… Вот как она без тебя?
– Она сильнее, чем кажется. Я ее хорошо подготовил. – Голос у Артема дрогнул, это было страшнее любой брани. – Решено, ма. Через две недели уезжаю.
***
Из-за шкафа я видела только небольшую часть кухни – угол стола, край выцветшей до бледно-розового цвета скатерти. Мама, сгорбившись, сидела за столом и водила по ней рукой – словно гладила что-то безвозвратно утерянное.
Артем стоял спиной к маме, уткнувшись лбом в холодный пластик окна, за которым почти беззвучно моросил все тот же питерский дождь.
Этот дождь молился о моей душе и смывал все на своем пути – надежды, планы, нашу хрупкую семейную стабильность. Мой маяк уплывал – мой брат, моя крепость, мой единственный настоящий защитник. Я оставалась одна в бушующем море под названием «жизнь», в которой меня ждали отчим с его вечным ворчанием, школа с ее злыми взглядами и непонятная, новая дружба с девочкой из другого мира.
Я вжалась в стену, стараясь дышать тише, и почувствовала, как по щеке ползет предательская слеза. Мне было страшно. До тошноты страшно.
В этот момент я поняла, что многоточие в начале моей тетради – не конец мысли, а пауза перед чем-то неизвестным и пугающим. Мне же предстоит решить, что будет дальше – новая строка в дневнике или точка.
ГЛАВА 2. КАША
Четверг.
28 октября.
11:15.
Урок литературы.
Сегодняшний день был как наш старый компьютер, который пытается запустить слишком тяжелую игру – гудит, трещит и вот-вот взорвется, а картинка все не появляется. В голове моей кипела настоящая каша. Причем, не овсяная, которую мама иногда варит по утрам, а серая, липкая, противная каша из конспектов по алгебре, которую я уже ненавижу всеми фибрами души…

Я сидела на уроке литературы и тупо смотрела в окно. За ним разворачивалась картина, достойная кисти Левитана, как сказала бы наша учительница. Небо было низким, молочно-серым, продавленным, как подушка, на которой уже лет двадцать кошмар. Сквозь разрывы в облаках пробивался жидкий, но упрямый свет, ласкающий оголенные ветки берез. Листва повсюду лежала мокрая, ярко-желтая – казалось, кто-то разлил по асфальту жидкое, умирающее Солнце. А я…
Я не могла всем этим насладиться. Внутри все сжималось в тугой, болезненный комок от осознания того, что после уроков будет тренировка, после нее придется учиться, а после учебы… Круг замыкался, как навесной замок на воротах дедушкиного гаража. А время текло сквозь пальцы, как вода из дырявого ведра – я не могла удержать ни одной драгоценной капли.
Марья Игнатьевна (наша литераторша) говорила что-то про «серебряный век» и его «хрупких гениев». Голос у нее был тихим и убаюкивающим – как шум дождя за окном. Я смотрела на ее доброе, усталое лицо в очках с толстыми линзами и думала: «Вот она знает, кто такая Ахматова, а я не очень, потому что стихи только-только пытаюсь писать. Мне от этого и стыдно, и горько – как будто я предаю всех этих Ахматовых и Гумилевых, не слушая про них, отворачиваюсь от чего-то важного и прекрасного. Но алгебра! Эта ведьма Алгебра с ее мерзкими иксами и игреками сидела в моей голове и нашептывала тонким, противным голоском: “Не доучишь формулы – получишь двойку, и тогда тебя не пустят на соревнования, и Лена будет разочарована, и все подумают, что ты неудачница”. А тренер по чирлидингу (Надежда Олеговна) – женщина с телом гимнастки и голосом ржавой пилы, добавляла своим скрипучим, неумолимым голосом: “Без растяжки ты на соревнованиях – как деревянная кукла, позорище! Будешь вечно в запасе, на скамейке сидеть!”»
Каша в голове закипала, поднималась пузырями, угрожая сорвать крышку. Я представила, что мой череп – это старая эмалированная кастрюля, которую мама давно собиралась выбросить, а в ней булькает серая, безвкусная овсянка из цифр, стихов, команд «пируэт-джамп-шпагат», битьем груши в зале кикбоксинга и чужого шепота за спиной. Скоро эта каша выскочит из кастрюли, зальет все вокруг, включая Марью Игнатьевну с ее «серебряным веком», и школьную доску, и этот проклятый осенний пейзаж за окном.
14:30.
После уроков.
Раздевалка.
Лена, сияющая, как только что распакованный новенький айфон последней модели, уже ждала меня у моего шкафчика, пахнущего старым железом. Она переминалась с ноги на ногу в белоснежных кроссовках.
– Вик, бежим! – ее голос звенел, как колокольчик. – У нас сегодня репетиция новой пирамиды! Надежда Олеговна сказала, будем летать! Прям как те пираты с твоего корабля!
Я медленно расстегивала замок вечно заедающей молнии. Руки были ватными и непослушными, пальцы скользили по холодной металлической кнопке.
– Лен, я… Я, наверное, не смогу.
Ее, такое открытое и радостное, лицо вытянулось, как от резкого порыва ветра.
– Что?!.. – воскликнула она. В ее глазах мелькнуло неподдельное недоумение, будто я только сказала, что земля плоская. – Почему? Что случилось?
– Алгебра, – выдавила я, глядя на свои старые кеды. – Контрольная завтра. Я ничего не поняла. Ни одной формулы. Меня Мария Ивановна сожрет заживо, если опять двойку получу. Разжует и не подавится. И… в общем, мне над к маме… больницу.
Это было правдой, но не всей. Маму я, конечно, хотела навестить, обнять ее за худые, холодные плечи, посидеть рядом в больничной тишине, но больше всего – до дрожи в коленках – мне хотелось приползти в свою комнату в Лениной квартире, рухнуть на невероятно мягкую, огромную кровать, накрыться с головой одеялом и замереть. И просто лежать, глядя в потолок – пока эта проклятая, бурлящая каша в голове не остынет и превратится в холодное, безжизненное месиво.
Лена надула идеальные губки. Она не то, что не понимала, она не могла понять, что такое – бояться за маму, что такое – чувствовать, когда земля уходит из-под ног, потому что единственный человек, который держал тебя за руку, сейчас сам еле держится.
– Ну, Вика! – с упреком сказала она. – Так нельзя! Мы же команда! Мы – «Галактика»! Ты – наша основа! Наш фундамент! Без тебя пирамида развалится, как карточный домик! Надежда Олеговна просто убьет нас!
Я знала, что она права. Каждое ее слово било точно в цель. От сознания своей вины становилось еще хуже и намного тяжелее дышать.
Я была как веревка, которую с двух сторон тянут два упрямых осла. С одного конца находилась Лена и Надежда Олеговна, с их «полетом» и «победой», с другой – Мария Ивановна с иксами-игреками и призраком двойки, способной перечеркнуть все, если не больше. Посередине находилась я…
– Ладно, сдаюсь! Но только на час. Ровно на час! Ни минутой больше.
16:00.
Спортзал.
Спортзал пах потом, надеждой и прорезиненным покрытием. Надежда Олеговна (худая, как жердь, выструганная из самого сурового дерева, с голосом, который скребет по нервам, как наждачная бумага) выстраивала нас в шеренгу. Ее холодные и всевидящие, как у хищной птицы, глаза скользили по нашим лицам.