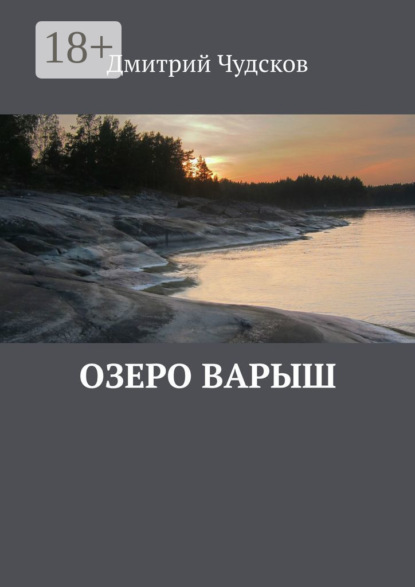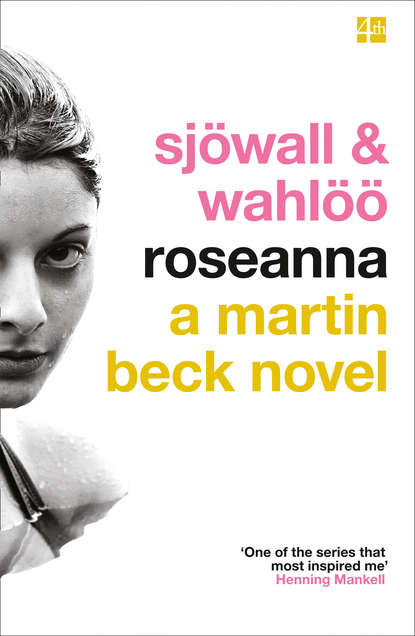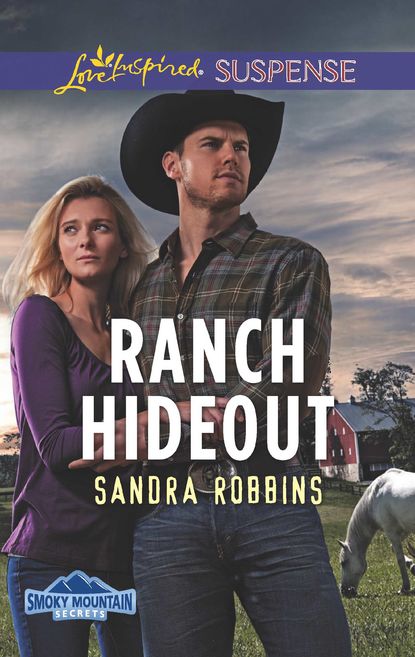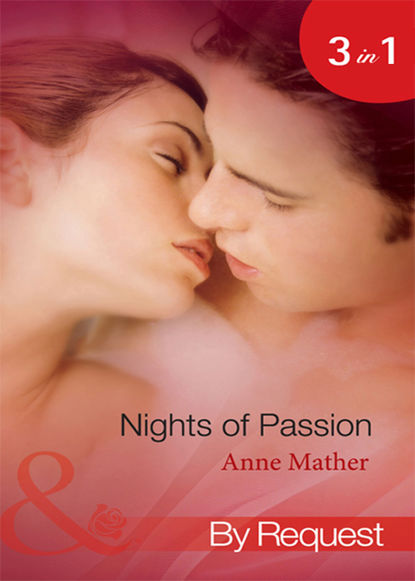Исследование архетипической природы расстройств пищевого поведения на примере клиентских случаев
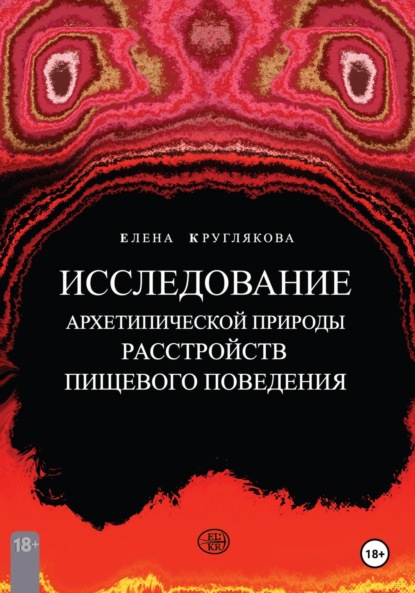
- -
- 100%
- +

г. Москва, 2023
Рецензенты:
Академик МАПН, доктор психологических наук, профессор В. В. Козлов
Академик МАПН, доктор психологических наук, профессор В. А. Мазилов
Введение
Возникшая во второй половине ХХ века проблема расстройств пищевого поведения, в первых двух десятилетиях ХХI столетия приобретает колоссальные масштабы, что связано с одной стороны с общим благополучием жизни и изобилием продуктов питания в частности, с другой стороны – транслируемым обществом образом успешного в социальном плане индивида, имеющего стройное, подтянутое тело, что в колоссальных масштабах тиражируется социальными сетями. Современная психиатрия, фармакология и поведенческие подходы в психотерапии подобных пациентов традиционно направлены в основном на снятие внешней симптоматики данных расстройств, зачастую не рассматривая глубинные причины возникновения заболевания, связанные с процессами, происходящими во внутрипсихической структуре человека в контексте его отношений с едой. В результате чего симптомы имеют тенденцию возвращаться либо менять локализацию.
Каждое расстройство уникально для своего носителя и зависит от того, какой будет констелляция всех значимых биологических, наследственных, биографических, культурологических, социальных, психологических, трансгенерационных и иных факторов и аспектов жизни, присущих данному конкретному индивиду от рождения и раннего детства до манифестации заболевания. Тем не менее, симптом может нести в себе универсальные смыслы, на глубинном уровне объединяющие пациентов в одну категорию, что позволяет рассматривать различные виды расстройств как следствие одних и тех же травматических событий.
С точки зрения психодинамических подходов в основе таких проявлений, как нарушенное питание, голодание, очистительное поведение, переедание, ожирение, гендерная дисфория, самоповреждающее поведение, одержимость кожей, ненависть к себе, перфекционизм, все виды зависимостей и многих других, речь идет о проблеме нарушенного бессознательного образа тела. Именно нарушенный образ тела является единой причиной данного спектра расстройств, что приводит в итоге к конфликту идентичности во всех своих многочисленных проявлениях. Фактически речь идёт о состоянии на границе невроза и психоза, неуверенности или полном отсутствии границ между Я психическим и Я телесным, Я реальным и Я идеальным, между тем, что зависит от субъекта и тем, что зависит от другого. Символические репрезентации данного симптома могут появляться в сновидениях, архетипических образах и фантазиях пациента, и на основе полученной в процессе терапии символической продукции можно строить предположения о внутреннем смысле заболевания. Таким образом, видимый физический симптом лишь представляет способ, посредством которого болезнь манифестирует себя, при этом истинной причиной расстройства является глубокий внутренний конфликт, скрытый в бессознательной части психики пациента, иными словами, симптом является дорожной картой, ведущей в глубины деструктивный природы заболевания, где на самом дне коренится стремление психики к большей дифференциации.
Исследование причин возникновения глубинного конфликта в психике пациента, приводящего к расстройству, является целью данной работы. В работе подробно рассматривается терапия РПП в юнгианском подходе, для чего читатель сначала знакомится с основными понятиями юнгианской глубинной психологии. Особое внимание уделяется изучению понятия комплексов как автономных психических структур, составляющих личное бессознательное индивида, в частности, родительских комплексов, так как определенная констелляция именно этих психических структур приводит к возникновению и развитию РПП. Юнгианский подход к исследованию проблемы РПП, а также терапии данного спектра расстройств был бы неполным без попытки осмысления архетипической природы данного глубинного конфликта, уходящего своими корнями в область коллективного бессознательного. С этой точки зрения предлагается рассмотреть проблему РПП как запрос на инициацию. На пути индивидуации человек проходит несколько этапов, причем этот процесс протекает нелинейно, а, как правило, через кризисы, для выхода из которых психике требуются определенные механизмы. Именно эту функцию призваны исполнять инициационные процессы, осуществляемые через ритуалы перехода. Если такой процесс по каким-либо причинам не состоялся, то затянувшийся кризис остается без разрешения и в итоге приводит к расстройству. В юнгианской терапии данный процесс происходит в пространстве терапевтических сессий, являющихся метафорой алхимической трансформации души. Проводимое терапевтом и пациентом в терапевтическом процессе совместное исследование и проживание того, в какой миф, сказку, символ, метафору или архетипический образ встроен симптом пациента, а также, как психическое нарушение, вызванное внутренним конфликтом пациента, проявляется на телесном уровне, может дать лучшее понимание динамики возникновения расстройства и привести пациента к осознанию смысла симптома и следующему вслед за этим принятию вызывающих конфликт низших и наиболее отвергаемых аспектов себя, и, в итоге, к исцелению.
В работе подробно исследуются четыре частных клиентских случая терапии различных видов РПП в юнгианском подходе: два случая компульсивного переедания, приводящего к ожирению, один случай нервной анорексии и один случай нервной булимии. Данное исследование позволяет сделать вывод о единой природе возникновения всего спектра РПП, а также и других формах невротических расстройств, в силу единого корня их возникновения. Этот факт является основной причиной неудач работы с РПП с помощью диет, фармакологических методов и в краткосрочных и иных психотерапевтических подходах, так как снятие симптома, являющегося внешним проявлением расстройства, не приводит к разрешению глубинного внутрепсихического конфликта, в силу чего симптом появляется вновь или смещается в сферы других невротических расстройств.
Глава 1.
Теоретический анализ проблемы
Каждое расстройство уникально для своего носителя и зависит от того, какой будет констелляция всех значимых биологических, наследственных, биографических, культурологических, социальных, психологических, трансгенерационных и иных факторов и аспектов жизни, присущих данному конкретному индивиду от рождения и раннего детства до манифестации заболевания, а глубина проникновения в симптом зависит от силы его Эго. Тем не менее, симптом может нести в себе универсальные смыслы, на глубинном уровне объединяющие пациентов в одну категорию, что позволяет рассматривать различные виды расстройств как следствие одних и тех же травматических событий. Как отметил Юнг (цит. по: Вудман, 2006), «чем более физиологическим является симптом, тем больше в нём коллективного и универсального, символическое рассмотрение симптома может стать уникальным переживанием, по мере того как он обретает уникальные индивидуальные черты». Символические репрезентации симптома могут появляться в сновидениях, архетипических образах и фантазиях пациента, и на основе полученной в процессе терапии символической продукции можно строить предположения о внутреннем смысле заболевания. Таким образом, видимый физический симптом является лишь способом, посредством которого болезнь манифестирует себя, при этом истинной причиной расстройства является глубокий внутренний конфликт, скрытый в бессознательной части психики пациента, иными словами, симптом является дорожной картой, ведущей в глубины деструктивный природы заболевания, где на самом дне коренится стремление психики к большей дифференциации. Проводимое терапевтом и пациентом в терапевтическом процессе совместное исследование того, в какой миф, сказку, символ, метафору или архетипический образ встроен симптом пациента, а также, как психическое нарушение, вызванное внутренним конфликтом пациента, проявляется на телесном уровне, может дать лучшее понимание динамики возникновения расстройства и привести пациента к осознанию смысла симптома и следующему вслед за этим принятию вызывающих конфликт низших и наиболее отвергаемых аспектов себя, то есть собственной тени (см. 1.1), что ведёт к интеграции сознания (Стайн, 2014) и, в итоге, к исцелению.
1.1 Структура психики по Юнгу.
Для более глубокого понимания юнгианского подхода к проблеме РПП необходимо определить основные понятия аналитической психологии и рассмотреть структуру психики, предложенную Юнгом (см. Рис. 9), или «Юнговскую карту души» [Стайн, 2014]. Юнг определяет Эго как центр человеческого сознания, то есть состояния бодрствования, являющегося входом во внутреннюю область человеческой психики, «центр поля сознания, который обладает в высокой степени непрерывностью и тождественностью» [Юнг, 2018, с. 475], при этом часть психики, состоящую из легкодоступных мыслей, воспоминаний и чувств, Юнг обозначает как Эго-сознание. Эго можно сравнить с видимой над поверхностью воды вершиной айсберга, размер которой ничтожен по сравнению с гигантской глыбой, скрытой в глубинах океана, «оно не тождественно с психикой в целом, а является лишь комплексом среди других комплексов» [Юнг, 2018, с. 476]. А эта глыба, представляющая часть психики, находящуюся вне сознательного наблюдения, носит название Бессознательное, содержание которого состоит из вытесненных мыслей, образов, эмоций, забытых воспоминаний, а также материалов, которые никогда не осознавались. Юнг пишет, что «совершенно невозможно указать, каков объем бессознательного, то есть какие содержания оно включает в себя. Эти вопросы решает только опыт…, но опыт ничего не может поведать о том, чем может быть бессознательное содержание» [Юнг, 2018, с. 416]. Но всё же опыт позволяет установить различие между Личным и Коллективным бессознательным. Личное бессознательное охватывает все приобретения личного существования, в том числе забытое, вытесненное, воспринятое под порогом сознания, подуманное и прочувствованное. В нем содержатся автономные психические структуры, называемые Комплексами. Подробно комплексы будут рассмотрены ниже (см. 1.3), так как именно эти психические образования обуславливают возникновение и развитие РПП. Коллективное бессознательное содержит Архетипы, то есть изначальные образы, – врожденные потенциальные структуры воображения, мышления и поведения, а также Архетипические образы – психические паттерны мышления и поведения, являющиеся общими для человеческого вида и обнаруживающиеся в сновидениях, а также в таких культурных материалах, как мифы, сказки, религиозные символы. Эго выделяется из бессознательного в норме на третьем году жизни ребенка, в тот момент, когда ребенок начинает осознавать себя отдельным от мира и говорит о себе «Я». Для того чтобы быть признанным во внешнем мире, получать заботу, любовь и внимание, ребенок начинает развивать Персону – психический аппарат для взаимодействия между индивидом и обществом, отвечающий за социальную идентичность. Для формирования персоны все социально одобряемые качества индивид выдвигает на границу контакта с миром, вследствие чего в него психике происходит расщепление, «он обманывает по крайней мере других, а часто и самого себя, относительно того, каков его настоящий характер; он надевает маску, о которой он знает, что она соответствует с одной стороны, его собственным намерениям, с другой – притязаниям и мнениям его среды, причем преобладает то один, то другой момент» [Юнг, 2018, с.419]. Персона зачастую характеризуется недостатком соотнесенности, связанности, иногда даже слепой неосмотрительности, опрометчивости, «склоняющейся лишь перед жестокими ударами судьбы» [Юнг, 2018, с.419]. При этом отрицательные, неодобряемые и неподдерживаемые аспекты личности прячутся вглубь психики, формируя Тень – компенсаторную структуру по отношению к идеалу эго и персоны. Тень составляет часть личного бессознательного, поэтому в большинстве случаев не осознается и возникает в виде образов сновидений, а также в виде проекций во внешний мир, при которых с целью защиты происходит экстернализация содержания бессознательного. В результате формирования персоны и тени в психике происходит расщепление, препятствующее Индивидуации – психическому процессу, который ведет к осознанию целостности, ощущению психической сложности и полноты. Процесс индивидуации разворачивается на протяжении всей жизни и имеет своей целью развитие и реализацию индивидуальной личности. Индивидуация происходит в процессе выстраивания в психической структуре человека оси Эго – Самость, где самость понимается как источник всех архетипических образов и врожденных психических тенденций структурирования, порядка и интеграции. Юнг определяет самость как «целостный спектр психических явлений у человека. Она выражает единство личности как целого… она представляет трансцендентальное понятие, поскольку оно предполагает существование бессознательных факторов… она представляет собой некое бытие, которое может быть описано лишь частично, так как другая часть остается неузнанной и беспредельной… Эмпирически самость проявляется в сновидениях, мифах, сказках, являя персонажи неординарной личности, такие как король, герой, пророк, спаситель и т.д., или же в форме целостного символа – круга, квадрата, креста, квадратуры круга и т.д… её символы обладают нуминозностью, т.е. априорной эмоциональной ценностью, как в случае мандалы. Таким образом, самость утверждает себя как архетипическую идею, отличающуюся от других идей тем, что она занимает центральное место благодаря значительности своего содержания и своей нуминозности» [Юнг, 2018, с. 453-454]. Таким образом, самость – это идеальная сущность, субъект всей психики, включающей бессознательное. Она включает в себя и эго, являющееся всего лишь субъектом сознания. Связь эго с самостью обеспечивается глубинными структурами Анима и Анимус, лежащими на границе коллективного бессознательного и являющимися своего рода мостами. Анима – это архетипический образ вечного феминного (женского) в бессознательном мужчины, который формирует связь между эго-сознанием и коллективным бессознательным, это психическая энергия, которая дает возможность открыть путь к самости. Юнг рассматривает понятие анимы как синоним к слову «душа» в данном аспекте. В одной из своих главных работ «Психологические типы» он пишет: «под душой я мыслю определенный, обособленный функциональный комплекс, …душа как анима… есть внутренняя установка, обращенная к бессознательному…, анима содержит те общечеловеческие свойства определяемости и слабости, которых совершенно лишена его (человека, прим. авт.) внешняя установка, его персона. Если персона интеллектуальна, то душа, наверно, сентиментальна. Характер души влияет, несомненно и на половой характер. Женщина, в высшей степени женственная, обладает мужественной душой; очень мужественный мужчина имеет женственную душу. Чем мужественнее его внешняя установка, тем больше из нее вытравлены все женственные черты; поэтому они появляются в его душе» [Юнг, 2018, c. 421-422]. Анимус – архетипический образ вечного маскулинного (мужского) в бессознательном женщины, который формируют связь между эго-сознанием и коллективным бессознательным, это психическая энергия, потенциально открывающая путь к самости. Юнг отмечает, что «самые женственные женщины часто оказываются в известных внутренних вопросах неисправимыми, настойчивыми и упрямыми, обнаруживая эти свойства в такой интенсивности, которая встречается только в внешней установке у мужчин… если у мужчины во внешней установке преобладает логика и предметность, то у женщины – чувство. Но в душе оказывается обратное отношение: мужчина внутри чувствует, а женщина – рассуждает» [Юнг, 2018, с.422]. Психологический процесс индивидуации тесно связан с Трансцендентной функцией, «именно эта функция открывает те индивидуальные линии развития, которых никогда нельзя достигнуть на пути, предназначенном коллективными нормами» [Юнг, 2018, с.429]. На всем пути индивидуации психикой производится непрерывная работа по соединению и удерживанию противоположностей, присутствующих в любом понятии и явлении, при этом возникает трансцендентная функция, то есть психическая связь, созданная между эго-сознанием и бессознательным. Юнг описывает трансцендентную функцию как «уничтожающую расщепление и властно направляющую силу противоположностей в одно общее русло. Этим застой жизни устраняется, и жизнь получает возможность течь далее с новыми силами и новыми целями» [Юнг, 2018, с. 460]. Трансцендентная функция является неотъемлемой частью индивидуации и переживается как опыт встречи с нуминозным, божественным, она есть жизненный символ, в результате работы которого становится возможным исцеление травмированных частей психики, а также осуществляется доступ к неисчерпаемому творческому потенциалу, что приводит в итоге к полной реализации личности.
1.2. Роль инициационных процессов в формировании психической структуры зрелой личности.
На пути индивидуации человек походит несколько этапов, причем этот процесс протекает не линейно, а, как правило, через кризисы, выход из которых зачастую представляется крайне затруднительным. Психике требуются определенные механизмы, без которых благополучное разрешение кризиса не представляется возможным, что может с большой вероятностью приводить к возникновению и развитию расстройства. Американский философ и исследователь мифологии Мирча Илиаде [Элиаде, 2002] предложил взгляд на расстройство, а также сопутствующие ему страдания и одиночество, как запрос на процесс инициации, который можно рассматривать в качестве символического возвращения к хаосу с целью подготовки перехода в новое качество. Неотъемлемой частью инициационного процесса является ритуал перехода с одной жизненной стадии на другую. Ритуал (от лат. rite – обряд, церемония) – символическое, внерациональное действие, в котором отсутствует практическое целеполагание, например, священная трапеза в любых её видах не имеет целью утоление голода и жажды, посредством ритуала люди выражают то, что для них важнее всего. [Козлов, Марин, 2013]. Ритуал перехода помогает человеку преобразовывать индивидуальные страхи и амбивалентности в традиционные визуализированные действия, в коллективную сопричастность, обеспечивающую индивиду новую идентичность и уверенность в групповой принадлежности, результатом чего становится уважительное отношение и принятие новых членов сообщества [Кирилюк, 2019]. Таким образом, чтобы личность могла перейти на новый этап своего развития или в новую категорию, в психике должен свершиться определенный универсальный, или сакральный, процесс, закрепляющий окончание, то есть символическую смерть, предыдущего этапа развития, с тем чтобы произошло рождение новой идентичности. Иными словами, только ритуал может превратить мальчика или девочку во взрослого человека. Ритуал инициации по Илиадэ [Илиадэ, 2018] состоит из трёх частей или фаз. Индивид переживает сакральное пространство только в фазе 2, центральной, в то время как в фазах 1 и 3, начальной и завершающей, все действия происходят в профанным, то есть обыденном пространстве и времени. Профанное пространство отличается от пространства сакрального тем, что в нём нет фиксированной точки или центра, дающего возможность ориентации, то есть профанное пространство не имеет axis mundi (оси мира), не имеет космического древа или тотемного столба, ведущего в небеса и обеспечивающего связь небес и земли. Это и есть переживаемый опыт современности: люди не могут определить центр, а значит, они не имеют возможности ориентироваться в мире. Невозможность «определить центр соответствует невозможности обнаружить источник силы, необходимый для регенерации, символически это неспособность обнаружить пуповину или грудь матери» [Козлов, Марин, 2013, с. 28]. Эту силу может дать только пространство сакральное, наполненное мощным смыслом. Американский юнгианский аналитик Роберт Мур в своей книге «Архетипы» рассматривает пространство сакральное как проявление потребности человека в трансцендентном, то есть принципиально недоступном опытному познанию, выходящим за пределы чувственного опыта [Мур, 2014]. Ритуал является основным механизмом сакрализации, то есть придания трансцендентного смысла профаническим феноменам и передачу особой чудодейственной силы явлениям мира. Фрейд в своей работе «Тотем и Табу» раскрыл значение ритуала как «возвращения вытесненного» [Фрейд, 2022]. Французский этнограф ван Геннеп в работе «Обряды инициации» впервые сформулировал концепцию обрядов перехода или инициации, посредством которых в родоплеменных культурах подростков принимают в круг взрослых, его выражение «сепарация от детского статуса» означает пересечение границы или limen (порог – лат.), затем пребывание посредине и между состояниями, и наконец – вступление в то, что называется агрегацией, или обретение нового статуса взрослости [Геннеп, 1999]. Ван Геннеп определил ритуал перехода как «обряд, который сопровождает любое изменение места, состояния, социальной позиции и возраста», он показал, что все подобные обряды отмечены утроенной прогрессией последовательных ритуальных стадий: 1) сепарация, когда человек отделяется от ранее фиксированной точки в социальной структуре; 2) лиминальная стадия, когда состояние человека двойственно: он более не находится в прежнем состоянии, но и не достиг нового; 3) агрегация, когда человек вступил в новое стабильное состояние, сопровождаемое новыми правами обязанностями [Геннеп, 1999]. Вдохновленный концепцией ван Геннепа английский антрополог Виктор Тернер в книге «Символ и ритуал» предложил свой взгляд на ритуал перехода, сформулировав его в терминах структуры: сначала прежняя структура, затем антиструктура, наконец новая структура. Для обозначения промежуточной, транзитной фазы он также использовал термин «лиминальное», это лиминальное состояние служит посредником между прежним и новым состоянием социального порядка, оно рассматривается как «межмирное», «межвременное», «ни здесь, ни там» [Тэрнер, 1983]. В лиминальном пространстве-времени люди ведут себя совсем иначе, нежели в структурированным, человек выходит за рамки прежних норм, и при его участии создается нечто новое, противостоящее прежнему опыту. В структуре переходных состояний первым порогом является выход из обыденного состояния в сакральное после того, как человек услышал «зов» новой фазы своей жизни. Этот мучительный период жизни можно считать временем, проведенным в подземном мире или в «чреве зверя» – до того, как индивид сможет шагнуть за второй порог в обычный, профанный мир, который Тернер называет «альтернативной структурой». Этот трехчастный цикл, который Юнг полагал встроенным в человеческую психику [Юнг, 2013], выражен в разных мифологических традициях, такая структура является основополагающей для человеческого опыта во всех культурах вне зависимости от обрядово-ритуального материала или мифологических паттернов, вросших в него. Мур рассматривал процесс психоанализа как инициационный процесс, в котором выделял два уровня: 1) микроуровень, в таком случае лиминальным состоянием является каждая отдельная аналитическая сессия, во время которой запускается триада: обыденное состояние (профанное по Элиаде) [Элиаде, 1994], лиминальное состояние (сакральное по Элиаде) – и возврат к обыденному, профанному состоянию [Мур, 2014], и даже знаменитую фразу Фрейда о том, что «в бессознательном нет времени» можно трактовать как признание особого режима перехода во время аналитической сессии; 2) макроуровень, на котором в качестве сакрального пространства-времени рассматривается уже не отдельная аналитическая сессия, а весь период анализа [Мур, 2014]. По завершении анализа человек опять возвращается к обыденной жизни, но уже в новом качестве, прошедшим некое сакральное испытание, в этом случае лиминальность охватывает долгий период, в течение и по завершении которого происходят глубинные трансформации психики пациента. Юнг сравнивал это лиминальное аналитическое пространство между аналитиком и пациентом с алхимическим сосудом [Юнг, 2008], в котором обрабатывается до готовности prima materia, а об аналитических отношениях он говорил как о реторте трансформации, то есть по Юнгу анализ и есть то самое сакральное пространство, в котором может произойти не свершившийся по каким либо причинам процесс инициации пациента.
Таким образом, если по каким-либо причинам процесс инициации не состоялся, то в психической структуре личности не происходит необходимых изменений, в результате чего может образовываться повреждение, проявляющееся в дальнейшем в виде физического симптома. С этой точки зрения нервная анорексия, дебютирующая, как правило, у девочек-подростков в период начала пубертата, является патологической попыткой создания ложного ритуала перехода путем отказа от еды, таким образом девочка добивается противопоставления своего тела материнскому через похудение. Основной задачей, которую эго подростка должно решить в период пубертата, когда одновременно происходит трансформация тела и психики, а тело приобретает особую значимость и влияние на психологические переживания, является выход из идеальных отношений слияния с матерью, при этом девочка переживают неконтейнирумую тревогу по поводу своей сексуальности и меняющегося женского тела, но в силу инфантильности своего эго она не в состоянии перевести свои переживания и мысли на символический уровень и потому выражает открытый протест против требования принять новую, женскую идентичность. Приравнивая аспекты материнской функции лишь к еде, она отказывается от неё, останавливая физическое развитие патологическим телесным отыгрыванием, что дает временное снижение тревоги перед страхом взросления за счет обретения ложного контроля над телом, а значит, над собственной жизнью. [Хирш, 2018]. Ожирение, как противоположный анорексии полюс РПП, также дебютирует в пубертате, когда слабое эго ребенка, сталкиваясь к глубинными, бессознательными архаическими силами, вызывающими смешение инфантильной и сексуальной тревоги, необходимой для разрыва уроборической связи с матерью, не выдерживает их влияния. Возникающие при этом сильные переживания, такие как необъяснимый и неконтролируемый страх, ощущение одиночества и сосущей пустоты, требующей немедленного заполнения, подталкивают подростка действовать надежным и проверенным способом, а именно, обратиться к еде как символическому акту возвращения к Великой Матери [Нойман, 2018; Хирш, 2018] и слиянию с ней, то есть к глубокому регрессу психики. Вместо необходимого в этот переходный момент процесса инициации, осуществляется ложный ритуал перехода, дающий временное облегчение: чувство заполнения тревожащей пустоты, которое испытывает подросток в момент насыщения, наполняет его покоем и блаженством, но вместе с тем засасывает и не дает двигаться и взрослеть, делая невозможным рождение новой идентичности. Данные психические процессы обуславливаются и усиливаются определенной констелляцией родительских комплексов в бессознательной части психики девочки-подростка, характерной для данной группы расстройств, а именно сочетанием отрицательного материнского комплекса и положительного отцовского комплексов [Вудман, 2017; Каст, 2016].