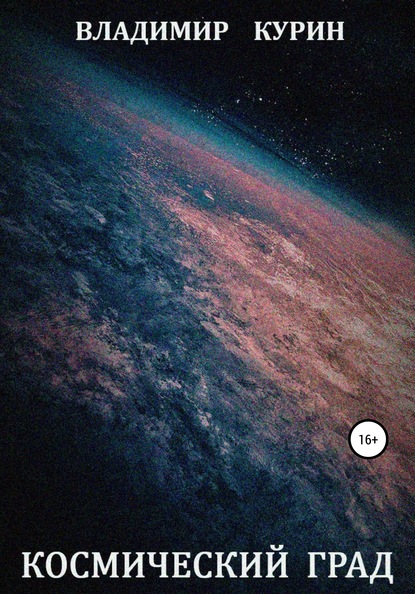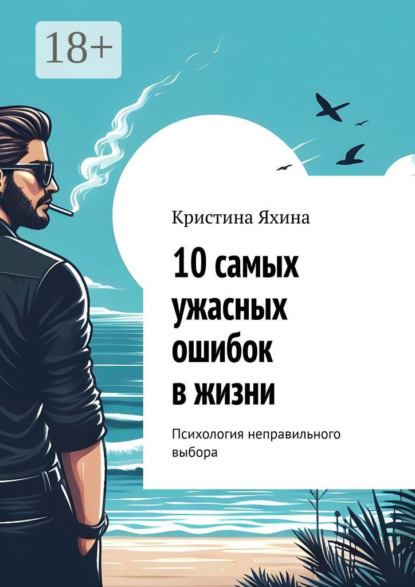Фронтовое причастие. Люди и война
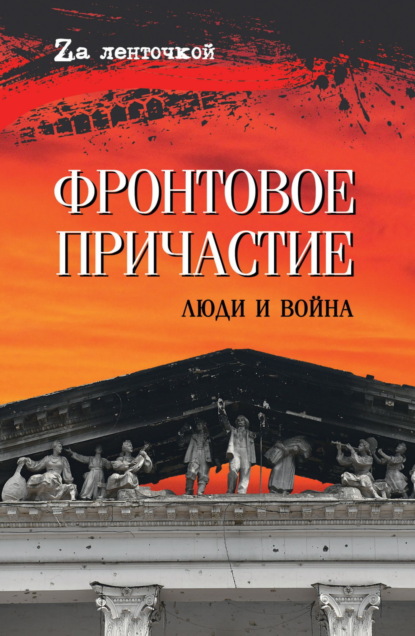
- -
- 100%
- +
– Страшно? – спросил Вася-зэк у Яско. – Страшно умирать?
Яско вздохнул так, что под тельняшкой громко захрустели кости и отрицательно покачал головой.
– И мне не страшно, – сказал Вася-зэк.
Не дошли бандеровцы до оставшихся в живых ополченцев совсем немного, метров пятнадцать всего оставалось, когда их веселые вопли неожиданно оборвал резкий скрип крупной стадвадцатимиллиметровой мины.
Шлепнулась мина прямо в толпу. Попадание было почти прицельное, в окоп к ополченцам даже залетела чья-то оторванная рука. Рука была еще живая, на ней шевелились, скрючивались и распрямлялись белые, испачканные грязью пальцы. Особенно много грязи было под ногтями. Значит, это была рука окопника, рядового бедолаги, скорее всего, обычного безропотного украинского парубка, которого бандеровцы забрили к себе в рабство.
Толпа, только что паровозно ревевшая, размахивавшая руками, остановилась. Тут в нее легла вторая мина, разметала сразу десятка два крикунов… Остальные «продолжения банкета» ждать не стали, поспешно развернулись и помчались назад.
Бежали уже молча, без единого вопля, даже ни одного вскрика не прозвучало – только испуганные протяжные хрипы, рвущиеся из глоток, сипение и стоны, ничего другого не было. Еще – лошадиный топот.
Просьба о помощи, с которой «Солдат» обратился к артиллерийскому начальству, сработала – огневая помощь пришла.
Яско переглянулся с Васей-зэком.
– Очередная отсрочка, – мрачно молвил Вася. – Спасибо. Только надолго ли?
Это никому из окопников не было ведомо, на каком бы участке фронта они ни находились. Вася-зэк, словно бы смеясь над самим собою, удивляясь тому, что произошло, прохрюкал что-то в кулак, хотя хрюканье это было печальным, даже очень печальным. И это было естественно.
Вскоре пришла поддержка, точнее смена – целая рота бойцов народной милиции. К вечеру они распределились по окопам, заняли обжитые бойцами прежнего состава точки, выдвинули перед собой пулеметы.
Окопная жизнь с ее неожиданностями, с постоянной напряженностью, когда надо брать на заметку все, даже тявканье полевой лисы и карканье ворон, с внимательно прислушивающимися к пространству людьми двинулась дальше. Мичман Яско – теперь уже бывший мичман, это окончательно осталось в прошлом, – отныне старался иметь при себе во всяком бою хороший запас патронов. И если можно было где-нибудь отхватить цинковый ящик для собственных нужд, он обязательно старался завладеть этим ящиком. Это было очень важно. Особенно перед каким-нибудь наступлением.
Патроны в бою, запас их (желательно побольше) – это возможность не только победить, но и сохранить себе жизнь. Будет жив солдат – победа тоже будет.
Историй, когда до смерти оставалось совсем чуть-чуть, половинка шага, – с Яско случалось много, так много, что и вспомнить их все трудно, может быть, даже невозможно, но главное не это, главное, бандеровцы стали опасаться и, прежде чем напасть на какую-нибудь женщину и уволочь ее в кусты, они теперь оглядывались, даже головы втягивали в плечи – а не окажется ли где-нибудь неподалеку защитник несчастных?
В ополчение часто приходили люди совершенно не обстрелянные, неумелые, влекомые одним стремлением – защитить тех, кто не может сам защитить себя, отбиться от бандеровцев, от их наскоков, обиженных на собственной земле.
Как-то в один из трудных моментов, когда бандеровцы снова лавой двинулись на ополченцев, желая выровнять линию фронта, Яско обнаружил неподалеку в окопе мальчишку – вчерашнего школьника, приехавшего откуда-то из-под Новокузнецка – из Сибири, в общем, – который, прячась за бруствером окопа, вздергивал над собою автомат и стрелял вслепую, с двух рук, поднятых над головой.
Опустошив один рожок, он отщелкнул его от калашникова, вставил новый и пошел стрелять дальше. Таким же макаром, – зажмурив глаза и вслепую поливая пространство свинцом. Других методов стрельбы он, похоже, не знал совсем.
В первую же передышку Яско переместился к этому «гадкому утенку».
– Парень, ты чего делаешь? – хотел было дать «стрелку» подзатыльник, но сдержал себя.
А тот готов был даже заплакать, поскольку в бой попал прямо с автобуса, никем не подготовленный, не проинструктированный, не обученный – времени для этого просто не нашлось.
– Дядя Толя, я в армии не был, не успел, поэтому не знаю, что надо делать. Мне только показали, как заряжать автомат, а больше… больше ничего не показали.
– Пока делай, как я, повторяй за мной все, а кончится бой, я тебя малость потренирую… Но если дальше будешь жечь патроны, вслепую поднимая калаш над бруствером, получишь по шее. Понял?
Когда бандеровцы отступили на свои позиции, Яско показал ему, как можно в мгновение ока избавиться от опустевшего рожка и вставить новый, как держать автомат, чтобы не было рассева пуль, что делать, если в калашникове перекалился ствол, как прикрываться бруствером и одновременно видеть все, что находится в зоне огня, и так далее – в общем, познакомил с обычными вещами, которые должен знать всякий боец. Урок был недолгий – это же не полковая школа и не курсы по обучению младших командиров, сержантов и ефрейторов, в заключение Яско вздохнул и неожиданно спросил у юного добровольца:
– Все-таки, зачем ты сюда приехал?
– Как зачем, дядя Толя, как зачем? Здесь же русских столько времени убивали лишь за то, что они русские… Разве так можно? Это геноцид. Я не мог оставаться в стороне.
– Ты хоть школу-то окончил?
– Я – студент второго курса института.
– Сбежал, значит… Из института сбежал.
– Не сбежал, а взял академический отпуск.
– Тебя, такого правильного и ясноглазого, здесь убьют и спрашивать, в отличие от меня, не будут, кто ты и что ты? Вначале надо пройти науки, понять, как правильно воевать, вести себя в бою и вообще, что делать, чтобы остаться живым, а уж потом определять себя в окоп, – Яско снова вздохнул. Про себя он уже решил, что присмотрит за этим пареньком, прикроет, ежели чего, поможет, но при первой же возможности постарается отправить в Россию – пусть обдумает все и вообще… вообще пусть доучивается в институте. Доучится и ему сразу видно станет, под какой куст надо прыгать и что там делать, возвращаться в донбасские окопы или поступать в военную академию… Чтобы стать настоящим командиром.
Если, конечно, не убьют, то в жизни парня откроется много новых дорог…
Паренька не убили. Яско сделал все, чтобы его не убили – прикрывал, учил, натаскивал, и когда, уже в позднюю пору того чумного года, в морозы и снег, собрался ехать в Москву, чтобы малость перевести дыхание, посмотреть, все ли дома в порядке, не болеет ли жена и что там с сыном, взял с собою и этого бойца. Тот к этому времени уже научился немного воевать, не боялся ни пуль, ни осколков, довольно точно соображал, где находятся наши, а где бандеровцы, по полету пуль, мин и снарядов мог многое определить и вообще был готов к продолжению окопной жизни, но Яско все равно заставил его собрать вещи… Парень должен был вернуться домой, к матери, вновь возникнуть в институте и сесть за парту.
В Москве Яско сам проводил его на вокзал, не поленился, не пожалел времени, чтобы посадить в вагон, побыл с ним немного в купе, поглядел, как парень укладывает свои кульки на багажную полку (матери своей купил гостинцев – для отвода глаз, чтобы она ни о чем не догадалась), и когда тот закончил кульковые хлопоты, сдавил ему ладонь своей лапой:
– Спасибо тебе за все… Ты молодец, что приехал в Донбасс, честь и хвала тебе, но ты должен для начала закончить свой институт. Это прежде всего. Кроме института – живи, создавай семью, рожай детей, определяйся с работой по профессии и вообще постарайся подрасти еще немного, понял? – Яско сжал руку пареньку еще сильнее. – Но если увижу тебя снова на фронте в Донбассе, без диплома в кармане – пристрелю, не жалея… Ни капли жалеть не буду.
Парень, кажется, все понял. А Яско стоял на перроне под стылым дождем, идущим вперемежку со снегом, не уходил – хотел убедиться, что парень этот славный действительно отправится домой.
Когда убедился, что поезд ушел, покинул вокзал. В этом был весь Яско с его характером, убеждениями, желаниями, умением добиваться цели и всякое дело доводить до конца.
Через месяц Яско снова вернулся в окопы. Со многими, кто там находился, он практически уже побратался и последние патроны свои обязательно делил поровну, между всеми; как и последнюю горбушку хлеба, последнюю щепоть соли. Произошло то самое, что никогда уже не выветрится из организма, останется в нем навсегда – окопное братство проникло уже в кровь, в душу, в кости с мышцами…
Яско был не из тех людей, кто легко меняет свои убеждения, точку зрения по какому-нибудь конкретному поводу, привязанности к человечеству вообще или к человеку в частности. Одно только он не мог осознать, точнее, не мог понять ни душой, ни мозгом: неужели бандеровцы – это украинцы, которых он очень хорошо знает? Может, они совсем иного происхождения? Неземного или подземного? Кто ответит на этот вопрос?
Понятно было только одно: ополченцы воюют не с Украиной, не с братьями-хохлами, хотя и на украинской земле, а с последователями пресловутого, давно уже сопревшего Степана Бандеры. К братьям бандеровцы имеют примерно такое же отношение, как Яско к канадским лесорубам, ничего, кроме изжоги не вызывавшим. Никогда бандеровцы братьями не станут, никогда и ни за что.
По возвращении Яско был зачислен в 6‑й отдельный казачий полк имени атамана М.И. Платова, поскольку к казакам имел самое непосредственное отношение: Острогожск в прошлые времена был сторожевым казачьим городком. Крепостью, иначе говоря, охранявшей Русь от набегов с юга. А оттуда было, кому набегать.
Командовал полком известный на донбасской земле человек – полковник П. Дремов. Полковник обратил внимание на новоприбывшего, доверил ему взвод, довольно расхлябанный даже по вольным казачьим меркам. Яско сумел быстро наладить порядок во взводе, за что его бойцы поначалу невзлюбили, а потом, наоборот, полюбили, а затем вывел взвод в передовые, лучший во всем полку. Через некоторое время Яско сдал взвод другому командиру.
Самому Яско надлежало теперь учиться – он был направлен на офицерские курсы. Все было верно, образование-то у Яско имелось лишь гражданское – мореходное училище. Теперь надо было приобретать образование воинское, иначе никакого движения вперед у него не будет.
Вышел Яско с курсов лейтенантом и получил назначение к полковнику Ермаку в танковый батальон. Батальон этот боевой входил в состав казачьего полка. Должность Яско занял приметную – заместителя начальника штаба по воспитательной работе и параллельно – проверяющего службу в батальоне. Для наших армейских порядков и правил звучит такая сдвоенная должность несколько необычно, внове – особенно по части проверки службы, но лейтенанту Яско это понравилось, он залез в новое дело с головой и вскоре стал одним из наиболее толковых офицеров в гвардейском казачьем полку.
Если случались боевые стычки, то Яско, видя айдаровцев или азовцев, обязательно брал их на мушку и стрелял, не раздумывая, что же касается простых украинцев, обычных солдат, попавших в армию (в ВСУ, так принято нынче говорить) по насильной мобилизации, необученных, то Яско не отстреливал их, как куропаток, старался этого не делать, жалел… Это тоже было понятно.
В донбасских окопах он был лихим бойцом, толковым командиром, а когда приезжал в Москву, то по виду своему, по манере держаться, вести себя мало чем отличался от обычного заштатного пенсионера. Что было, то было. Как ни странно, в казачьих полках служили не только истовые рубаки, наследники славы дедов и прадедов, но и откровенные лентяи, бездельники, специалисты по части посидеть за столом и, выпив чего-нибудь, погорланить громко, считая, что они исполняют старинные походные песни… Насчитывалось таких артистов немного, пальцев двух рук хватит, но тем не менее такие бойцы были.
Яско, чтобы выявить их, отделить от других – груз ведь лишний для батальона, предложил командиру провести учения.
– Нахлебников выявим как пить дать – такое он сделал заключение.
– Как конкретно ты их выявишь? – спросил командир батальона. – С помощью лакмусовой бумажки? Бездельников с помощью лакмусовой бумажки не проймешь, не проверишь… Рентгеном тоже не проверишь.
– Нам ничего не надо будет делать, товарищ полковник, они сами выявят себя, вот увидите… Слово даю. Как червяки полезут в норы, стоит только объявить об учениях.
Полковнику идея понравилась, он, прикинув про себя все за и против, помозговав немного, решительно взмахнул рукой:
– Что ж! Пусть будут учения, давай проводить…
Слушок о надвигающихся учениях в тот же день прошелестел по батальону, словно стремительный вечерний ветер, и лентяи, как и предполагал Яско, не замедлили проявиться – очень скоро они стали вылезать на поверхность, как суслики, чьи норы залила вода. Один деятельный танкист начал очень рьяно, громко жаловаться на скачущее давление, второй – кивать на заболевшую матушку, пышущую розовым румянцем особу сорока двух лет от роду, третий – изображать из себя кормящего отца, который даже на пять минут не может оставить младенца, четвертый – жаловаться на колики в животе, которыми еще двадцать минут назад совсем не пахло… Набралось таких в батальоне, как и предполагал Яско, не более десяти человек.
– Картина ясная, написана не маслом, а, извините, творогом, – сказал командир батальона. – С собой этих людей не берем, чтобы перед самими собою не было неловко.
Тревогу объявили ночью, выдвинулись двенадцатью машинами.
В округе было тихо, словно бы и не существовало никаких боевых действий, осложнений, стычек или еще чего-то со стрельбой, взрывов и хмельных воплей «Слава Украине!».
Пару машин отправили в боевое охранение: неприятная ситуация могла возникнуть в любой миг, хотя ночь прикрывала их надежно и в принципе задачу свою выполнила на все сто, до утра их никто не засек.
Один промах все же был – ночью, в темноте, когда все кошки кажутся серыми, они малость заплутали и нет бы им остановиться, разобраться, выставить пешую разведку, понять, что к чему, и на рассвете двинуться дальше, но этого танкисты не сделали…
Когда рассвело, выяснилось, что они километров на двадцать, а то и на все двадцать пять забрались на украинскую территорию. Впереди, по пути располагался небольшой город. Яско, загоревшись, немедленно насел на командира:
– Давайте возьмем его! Ударим с тыла и возьмем.
Командир батальона в ответ лишь покачал головой.
– Нет.
– Давайте все-таки возьмем его, а, товарищ полковник!
– Хотелось бы это сделать, но нет у нас такого приказа!
– За это точно героя республики дадут… Ну давайте возьмем!
– Нет. Я – человек приказа, будет приказ – выполним немедленно, а так… Брать город не будем, будем отходить.
Тут их и засекли – перехватили радио, посланное с командирского танка. Мигом зашевелился, зашипел вокруг танкового порядка эфир, недалеко на большой высоте вышли два вертолета ВСУ – гражданские Ми-восьмые, переделанные, как когда-то в Афганистане, в военные. Вертолеты не заметили их – пора была предрассветная, серая, в которой все предметы растекаются, теряют очертания, внизу мало что можно было разобрать.
– Скоро они нащупают нас, тогда все – обстановка раскалится по-серьезному, – сказал командир батальона, покачал головой. Хоть и был он человеком военным, а хорошо понимал, что воевать «по-серьезному» со своими же братьями по роду-племени надо, пожалуй, только в крайнем случае. Граница ЛНР была уже совсем недалеко.
Через несколько минут по танкам начали бить все стволы, которые находились в округе примерно тридцати – сорока километров. В свое расположение колонна вернулась, к сожалению, с потерей – погиб один из механиков-водителей. Увы, так получилось… Но зато батальон почувствовал вкус к дальним броскам, к позиционным перемещениям, поближе познал, что такое боевое братство, понюхал запах снарядов, бьющих по родным машинам…
Вернулся Яско в казарму, а там из дома сразу два письма, в них слова трепетные: «Товарищ ополченец, возвращайся поскорее домой, не то без тебя плохо. Совсем плохо!» Опечалился Анатолий Геннадьевич. Даже отличная новость о присвоении ему звания капитана (минуя чин старшего лейтенанта – сразу четыре звездочки на погоны), не выровняли настроение…
Надо было хотя бы на неделю поехать домой, успокоить жену, сына, который тоже стал военным человеком, армейским специалистом, оглядеться, посмотреть на соседей, показать себя, сходить в баню и попить пивка в Острогожске… Хоть и не хотелось расставаться с батальоном, а он все-таки решил поехать домой – слишком уж настойчивые письма приходят оттуда. Да и с другом своим давним и добрым, с Геннадием Андреевичем Зюгановым надо бы повидаться, поговорить по душам. Может, Яско чего-нибудь не понимает, оценивает не так? Все-таки украинцы – братья, близкие люди… Что с ними происходит? Почему они подстелились под Европу, под америкосов, под фашизм?
Когда прибыл домой, то первым делом, даже раньше стопки «С прибытием-с!» собрал «тревожный чемодан» – набил свой вместительный рюкзак всем необходимым, чтобы в любую минуту можно было подняться и пуститься в обратную дорогу – к своим, на донецкую землю.
Так оно и произошло. Когда наступило «время Ч» – 24 февраля 2022 года, Яско попрощался с женой, с сыном и отправился в родной казачий полк.
Правда, на этот раз оказалось – чтобы пересечь границу, нужно было иметь на руках в два раза больше разрешительных бумаг, вызовов, предупреждений, инструкций, справок, квитков, описей и так далее: война войной, а бюрократия бюрократией… Бюрократия – штука неистребимая. При всех властях и всех революциях.
Через два дня он находился уже в своем полку.
Яско, в отличие от других смертных людей, знал дату своей кончины – число и месяц, не знал только года, – знал и то, что кончина у него будет солдатская, на поле боя. Относился к этому спокойно, поскольку бессмертных людей, как ведомо, не бывает. Сообщили ему об этом святые старцы – мудрые, спокойные, в древних одеяниях, красивые и величественные…
К слову, говорили старцы на языке, бытовавшем на Руси, наверное, тысячу лет назад, еще до Рюриковичей, и он их хорошо понимал, как и они хорошо понимали, что он им отвечал – на том же старинном русском языке. Общение происходило словно бы в эфире, в воздухе, слова хотя и не звучали, но он их слышал, они возникали у него в мозгу, – святые старцы сообщили ему, что умрет он девятого мая… В светлый для каждого русского человека день.
Он погиб 9 мая 2022 года, во второй половине дня в Луганской Народной Республике, при штурме укрепрайона «Пятое Золотое Орехово»; это, повторюсь, под Первомайском. В тот день он, чувствуя развязку, в передышках раз сорок звонил жене, хотел попрощаться – не получилось… Связи не было. Около тридцати раз попробовал связаться с сыном Валерием – тоже не получилось.
Тело его Валерий Яско забрал в Ростове, в военном госпитале. Привезли тело на КамАЗе. Одет капитан Яско был во все новенькое, в берцах – ребята из штурмовой группы постарались проводить своего командира по-христиански и это у них получилось. Был чисто выбрит – перед боем 9 мая побрился, а до этого несколько недель не брился вообще, не до того было, – оставил только усы. Лицо спокойное, словно бы Яско уснул, – поспит немного и проснется.
Когда тело осматривали следователи – они должны были подписать протокол – Валерий находился с ними. В теле отца были лишь две крохотные дырочки, похожие на уколы, и все – это были следы осколков, – выходное отверстие сзади, на спине было одно… Значит, один осколок остался в теле.
После осмотра Валерий сел рядом с отцом на табуретку, взял его руку в свою и затих: это было прощание, которое не требовало слов. Потом он рассказал, как ему было трудно, на плечах висела непомерная тяжесть – груз, который может понять только человек, потерявший родителей, – но пока он сидел рядом с отцом, тяжесть эта растворилась, ее не стало. Ну словно бы поговорил с ним по душам, наказ получил, даже пожаловался ему, как в детстве, и отец успокоил его, все разъяснил…
За стенами госпиталя стояла ночь, шел уже двенадцатый час, это была последняя ночь, которую он проведет с отцом… Вместе с офицерами-дознавателями Валерий вышел за стены госпиталя, на пустой скамейке расстелил скатерку, которую специально взял с собой, разложил еду, привезенную из дома, открыл бутылку водки. Там и помянули отца – по-офицерски, по-походному – времени уже было очень много…
А через двадцать минут майор Яско уже ехал в машине на север, в Воронежскую область, в Острогожск, вез тело. До церемонии похорон оставалось совсем немного – несколько часов.
Всю дорогу, глядя, как под радиатор ползет серая пустынная лента шоссе, слабо освещенная фарами, Яско-младший думал об отце, вспоминал разрозненные эпизоды жизни, самые разные, вспоминал северные дали, океан и подмосковную тишь, но перед глазами у него почему-то мелькал снег. Снег, снег… Временами снег пропадал, и он вновь оставался наедине со своими мыслями, а значит – один на один с отцом.
Отец мог бы не ехать в Донбасс, мог бы осесть в Москве, вести тихую спокойную жизнь пенсионера, играть в шахматы на скамейке где-нибудь посреди тенистого московского бульвара или в пруду ловить карасей, Надежда Владимировна, супруга, умеет их отлично готовить в сметане, собирать мясистые августовские грибы-боровики и завороженно слушать соловьев в мае месяце – том самом месяце, в котором он погиб, но Яско поехал туда, где было трудно, опасно, он знал, что погибнет и все-таки поехал.
Яско-сын иногда спрашивает себя – смог бы он сам, например, поступить так, как поступил отец, – наверное, смог бы, хотя и допускал некие минуты колебания, а отец не колебался ни минуты, ни секунды, поскольку считал, что убивать русских только за то, что они русские, нельзя; восемь унизительных, очень черных лет уничтожения донбассцев бандеровцами должны навсегда уйти в прошлое и точку на этом преступлении должен поставить справедливый суд.
Жизнь свою он отдал именно за это – человека ведь нельзя ни расстреливать, ни вешать, ни топить, ни сжигать, ни распинать на решетках, стенках, стволах деревьев только за его национальность, что пытались делать бандеровцы и киевские фашисты, – и ни секунды не пожалел, что с жизнью своей расстался…
Виталий Волков
Пёс
Моему другу Мише посвящается
Бывало так, что будучи на даче Виктор Иванович Волхин по несколько дней подряд не брал телефон в руку, не отвечал на звонки. Исключение он делал в двух случаях – если звонила дочь Светлана или внучка Катенька. Обе – в Москве. Когда дочь еще была крайний раз замужем, ее супруга Волхин не жаловал и для него исключения не делал, на звонки не отзывался. Эти трое из семьи были занесены в записную книжку так – Светлана, Катенька, Артист. На даче Волхин проводил большую часть жизни, в город Новгород выезжал по необходимости – за квартирой присмотреть и, изредка, если мастерам-реставраторам требовался его совет, как в храме правильно витражное стеклышко разместить или чеканку на решетке подправить. А храмов в Новгороде – что боровиков в Боровичах. А так – труды праведные по саду, пока свет есть, а жары или стужи – нет. И другое личное – с резцами ли в обеих руках, то в правой, то в левой, чтобы не терять прежней «обоюдорукости», или за холстом, с кистью. Или просто так, у окна, либо на террасе, а то и у самой реки, в молчаливой созерцательности всего того, что вокруг него разлилось, рассиялось или, напротив, спряталось под снегом.
Иное дело – вечером. Вечер – это когда свет тихо гаснет, но еще не потух. Вечер – это книга, это старая газета. Сосед-рыбак обнаружил на своем чердаке целый газетный архив советской печатной продукции – там и «Известия», и «Комсомольская правда», и бесценные журналы «Советский экран» с нормальными красивыми тётями без сережек в носу и зеленых волос, с дядями, похожими на мужчин. Гафт. Еременко. Юматов… Не то что Артист… Журналы сосед отдавал неохотно, а газет не жалел…
Да под треск дровишек в камине усесться в кресле, еще дедовском кожаном кресле. Устроиться, как в детстве, и читать, дремать, шелестеть бумагой. А по ночам – размышлять. Ночь – пространство свободного полета памяти. Для воспоминаний и размышлений. О чем же Волхин размышляет вечерами, сидя в старом скрипучем кресле? К примеру, вот о чем: зачем мазками масла переносить на холст то, что подсмотрел в мироздании, если «то», что сходит с кисти, и без нее уже есть? Вопрос древний, как зрачок человека. И все-таки? Сотворчество с Ним самим? Гордыня? Или другое? Инстинкт и миссия установления связи материального с нематериальным? Но что тут тогда материя, а что – дух? И что – тщеславие? А что если вечность на холсте – это бегство от конечного, от смерти? Или способ спрятать себя от одиночества, щедро дарящего время дня, и занять его тем, что принято считать осмысленным? То есть смысл – он сжирает время, и только? И так – до бесконечности. Интеллект вечерами плодит вопросы-ответы, передает их в ночь по цепочке, от одного к другому, а сон замыкает их в бензольные кольца вплоть до следующего утра… Сон – больше не товарищ, сон – химическая присадка. И к неизбежному столкновению с собственным освобождаемым сознанием с некоторых пор Волхин относится с опаской.