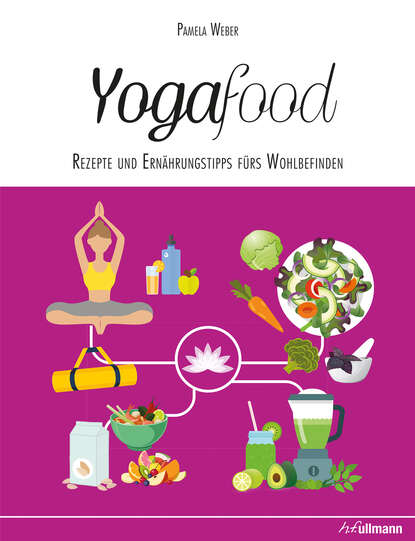Бабий грех

- -
- 100%
- +

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРОЛОГ
На улице сыро и ветрено, а в жилой комнате на верхнем этаже таверны тепло, правда, немного дымно, но терпимо вполне. Женщина стояла у окна и смотрела на голые ветки, дрожащие под ветром, словно в припадке падучей болезни.
Сегодня праздник Крещения Господня, но женщина ушла прочь от надоевшего хлебосольного стола. Убежала от душного веселья в холод ненастья. На душе у неё муторно и гадко: хотелось оказаться подальше от пьяных криков и от глупых ржущих придурков. Как они все надоели!
Хозяин таверны запросил с неё сегодня целых два злотых. Дорого, но она заплатила без разговоров. Главное – спрятаться. От всех спрятаться! От всех…, кроме него. Только он ей сейчас желанен… Только он…
– Это не Крещение, – думала женщина, глядя в серую муть за окном. – Не может быть Крещения без стужи, без разудалой тройки и без пунцового румянца на весёлых лицах. Именно так, катаясь на праздничной тройке в морозный полдень, они и сошлись в прошлом году. Как в тот день было хорошо, а сегодня… Сегодня он не обращал на неё никакого внимания. Она ловила каждый его взгляд, каждое словечко, каждое движение. Всматривалась в его лицо – в самое милое лицо на свете. И ей не хотелось жить без него. Она до крови закусила губу, когда он любезничал с этой сволочью… Какая же она графиня? Это – тварь! Самозванка! А он крутится возле неё, как кот возле горшка со сметаной. Почему? Почему совсем недавно в его глазах она видела только любовь и радость, а сейчас – лишь насмешливый холод?
Расскажи ей кто-нибудь года полтора назад о подобных мучениях, на смех бы рассказчика подняла. Игралась она тогда весело с мужеским племенем и, казалось, что никогда не наиграется. И жизни другой она не представлял. А теперь вот стоит и ждёт: хоть бы пришёл, хоть бы, хоть бы… Она же шепнула ему, чтобы приходил. Он знает куда.
И тут за дверью заскрипели ступени: кто-то поднимался по лестнице. Язычки пламени на свечах задрожали.
– Это он! – затрепетало и сердце влюблённой женщины. – Он! Он! Он!
Только это был не он, а совсем другой. Страшный и ненавистный! Злодей выследил её! Когда-то она была с ним, но это было когда-то, а теперь ей нужен другой! Она ждёт любимого, а не это чудовище!
– Ждёшь меня? – криво усмехнулся вошедший. – Я давно заметил, как ты там на ассамблее егозила. Ха-ха-ха! Стосковалась?
– Нет!
И откуда у нее смелости набралось: ответить дерзким «нет» незваному гостю? Видно, нечистый за язык несчастную дёрнул.
– Нет?! – взревел проклятый гость, хватая женщину за волосы. – Я тебе сейчас покажу: «нет»!
От чудовища пахло вином, табаком и ещё чем-то до тошноты противным.
– Отпусти! – заголосила несчастная. – Спасите! Люди добрые! Спасите!
Приоткрылась дверь и в комнату заглянул хозяин таверны. Он хотел что-то сказать, но изверг швырнул в него тяжёлым подсвечником и дверь быстро захлопнулась.
– Спасите! – еще громче завопила женщина, но сразу же поперхнулась от крепкого удара по лицу и смолкла.
А злодей ударил еще раз и стал срывать праздничное платье. Затрещала, разрываясь, атласная ткань, женщина истошно закричала от боли.
– Дура! – рычал взбесившийся изверг. – Сына мне родишь! Я так хочу!
– Нет! – завопила несчастная, но ещё один удар по лицу заставил её замолчать.
– Родишь! Я сказал!!!
МЁРТВЫЙ МЛАДЕНЕЦ
1
– Да кого же я пошлю на розыск этот? – нервно чесал вспотевший затылок дьяк Тайной канцелярии Сидор Акимыч Писарев.
– Кого? Все кто посмышленей в Москве остались. Разбираются там по делам изменным сына государева – Алексея Петровича. Прости его, Господи… Вот ведь чего наворотил непослушанием своим… Ой, ой, ой… Теперь дел там невпроворот. Измена – дело серьёзное! Лучшие из лучших стараются. Со мною же сюда приехали, чтоб на новом месте обжиться: дурак да убогий; убогий да дурак и никого более. Прости, Господи, за мысли такие, только другого про них ничего и не скажешь. Дрянь – людишки… Петру-то Андреевичу чего? Распорядился и всё тут, а я вот в раздумьях теперь, как муха в паутине.
Сидор Акимыч остановился возле крепостных ворот, хотел караульного солдата за что-нибудь отругать, но тот так уважительно да ловко вскинул фузею на плечо, что расхотелось дьяку ругаться и думы противные опять одолели его убелённую сединами голову.
– Действительно, – думал Писарев, медленно шагая по крепостному двору, – послать некого. Да и дело-то, яйца выеденного не стоит, по чести сказать. Подумаешь, ребятёнка мертвого в уборной царского сада нашли. Чего тут особенного? Эка невидаль? Не мужика, не бабу, а младенца, едва рожденного. Он и не крещеный, поди. И уборная даже не во дворце, а в саду только. В нынешние времена разве этим кого удивишь? Сейчас народец уж больно бойкий пошёл. Особенно здесь – в столице новой. Ох, бойкий… За всеми только ухо востро и держи… И никто бы внимания на этого ребятёнка и не обратил, да только бес какой-то самого графа Петра Андреевича Толстого к той уборной подогнал. Того самого Толстого – какого Государь недавно ведать над всеми розыскными делами государства поставил. Граф, как раз приехал по делам переезда Тайной канцелярии в новую столицу похлопотать, и вот на тебе – катавасия какая. Точно, без нечистого не обошлось. Ой, Господи, прощения у тебя прошу вновь за мысли подлые.
Писарев остановился, перекрестился, посмотрел в ясное небо, почесал спину, хотел еще немного посетовать в мыслях своих, но, вспомнив строгий лик начальника, одумался.
“Однако, с другой стороны Петр Андреевич тоже прав, – уже спокойнее мысленно рассуждал седовласый дьяк, – безобразий с непристойностями непомерно твориться стало. Младенец – он тоже человек. По образу и подобию, так сказать… И никому не позволено жизни его лишать. Грех это! В былые-то времена поскромнее народ был, а сейчас распустились окаянные, ничего не боятся. Из-за немцев всё это. Из-за них поганых. Они только с виду чистенькие да пригоженькие, а души-то у них, поди, почернее наших будут. Как дальше жить?”
Сидор Акимыч несколько раз радостно перекрестился, услышав в небе колокольный звон, как бы подтверждающий его подозрения о свойствах иноземных душ, и толкнул кованую дверь крыльца крепостного каземата, принадлежащего теперь строгому государственному учреждению по розыску тайных дел и всяческих недостойных помыслов.
В просторном помещении было пусто и тихо так, что дьяк не сразу и заметил троих служивых, двое из которых суетливо пихали под стол большой кувшин, а третий, подперев ладошкой румяную щеку, внимательно следил за жирной мухой на тусклом оконце. Муха натужно жужжала и рвалась из тёплой неволи на прохладную свободу, раз за разом ударяясь головой о толстое стекло. Дура, чего с неё взять…
– Ишь, засуетились бесовы дети, – ухмыльнулся Писарев, – опять без меня вином баловались. Ничего не боятся, ироды окаянные. Напрочь весь страх потеряли. Думают, что если меня за старшего здесь поставили, то теперь им и можно всё. Вот погодите, я вам ужо покажу. Погодите, погодите…
Сидор Акимыч подошел к столу, хлопнул по нему сухой ладошкой и, как ему показалось, грозно рыкнул на нерадивых починенных:
– Что же вы братцы службу-то царскую так плохо несете? Али совсем весь стыд потеряли? А?
Эти два подьячих, начавшие службу свою давным-давно в Преображенском приказе, были на все руки мастера: могли писать, могли пытать или бежать куда-нибудь да искать чего-нибудь с проворством молодой лисы. Вот только вести жизнь праведную у них никак не получалось. Это их иеромонах обители Спаса Нерукотворного Арсений, втайне от братии балующийся сочинением душещипательных виршей, как-то принародно назвал «наперсниками разврата». А ещё подьячие любили молоть языком без всякого зазрения совести и часто, невзирая на лица. Как по делу языки трепали, так и без наличия оного, как вот сейчас, например.
– Ты чего, Акимыч, опять от Толстого нагоняй получил? – громко захохотал в ответ подьячий Стеньша, подмигивая своему соседу Афоне и выставляя напоказ видавшие виды остатки желтых зубов. – Чего сердитый такой? Новая метла метёт больно! Так привыкай, раз в начальство на старости лет выбился. Ты, чем пыхтеть да сопеть, лучше бы винцом нас угостил да обмыл с нами назначение свое новое. А то скоро приедут сюда все из Москвы, тебя опять к нам за стол посадят, и кончится твое начальство не обмытым. Вот обидно-то будет. А, Акимыч… Ха-ха-ха!
Дьяком Писарев стал недавно, а до того сидел с этими обалдуями плечом к плечу за одним столом, потому Сеньша с Афоней и то и дело поднимали хвост, от зависти, поди. Дескать, сидел с нами десять лет на одной лавке, а теперь: фу-ты, ну-ты ноги гнуты – начальник. Знамо дело, обидно подьячим, вот они обиду свою через разные шутки да прибаутки выказывают.
“Сунуть бы им сейчас кулаком в рыло, – мечтательно подумал дьяк, примеряясь: кого бы первым «угостить», но быстро передумал. Не до ссор сейчас…”
Писарев посмотрел исподлобья на развеселившихся подчинённых, степенно развернулся к дверям и хотел уж прочь выйти, но тут заметил широко улыбающуюся юную физиономию третьего присутствующего в избе. Сидор Акимыч прихватил смешливого курносого парня за ухо и выволок на крыльцо.
– Ты-то чего зубы скалишь? – визгливо заорал Писарев на испуганного юнца, – А? Кто тебе позволил смеяться над начальством, бесово отродье? А? Да знаешь ли ты, сколько я лет по розыскному делу? Тебя ещё на свете не было, а я уже в разбойном приказе душегубов ловил, а ты только и умеешь, что мух на окне давить! Смотри у меня, мне тебя на дыбу подвесить, как на забор плюнуть. Ты щенок ещё! На этих-то кобелей не очень-то смотри. Понял?! На них клейма уж негде ставить, а ты на поводу у прохвостов, как дитё неразумное себя ведёшь. Смеётся он! Кто тебя надоумил над начальником насмехаться? Ух, смотри у меня!
Сидор Акимыч выпустил красное ухо провинившегося подчиненного и хотел в довесок к своим словам одарить нерадивого юнца еще и оплеухой, но вдруг ни с того ни с сего передумал. Он остановился на полузамахе, чего-то хмыкнул, важно одернул кафтан и уже спокойно, но чрезвычайно строго приказал юноше:
– Ты, это, вот чего, бездельничать прекращай и давай-ка к делам присматривайся. Пора уже. Хватит подьячим за вином бегать да болтовню их непристойную слушать. Хорошему они тебя не научат, лучше розыском займись. С этого дня сыщиком будешь вот по такому делу: сегодня утром золотарь Никита Ковшов соизволил чистить отхожее место в царской половине сада, то, что у фонтана поставлено. И вычистил золотарь оттуда, на нашу с тобой беду, младенца мертвого. Вот я и велю тебе убийцу младенца найти, допрос с него взять, да на бумаге всё чин по чину написать. Потом бумагу ту мне принесёшь, чтоб всё честь по чести было. Понял? Срок тебе на это… Ну, скажем…, десять дён. Не исполнишь в срок дела, так я тебя самого на годик в подвальный каземат посажу. На сухари гнилые да воду вонючую. Уразумел? Для науки…
Парень закачал головой во все стороны, покраснел как свекла, несколько раз приоткрыл рот, что-то попытался сказать, но ничего внятного вымолвить так у него и не получилось.
– Как звать-то тебя? – уже добрее поинтересовался Писарев, помогая парню немного прийти в себя после серьёзного потрясения. – А то сидишь в избе третью неделю безмолвно, аки рыба налим под корягой.
– Тимоха я, Скорняков – на одном выдохе крикнул юнец и опять стушевался. – Скорнякова Трифона сын…
– Знаю, что Скорняков, – вздохнул дьяк. – Ты давай, Тимоха, не стой здесь на крыльце столбом, а к золотарю двигай – розыск чинить. Всем кто мешать надумает, суй кулак в рыло и говори, что тебя из Тайной канцелярии послали. А если кто совсем обнаглеет, так ты «слово и дело» крикни, тогда у любого буяна разума прибавится. Не рассусоливай ни с кем. Самых наглых сюда тащи. Сеньша с Афоней жизни их быстро научат. А душегубца сыщи мне, как можно скорее. Уразумел? Дело-то государственное. Ух, смотри у меня, сыщик…
Писарев шагнул к двери, но тут же обернулся.
– И еще вот что, – сказал он, вынимая из кармана бумагу, – если кто-то уж очень особо артачиться начнёт, бумагу покажешь. Это записка Петра Андреевича Толстого с печатью. Особо ею не размахивай, но в случае чего не стесняйся и показать. От этакой бумаженции с печатью Петра Андреевича у самого черта душа в пятки спрячется. Уразумел?
Тимоха спрятал бумагу за обшлаг рукава, еще немного потоптался на крыльце, почесал свои непокорные вихры и ринулся по тропинке в сторону царских палат.
А когда он выходил из крепостных ворот, то лоб в лоб столкнулся со своим дружком – Никишкой Сорокиным. Вернее, с бывшим дружком. Никишка, где-то с год назад, пристроился прислуживать в царском дворце. Как уж у него получилось такое счастье за хвост ухватить, никто не ведает. Но гордый теперь стал Никишка – непомерно. Ни с кем из бывших друзей даже не здоровается, дескать, не ровня вы мне. Вот и сейчас, вознамерился Тимоха приятелю доброе слово сказать, но тот бочком- бочком, морду в сторону и припустил мимо друга, прямо к крыльцу канцелярскому. Тимоха только плюнул на след Никишкин и прошептал чуть слышно.
– Футы-нуты, ножки гнуты прибежали из дворца…
Про «футы-нуты» он часто слышал от Сеньши с Афоней, а потому и не преминул к случаю этой забавной присказкой воспользоваться. В другой раз Тимоха ещё и палкой бы в спину Никишки швырнул, но сейчас не до этого. Важные дела ждали впереди парня, и потому он быстро почесал спину об угол каменного столба и помчал к царскому золотарю, что есть духа. А начальник Тимохи смотрел ему вслед из окна и улыбался.
– А здорово я придумал, что этого дурня послал, – мысленно хвалился сам перед собой смекалкой Сидор Акимович. – Придет завтра Петр Андреевич с вопросом: как дело им порученное продвигается, а я ему этого Тимоху неразумного подставлю. Пусть беседуют. Вот смеху-то будет. Пусть, пусть, а то смеяться надо мной надумал. Стервец! Да и Петр Андреевич, может, поймет тогда, что, действительно, мне на розыск поставить некого, а не поймет, то с меня тоже взятки гладки. Мне сказано, на розыск человека поставить, я поставил. Кто же виноват, что тот ума недалекого? Других-то нет. Пожалуйте довольствоваться тем, что в наличии имеется. Эх, прости меня, Господи. Авось, пронесет…
Писарев почесал бок, снова приоткрыл дверь на половину подьячих и крикнул туда самым что ни на есть начальственным тоном:
– Сеньша! Выдь-ка на крыльцо! Сказать чего хочу!
Сеньша объявился мгновенно, будто у порога уже сидел. Вышел подьячий на скрипучие ступеньки крылечка, заметно подволакивая правую ногу, и голову сивую перед Сидором Акимычем склонил, вроде как, с уважением, но глазом своим наглым так и зыркает исподлобья, совершенно неподобающим образом. Отчаянной хитростью сверкает подьячего взгляд. Понял пройдоха, зачем его позвали и руку бесстыдную свою, ладошкой вверх уже протягивает. Писарев бросил в ладонь дьяка пару монет, махнул рукой и выдал очередное начальственное напутствие:
– Сбегай давай к немцам, принеси чего надо. Только быстро. Уразумел? Одна нога здесь, а другая, чтоб там. И смотри у меня, Сеньша…
– Не изволь беспокоиться, батюшка, благодетель ты наш, – заржал Сеньша и бойко захромал по грязной тропинке, браво отмахивая в такт своим неровным шагам обрубком левой руки.
Подьячий вышел за ворота, а взор Сидора Акимыча упал на Ерёму Паука. Ерёма доглядывал за крепостным двором. Он постоянно ходил возле крепостных ворот с метлой или с мешком для сбора мусора. Одна нога у Ерёмы плохо гнулась, была короче другой, а потому передвигался он всегда как-то боком, но очень быстро и почти бесшумно, ну, чистый паук. Ещё Паук резал скотину для крепостной поварни. Вот и сейчас готовился обратить в мясо молоденького телёнка, какого привели ему на заклание из городского стада. Телёнок не понимал, для чего его привели к каменной стене, а потому пробовал играться с человеком в выгоревшей черной рясе. Он легонько бодал еще безрогой головой Паука в бок, а тот не сердился совсем на это бодание, даже наоборот, ласково чесал телёнка за ухом.
“Какой славный человек, – поди, думал глупый телец до тех пор, пока славный человек молниеносным движением не вонзал ему под грудину острый длинный нож”.
Бил Паук ловко: одним ударом и точно в сердце.
– Удалец, – вздохнул Сидор Акиммыч, когда телёнок упал к кривой ноге Паука. – умеет же, стервец. Приласкал чуточку, погладил и … Вот, хитрец!
Вздохнул дьяк, перекрестился и побрёл к своему широкому столу, ждать Сеньшу да слушать подлые разговоры Афони. Пока больше делать было нечего. Все тяжкие думы на сегодня он передумал. Пора и честь знать.
2
Тимоха же, тем временем уже переправился с крепостного острова на городскую пристань и, что есть духу, припустил в сторону царского дворца. Погода на улице в этот год случилась странная. День Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных на дворе, а теплынь, словно на Петров день. Сколько себя помнит Тимоха, никогда такой погоды не бывало.Небо ясное, солнце яркое ь теплынь несусветная! Шагал парень ходко, распахнув на груди кафтан и часто утирая рукавом взмокший лоб.
Хоромы царского золотаря Ковшова располагались недалеко от главных ворот дворцового сада, но не на главной прошпекте, а чуть в стороне. Как и полагается по званию золотаря и его почёту. Важная он шишка, но до главной прошпекты пока ещё не дорос.
С наскока проскочить под очи повелителя всех царских выгребных ям у Тимохи не получилось. Встал грудью на нужном крыльце чернявый мужик с кривым носом. Мужику, видимо, скучно было стоять на крыльце без дела, потому он сразу же запетушился и дерзко столкнул Скорнякова с тесаных ступенек на жухлую сырую траву.
– Не велено никого принимать, куда прёшь! – заорал благим матом холоп, – Никита Савич из бани только что пришли и чаю заморского откушать пожелали. Всех велел от крыльца прочь гнать. Много вас тут шатается. На работу сейчас никого не берём. А ежели по другому делу, то завтра! После полудни, когда Никита Савич работу свою справит да в баню сходит.
Только Тимоха и не подумал отложить назавтра то, что ему велено сделать как можно скорее Он набычился и опять на крыльцо полез. Холоп такому обороту не особо удивился, он привык, что каждый второй с первого раза ничего не понимает, а потому дерзко схватил штурмующего наглеца за грудки. И сошлись они в схватке рукопашной! Сопят, жилятся, гнут друг друга, но одолеть не могут. Тимоха-то крепким парнем был, но и мужик оказался – не промах. Вёрткий. Мялись они, мялись, доски крылечка гнули да ломили, но ничего не добились, а только с крыльца в грязные заросли лопуха шлепнулись! А как оказались в мокрой траве, так вроде и остепенились слегка: вместо драки поговорить решили.
– Ты кто? – полюбопытствовал Скорняков.
– А ты? – не остался в долгу местный страж хозяйских ворот.
– По поручению я.
– Так я тоже по поручению. На воротах мне велено стоять и не пускать никого. Вот я и стою на страже, а ты чего прёшь?
– А мне надо…
Драчуны встали, отряхнулись, расступились и стали решать, что делать: дальше драться за свою правду или пойти на мировую, а потом хитрость какую-нибудь придумать. С хитростью намного проще сильного противника одолеть. Только не успели забияки ничего путного для себя решить. Богатая, обитая еловыми досками дверь широко распахнулась и на крыльцо степенно вышел сам хозяин – Ковшов Никита Савич.
– Что за шум?! – рявкнул он хриплым баском. – Ты чего ж Митроха так за крыльцом плохо следишь? Почему на ступенях грязь? Почему мне покоя нет?
– Да вот, Никита Савич, – испуганно запричитал Митроха, – прет этот дурень, как бык после зимы. Спасу от него никакого нет. Я ему и так и эдак, не велено, мол, не пускаю на крыльцо, а он дерется. Может, солдат из караула крикнуть?
– Погоди солдат звать, погоди, – махнул рукой Ковшов. – С этим ухарем нам самим по силам разобраться. Не велика шишка. Неужто не сдюжим? А, Митроха?
– Да, конечно же, сдюжим, Никита Савич, – заулыбался кривоносый молодец и опять изготовился к ристалищу. – Мы с вами вместе, Никита Савич, любого…
– Ну, сказывай, собачий сын, – отмахнулся от подобострастного лепета слуги царский золотарь, – для чего по чужим дворам шляешься? Ты ведаешь на кого хвост поднял?
– И не шляюсь я ничего, – ловко обогнув холопа, Тимоха рванулся и выскочил к самому носу важного золотаря. – Я из Тайной канцелярии послан по важному делу. К тебе, стало быть, Никита Савич! Вот у меня и бумага есть!
– Из тайной! – удивлённо переспросил Никита Савич, внимательно осмотрев бумагу, а про себя подумал. – Интересно. Сегодня с утра Толстой Петр Андреевич обещал самых лучших людей на розыск по моей находке поставить, так, значит, это и есть самый лучший. Вот так да. Неужто так оскудела канцелярия тайная, что конопатых мальцов по важным делам гонять стали. Чудеса. Чего творится на белом свете?! К царскому дворцу стали таких молокососов без всякого зазрения подсылать. Да, ладно бы просто к царскому дворцу, а то ведь прямо в моё хозяйство. В самое скрытное – из всех мест дворцовых. Неужто докатились мы до такого безобразия? Для другого места ты, может быть, милок, в самый раз бы подошел, но сюда тебя зря послали. Зря, ой зря.
Никита Савич уважал себя непомерно, хотя вслух об этом говорил редко. А как не уважать, если он с самой тайной сущностью высших лиц государства ежедневно соприкасался. То, что он каждый день видел, простому смертному видеть никогда не суждено. Тут любой возгордится. Вот потому и не особо приятным показался золотарю тот факт, что прислали к нему по важному делу не серьёзного человека, а какого-то замухрышку-несмышлёныша.
“Надо при случае намекнуть кому следует на такую несправедливость, – думал Никита Савич, разглядывая юнца. – Это потом, а пока…”
Царский золотарь вздохнул тяжело, поморщился, и еще раз окинув Скорнякова с ног до головы недовольным взором, молвил, стараясь придать лицу непроницаемо важную мину:
– Из Тайной канцелярии, говоришь. Ну, пойдем раз из тайной. Что же творится-то такое на белом свете, Господи? Что ж там никого другого не нашлось?
– Не нашлось, – буркнул Тимоха, покраснев как маков цвет.
– Не к добру всё это, – буркнул себе под нос золотарь. – Чудеса… Ну, пойдём…
Ковшов неуклюже спрыгнул со ступенек к зарослям крапивы, поморщился, поглаживая коленку, и призывным жестом поманил за собой Тимоху.
– Пошли, соколик, клад тебе отдам, – беспрестанно бубнил золотарь. – Он мне ведь теперь вроде без надобности. Я своё дело сделал – нашёл. Теперь, это счастье твое, по праву, так сказать, службы казенной. Пойдем. Из тайной канцелярии он…
Тимоха презрительно зыркнул на опешившего холопа и со всех ног бросился в зелено-желтую чащу, намереваясь грудью, презрев жгучие укусы коварного сорняка, проложить путь к выполнению государственного дела. Да только недолго этот подвиг длился. Цель похода оказалась рядом. Это небольшой замшелый погребок с крепкой дверью. Ковшов по-хозяйски быстро рванул украшенную бледной плесенью дверь и ступил на скользкие ступени, круто уходящие вниз. Тимоха тоже решил не отставать от хозяина, но на второй ступеньке поперхнулся. Злой дух, так крепко шибанул парня в нос, что не удержался герой, закашлял и пустил легкую слезу. Хотя и вырос Тимоха в простой семье, хотя и к разным нехорошим запахам сызмальства привычен, однако такого духа, как в погребке, нюхать ему ещё не приходилось. Удивительно противный дух. Пришлось выпрыгнуть на улицу.
– Инструмент я здесь свой храню, – неторопливо принялся рассказывать Никита Савич, спускаясь по скрипучим ступенькам в подвал. – И находку сюда положил. Видишь, какое дело-то… Я сегодня утром пошёл уборную в саду чистить, воды туда с бочку налил и стал ковшом черпать. А как по-другому, по-другому никак… Сначала всё чин по чину пошло, а потом вижу на дне свёрток какой-то. Сбегал я за багром и вытащил свёрток тот наверх. Гляжу: сверху одеяло стёганное. Я его развернул, в сторону отбросил и обомлел. Гляжу – ребятенок мёртвый лежит. Прости меня, Господи. Вот этот самый. На, забирай.
Ковшов на редкость резво вынырнул из подвала и сунул в руки Тимохи сырой желто-коричневый сверток.
– Ты чего? – опешил парень, пытаясь увернуться от дара, весьма неприглядного: как по внешнему виду так и по запаху. – Зачем мне это? Не надо!
– Как так «не надо»? – удивленно запустил в правую ноздрю указательный палец Никита Савич, удерживая в одной руке мокрый сверток. – Ты для розыска пришел али как?
– Для розыска.
– Тогда бери и разыскивай, а мне с тобой лясы некогда точить. У меня чай на столе стынет. Иди, голубь, нечего тут без дела тереться. Некогда мне. Из Тайной канцелярии он… Ишь ты, подишь ты, не надо ему… Бери, давай! А то сейчас огрею ковшом, чтоб особо не кочевряжился.
Никита Савич насильно сунул свою ношу в руки смущенного парня, развернул его да крепко подтолкнул под спину, потом по тому же месту добавил холоп Митрошка. Осмелел при хозяине, скотина. Стукнул подлец исподтиха и сразу же убежал за крыльцо, а Тимоха остался один при своем интересе да еще с вонючим свертком на руках. Вонял сверток так, что сыщику еле-еле удавалось совладать с тошнотой. Всё, что съел Тимоха сегодня утром, так и просилось наружу. Очень хотелось забросить этот поганый свёрток куда-нибудь подальше и отмыть руки в отваре полыни, но служба есть служба. Пришлось терпеть.