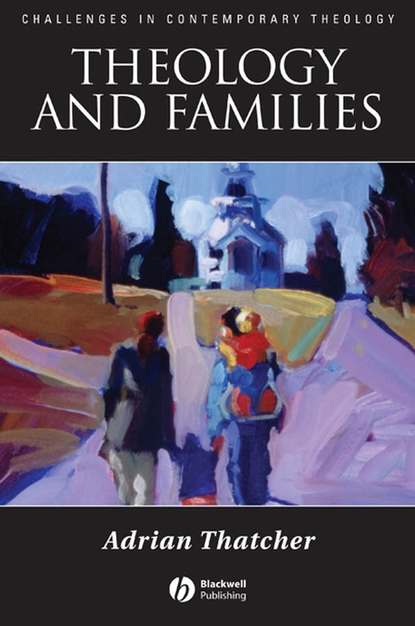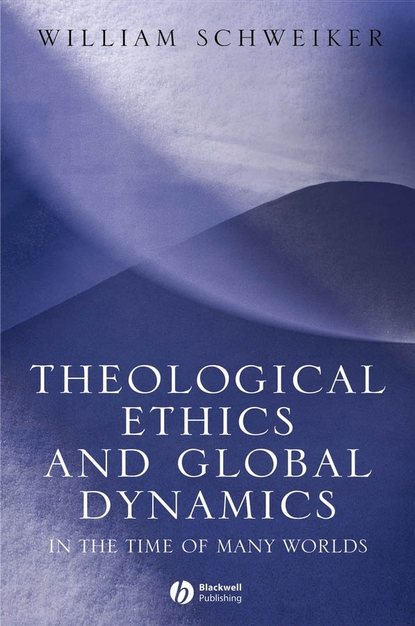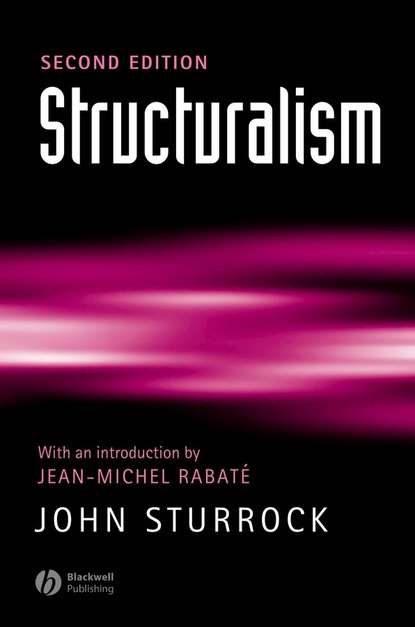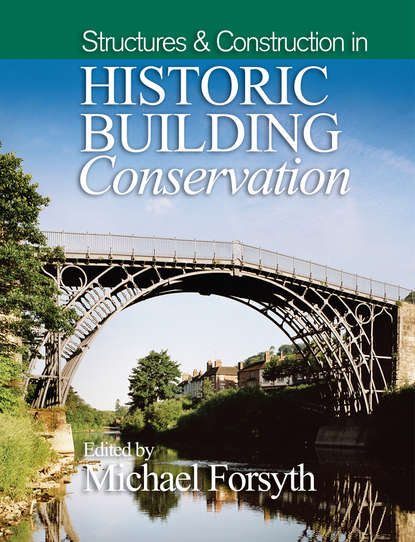Ледяная подача

- -
- 100%
- +
Чёрные лосины, просторная тёмно‑синяя толстовка, та же спортивная сумка через плечо. Волосы убраны в тугой, безупречный пучок – ни одна прядка не выбилась. Всё чётко, выверенно, до последней детали.
Казалось, она идёт не на каток, а на защиту диссертации. На важное, ответственное мероприятие, где каждая мелочь имеет значение.
– Привет, – бросил я, стараясь, чтобы голос звучал легко, небрежно. Чтобы не прорвалось то напряжение, которое стягивало плечи и сжимало горло.
– Здравствуйте, – ответила она.
Опять это «здравствуйте». Холодное, официальное. Как будто мы не вчера едва не разорвали друг друга на части, а впервые встретились в приёмной ректора.
Я протянул ей коньки:
– Держи. Попробуй, подойдут ли.
Она взяла их, внимательно осмотрела, взвесила в руке, скользнула взглядом по лезвию.
– Хоккейные?
– Ну да, – я пожал плечами, стараясь не выдать неловкости. – Других под рукой не было. Справишься?
– Разберусь, – ответила она.
Развернулась и направилась к лавкам.
Я не отрывал взгляда от того, как она садится, неторопливо развязывает шнурки на кроссовках, аккуратно ставит их рядом. Даже в этом – порядок, чёткость, ни единого лишнего движения. Она достала толстые носки – оказывается, предусмотрела, – и принялась зашнуровывать коньки. Не спеша, но и не мешкает. Каждое действие – выверенное, будто она заранее проработала весь алгоритм. Никакой суеты. Никакого страха.
Внутри у меня что‑то ёкнуло. Я ждал, что вот сейчас, когда она встанет, начнётся привычная картина: неуверенная походка «на пятках», руки, судорожно ищущие баланс. Но она поднялась – и пошла. Не шаркала, не балансировала, а именно ставила ногу. Походка вышла немного скованной, непривычной, но… твёрдой. В ней чувствовалась настоящая закалка, что живёт в мышцах, в осанке, в самом ритме шагов.
Мы вышли на лёд.
Холодный воздух обдал лицо, в ушах зазвучало гулкое эхо пустых трибун. Запах свежезалитой поверхности – такой родной, такой привычный – ударил в ноздри. Арена почти пуста: лишь в дальнем углу пара фигуристов отрабатывала прыжки, рассекая тишину ритмичными ударами лезвий.
Я оттолкнулся, скользнул вперёд, сделал круг – легко, почти не глядя под ноги. Тело помнило каждое движение, каждый изгиб траектории. Потом остановился перед ней, резко прочертив лезвием стоп‑фронт. Лёд вздрогнул под коньком, оставив чёткий след.
И только сейчас я по‑настоящему осознал: она не боится. Совсем. Ни льда, ни неизвестности, ни меня. А вот я… я вдруг почувствовал, как внутри разгорается странное, непривычное волнение. Что‑то большее, чем просто желание доказать свою правоту. Что‑то, от чего сердце сбивалось с ритма.
– Ну? – бросил я с нарочитым вызовом, стараясь скрыть нарастающее удивление. – Добро пожаловать в моё королевство, принцесса! Давай, показывай, что ты умеешь.
Она лишь кивнула, будто не замечая моего тона. И… поехала. Нет, не так. Она двинулась – маленькими, предельно осторожными шажками, но в них не было ни тени паники. Руки не раскинула в стороны, как делают все новички, а держала слегка согнутыми у живота – точно так, как у конькобежцев. Центр тяжести – низко, почти прижат к льду. Взгляд – не под ноги, а вперёд, на гладкую поверхность, будто она считывала её, изучала, осваивала.
Чёрт возьми. Она не просто «каталась» – она управляла собой. Не хваталась за борт, не вскрикивала от страха, не суетилась. Лицо – спокойное, сосредоточенное. Такое же, как тогда, за ноутбуком, когда она разбирала свои таблицы: ни тени волнения, только холодная, чёткая работа мысли.
Внутри что‑то дрогнуло. Моя красивая картинка «беспомощной принцессы», которую я так старательно рисовал в голове, рассыпалась в прах. Вместо неё – на моём льду, в моём мире – была спортсменка. Не профи, конечно, но человек, который знает своё тело, чувствует его, умеет держать себя в руках даже там, где другие теряют равновесие и уверенность.
– Неплохо, – вырвалось у меня почти невольно. Я подкатил ближе, и голос прозвучал… иначе. Почти искренне. – Для первого раза.
– Это не первый раз, – ответила она, не отрывая взгляда от своих ног. Каждое движение – выверено, каждое положение – продумано. – В детстве катались с родителями. Но… очень давно.
«Очень давно» – а всё равно держится так, будто лёд помнит её. Будто тело хранит память о тех временах, когда она скользила по нему без страха. Большинство после долгого перерыва чувствуют себя на льду как новорождённые жирафы – неуклюже, растерянно, с вечным страхом упасть.
Она попыталась оттолкнуться сильнее – хотела наконец заскользить, а не просто идти по льду. Но толчок вышел неровным: лезвие рвануло вбок, корпус дёрнулся, потеряв равновесие. Руки взметнулись в беспомощном жесте – и прежде, чем я успел подумать, я уже держал её за локоть, не давая упасть.
Контакт. Мимолётный, но пронзительный. Сквозь плотную ткань толстовки я ощутил не хрупкость, а наоборот – тугую, живую упругость мышцы. Она рванула руку назад так резко, будто прикоснулась к огню.
– Я справлюсь.
В голосе – ни тени слабости, только упрямая твёрдость. Я отступил на полметра, сдерживая улыбку.
– Вижу, как справляешься. – Слова вырвались мягче, чем я планировал. – Но если хочешь не «справляться», а именно скользить… Толчок нужно делать не носком, а всем внутренним ребром лезвия. И вес переносить, а не дёргать ногой. Смотри.
Я показал медленно, нарочито чётко: оттолкнулся левой, плавно перетек весом на правую, повёл корпус по дуге. Лёд послушно запел под коньками – знакомый, родной звук.
– Это база. Без неё никуда.
Она молчала, впитывая каждое движение. Потом попробовала. Снова неровно. Снова едва не упала. Но на лице – ни раздражения, ни досады. Только эта… сосредоточенность. Та самая, которую я узнаю из тысячи: взгляд, устремлённый сквозь реальность, сжатые губы, абсолютная отключённость от всего, кроме задачи.
Точно так я сам сижу над чертежами старого И‑16, пытаясь разгадать логику инженера, который создавал его семьдесят лет назад. Тот же огонь в глазах – не азарт, а чистая, беспримесная одержимость.
И вдруг я понял: передо мной больше нет «принцессы» из мира таблиц и графиков. Нет «стервы», которая выводила меня из себя на совещаниях. Есть спортсменка. Такая же, как я. Только её поле боя – не лёд, а цифры. Её движения – не скольжения, а расчёты. Но страсть та же. Одержимость та же.
– Давай ещё раз, – сказал я тихо, без тени насмешки. Просто как данность. – Колено согни сильнее. Вес – на опорную ногу. Не бойся наклониться. Ты можешь.
Она повторила – послушно, как ученик, который доверяет учителю. И на третий раз… получилось. Не идеально, нет. Но лёд наконец подчинился: она скользнула. Метр, два – крохотный прорыв, но в нём уже была победа.
Она не улыбнулась. Не вскрикнула от радости. Лишь чуть приподняла подбородок, а в зелёных глазах вспыхнула та самая холодная искра – не ликования, а чёткого, трезвого удовлетворения от решённой задачи. Как у математика, который вывел долгожданную формулу. Как у инженера, который нашёл слабое звено в конструкции.
– Вот видишь, – произнёс я, и слова повисли в морозном воздухе между нами, неожиданно тёплые, лишённые прежней агрессии.
– Спасибо, – ответила она.
Просто. Деловито. Без лишних эмоций. Но это «спасибо» прозвучало весомо. Она приняла помощь. Не отмахнулась, не превратила в повод для спора. Приняла – и это вдруг показалось мне важным.
Мы кружили по льду ещё полчаса. Я показывал простейшие приёмы: как тормозить «плугом», как входить в вираж, как держать баланс на повороте. Она впитывала каждое слово, повторяла с упрямой, почти пугающей тщательностью. Не ради удовольствия – я видел это. Она не чувствовала того пьянящего восторга от скольжения, который всегда будоражит меня. Для неё это был не кайф, а работа. Ещё один навык, который нужно освоить. Ещё одна графа в списке достижений: «базовое владение коньками».
И это… восхищало.
И одновременно разъедало изнутри.
Я привёл её сюда, чтобы показать её слабость. Чтобы увидеть, как треснет эта безупречная броня самоконтроля. А вместо этого… вместо этого я столкнулся с чем‑то иным. С уверенностью, которая не нуждается в показной браваде. С силой, которая держится не на физическом превосходстве, а на железной способности держать себя в руках – в любой ситуации, на любом льду, в любом мире.
– Хватит на сегодня, – выдохнул я, наконец осознав: она будет кататься, пока ноги не откажутся держать, но сама не остановится. Видел, как даётся ей каждый шаг – мышцы уже кричат от непривычной нагрузки, но в глазах ни тени слабости.
Она просто кивнула. Без споров, без оправданий. Развернулась и медленно поехала к выходу. Движения стали тяжелее, угловатее, но паники – ни намёка. Всё так же ровно, всё так же… контролируемо.
У борта, пока она переобувалась, меня вдруг прорвало. Слова вырвались сами, раньше, чем я успел их обдумать:
– Слушай, Орлова… Ты всегда так? Даже когда учишься чему‑то новому?
Она подняла взгляд. В глазах – усталость, но не изнеможение. Взгляд всё тот же: острый, изучающий, будто она раскладывает меня на составляющие.
– «Так» – это как?
Я запнулся, пытаясь сформулировать то, что царапало изнутри весь вечер.
– Безэмоциональная, как марионетка..
Она замерла на секунду, аккуратно вытирая коньки салфеткой – конечно, у неё была с собой салфетка. Не спеша, точно выполняя ритуал.
– Эмоции мешают концентрации, – произнесла она ровно. – Они – помеха. Особенно когда делаешь что‑то… – она чуть прищурилась, подбирая слово, – …в чём не силён.
Я невольно усмехнулся, опускаясь рядом на лавку.
– В хоккее эмоции – это топливо. Без злости, азарта, радости – это просто механическое перебирание ногами. Просто движение. Без души.
Она помолчала. Впервые за весь вечер в её голосе проскользнуло что‑то, напоминающее неуверенность. Не слабость – нет. Скорее… приоткрытая дверь в иной мир.
– Возможно, – сказала она тихо. – Но в теннисе, если позволить эмоциям взять верх, проиграешь. Даже если ты физически сильнее. Ошибка вчерашнего матча – тому доказательство.
Она произнесла это тихо – как признание, которое рвалось наружу вопреки всей её привычной холодности. В этих нескольких словах было больше, чем два дня напряжённых перепалок. Она признала ошибку. Передо мной. Перед тем, кого считала противником.
Я замер, не зная, что сказать. Слова будто застряли в горле, а в голове крутилось только одно: «Она призналась». Тишина окутала нас, разбавляемая лишь далёким звоном льда под коньками фигуристов – будто чужой, параллельный мир.
– Ладно, – наконец выдавил я, нарушая это странное, хрупкое затишье. – Проект… Насчёт твоих «баз приключений». Может, добавим ещё одну? Сделаем что‑то вроде… мастерской. Где можно что‑то собрать, склеить. Модели самолётов, например.
Голос звучал ровнее, чем я ожидал, но внутри всё сжалось. Я выпустил пробный шар – самое сокровенное, то, что никогда не выносил на люди. Моё тихое, нехоккейное увлечение, спрятанное за броней жёстких тренировок и резких слов.
Она медленно повернула голову. Взгляд – острый, изучающий, будто она пыталась разглядеть за моими словами что‑то большее.
– Модели самолётов? Это… твоя идея?
– Ну да, – я небрежно пожал плечами, изо всех сил стараясь казаться равнодушным. – Детям может понравиться. Развивает моторику. И… это интересно.
Её глаза не отпускали моего лица. И в этот момент мне показалось, что она видит всё. Всю мою неловкость, всю эту внутреннюю борьбу. Видит тот самый угол в квартире, заваленный журналами «Крылья Родины», тюбиками клея и недособранными моделями. Видит то, что я так тщательно прятал за маской уверенного в себе хоккеиста.
– Это, конечно, требует дополнительного расчёта по материалам и безопасности, – произнесла она наконец, и в голосе снова зазвучал привычный деловой тон. – Клей, острые детали… Всё такое. Но мне показалось, что идея имеет потенциал. Поможешь мне с ней? Я не особо сильна в сборке моделей, но знаю, что парням это нравится.
И всё. Ни тени насмешки. Ни привычного «зачем?». Ни снисходительного «мило». Просто – «идея имеет потенциал». Как о любом другом пункте плана.
В этот момент что‑то щёлкнуло внутри. Мы сидели на одной лавке – два спортсмена после тяжёлой, непривычной нагрузки. Враги. Антиподы. Но вдруг… вдруг я ощутил странное родство. Мы оба – упёртые до невозможности. Оба одержимы своим делом. Оба прячем что‑то за фасадами: я – любовь к тихой, кропотливой работе руками, она… а что прячет она за своими безупречными таблицами? Может, там тоже бьётся что‑то живое? Что‑то, что не укладывается в графики и расчёты?
– Хорошо,– выдохнул я, поднимаясь.
Она вскинула глаза – удивлённо, почти растерянно. Это была капитуляция. Моя. Признание, что её «формат» имеет право на существование. Что её подход – не пустое занудство, а система, в которой тоже есть логика. Есть смысл.
– Спасибо, – снова сказала она.
И на этот раз в её голосе проскользнуло что‑то… тёплое. Едва уловимое. На полградуса больше, чем раньше. Но я это почувствовал.
Мы разошлись. Она – своей привычной чёткой, стремительной походкой. Я – с головой, полной сумбура. Мысли кружились, сталкивались, не находили покоя.
Всё пошло не по плану. Совсем. Я не поставил её на место. Наоборот – сам начал сдавать позиции. И самое странное… мне это не было неприятно. Было интересно.
Она оказалась не той, кем я её считал. Не просто безупречным винтиком системы, не «принцессой таблиц».
Она была… сложной. Как чертёж истребителя, над которым я корпел ночами: на первый взгляд – сухие линии и формулы, но за ними – гениальная инженерная мысль, скрытая глубина, своя красота.
И теперь мне, чёрт возьми, хотелось разгадать этот чертёж. По‑настоящему. Дойти до сути. Увидеть то, что прячется за безупречной маской.
Глава 5. Анфиса
Чат «Большая четвёрка» гудел, как улей, но сейчас вибрация телефона не раздражала – она будто держала меня на плаву, была той самой ниточкой, за которую я цеплялась, чтобы не утонуть в хаосе собственных мыслей.
После того вечера на льду всё перевернулось с ног на голову. Я сидела над планом проекта, который уже раз пять пересмотрела, но цифры расплывались, сливались в бессмысленные кляксы. А перед глазами – его лицо. Не то, привычное, с этой его насмешливой ухмылкой, а другое: сосредоточенное, почти серьёзное, когда он показывал, как правильно толкаться ребром лезвия.
И это его предложение про модели самолётов… Оно будто выбивалось из всего, что я о нём думала. Такое тихое, неожиданное. И оттого – пугающее.
Мне отчаянно нужен был кто‑то, с кем можно поделиться. Но признаться в том, насколько я растеряна, казалось равносильным поражению. Поэтому я начала с того, что можно было подать как рабочий вопрос.
Анфиса: Девочки, нужна консультация. По проекту.
Ника: Ты ещё не избавилась от этого примата?!
Рина: Опять он?! Фисек, да брось ты! Скажи, что заболела!
Соня: Что случилось, Анф? Вы снова подрались, как кошка с собакой?
Я глубоко вздохнула, уставилась на экран, будто он мог подсказать нужные слова. Пальцы замерли над клавиатурой. Потом всё же начала печатать – осторожно, словно прощупывая почву.
Анфиса: Мы… Он пригласил меня на лёд. Думаю, чтобы посмеяться.
Ника: НА ЛЁД?! ЭТО ЧТО ЕЩЁ ЗА УНИЖЕНИЕ? И ты пошла?!
Анфиса: Пошла. Естественно не упала, я же умею стоять на коньках. Я просто думаю, что он хотел поглумиться надо мной, но все вышло из-под его контроля.
Рина: Ой, как мило! Может, он не такой уж и козёл?
Ника: Рина, заткнись. Он – тактический козёл. Сначала доверие внушает, потом подставит. Анф, не ведись.
Соня: Стоп. Анфиса, что ты чувствуешь? Злость? Растерянность?
Соня, как всегда, попала точно в цель. Я замерла, пытаясь разобраться в этом вихре ощущений. Злость была – тихая, приглушённая. Растерянность – да, она клубилась внутри, как туман. Но ещё было что‑то другое: странное, щемящее любопытство, от которого становилось не по себе.
Анфиса: Я чувствую, что потеряла инициативу. Он показал мне свою стихию. Теперь логично показать ему мою. И восстановить баланс.
Чат пульсировал энергией – каждой буквой, каждым восклицательным знаком. Я буквально чувствовала, как подруги буквально подпрыгивают у экранов, готовые ринуться в бой – пусть даже виртуально.
Ника: Тащи его на корт! Пусть попробует угнаться за твоей подачей. Размажь его по задней линии, как варенье. Я приду поболеть!
Рина: А можно я приду с попкорном? Это же будет эпичное зрелище! Фисечка против Халкена! Ха-ха!
Соня: Девочки… Анфиса, ты уверена, что это хорошая идея? Не для баланса, а для… тебя? Не превратится ли это в очередное поле битвы?
Я замерла, глядя на сообщение Сони. В груди защемило – она всегда умела задать вопрос, от которого не отмахнёшься. Но внутри уже горел этот странный, жадный огонь – не злости, нет. Чего‑то другого. Чего‑то, что требовало доказать – прежде всего себе.
Анфиса: Это и есть поле битвы, Сонь. Но на моих условиях. На моей земле. По моим правилам. Я должна это сделать.
Экран будто потеплел от их ответов. Я почти видела Нику – она наверняка стучит кулаком по столу, Рину, которая уже представляет, как будет хрустеть попкорном, Соню, которая хмурится, но всё равно поддерживает. Они были моим тылом. Моей опорой. И с ними я вдруг почувствовала, что могу сделать шаг/
Потому что мне это нужно.
Руки дрожали, когда я набирала сообщение. Но слова ложились ровно, чётко, без лишних эмоций – как бросок мяча перед подачей.
Я:
Завтра, 17:00, теннисный центр «Олимп», корт № 4. Ты говорил о чувстве игры. Посмотрим, как твоё чувство работает вне льда. Ракетку найдём.
Ответ пришёл почти мгновенно.
Он:
Буду. Готовь своё лучшее варенье, чтобы было что размазывать на хлею победителю.
Я фыркнула. Глупая шутка. Детская. Но в ней был тот самый вызов, которого я ждала.
Сердце застучало быстрее от какого‑то странного, пьянящего предвкушения.
Хорошо.
Игра началась.
***
Он пришёл – в обычных спортивных штанах и простой футболке, с той самой развязной ухмылкой, к которой я уже успела привыкнуть на катке. Но когда он окинул взглядом крытый корт – с его чёткими разметками, натянутой сеткой, с гулом мячей с соседних площадок, – в глазах его мелькнуло что‑то новое. Не насмешка. Что‑то… похожее на уважение. Или на настороженность.
Я сжала ракетку чуть сильнее, чувствуя, как внутри нарастает странное напряжение – не злость, не раздражение, а что‑то горячее, живое.
– Ну что, принцесса, – протянул он, приближаясь. – Показывай свои владения. Где тут у вас мишени для битья?
Его тон был привычным – лёгким, чуть вызывающим. Но я уловила в нём нотку любопытства. И это придало мне смелости.
– Там, по ту сторону сетки, – ответила я, коротко кивнув ракеткой. Голос звучал ровнее, чем я ожидала. – Дам тебе ракетку попроще. И объясню основы. Если, конечно, твоё «чувство игры» способно воспринимать что‑то кроме примитивного силового толкания шайбы.
Он замер на мгновение – всего на долю секунды, но я это заметила. А потом усмехнулся, взял ракетку, покрутил в руке.
– О, как тонко, – произнёс он, глядя на меня с каким‑то новым интересом. – Поехали. Учи, тренер.
В его голосе больше не было привычной насмешки. Только вызов. И это заставило моё сердце биться чуть чаще.
И началось.
Я начала с самого простого: хватка, стойка, базовый удар с отскока. В голове уже рисовалась картина – его неловкие движения, раздражение в глазах, грубые ошибки. Но Стас Пожарский… оказался неожиданно внимательным.
Он слушал, не перебивая. Его серые глаза не отрывались от моих рук, следили за каждым движением ракетки, за тем, как я ставлю ноги, как переношу вес. Он повторял – неидеально, конечно, но в его попытках не было той неуклюжести, которую я ожидала. Вместо этого – сосредоточенность, почти жадное желание понять механику движения.
Внутри меня что‑то ёкнуло. Не то чтобы приятно – скорее настороженно. Я не привыкла видеть его таким. Серьёзным. Заинтересованным.
– Ты не молотком шайбу вбиваешь, – вырвалось у меня, когда он в десятый раз замахнулся так, будто собирался вырубить дерево. – Здесь кисть работает. И предплечье. Плавно. Удар – это хлёсткий выброс, а не ударная волна.
Он замер, посмотрел на меня – без привычной насмешки, без вызова. Просто кивнул.
– Понял, – сказал он тихо.
И в этом «понял» не было ни капли иронии. Только сосредоточенность. Та самая, с которой он катался на льду.
И вдруг случилось то, чего я совсем не ждала.
Его природная атлетичность – та самая, что на льду превращала его в неудержимую силу, – вдруг заработала и здесь. Я просто мягко подбросила мяч, почти не всерьёз, а он… не промахнулся. Поймал на ракетку. Отскок вышел кривым, но мяч перелетел через сетку.
На третьей попытке он уже более‑менее держал направление. Схватывал на лету – буквально.
Внутри меня всё перевернулось. Это было… странно. Неприятно? Да. Но одновременно – восхищённо. И от этого восхищения становилось ещё неприятнее.
Я ведь готовилась к лёгкой победе. Представляла, как он будет неуклюже махать ракеткой, как я с холодной улыбкой буду наблюдать его промахи. А вместо этого… вместо этого – его тело, его рефлексы, его инстинктивное понимание игры. Оно училось. Подстраивалось. Быстрее, чем должно было.
– Неплохо, – выдавила я, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. Подавая ему мяч снова, почувствовала, как напряглись пальцы. – Для человека, который, вероятно, считает теннис игрой для аристократов, лишённых мужества.
Он поймал мяч, отбил уже увереннее – и вдруг ухмыльнулся. Той самой, привычной, наглой ухмылкой.
– А что, разве не так? Всё белое, тихо, церемонно. Ни тебе врезаться в соперника, ни крикнуть от души. Скучновато.
Я почувствовала, как внутри закипает горячая волна. Он снова обесценивал. На этот раз – всё, что для меня важно.
Всё моё.
– Скукота – это бессмысленно бегать за куском резины, сбивая друг друга с ног, – выпалила я, вкладывая в подачу всю накопившуюся досаду. Мяч просвистел в сантиметрах от него. А он даже не дрогнул. Ни мускулом.
– Теннис – это расчёт и тактика. Типо как шахматы, только в движении. Тут нужно думать. А не просто орать и толкаться.
Он поймал следующий мяч – и вдруг ударил точно по линии. Мяч мягко вкатился в корт.
– Думать? – его голос звучал спокойно, почти задумчиво. – Я на льду каждую секунду думаю. Куда бросится нападающий, куда отпасётся партнёр, куда отскочит шайба. Только думаю я еще и телом. За десятую долю секунды. Твои «шахматы» – они слишком медленные для меня.
Его слова обожгли горькой правдой.. Он не отрицал само мышление. Он отрицал мой способ мыслить: взвешенный, стратегический, выверенный.
А он жил иначе. Его разум работал в режиме реального времени – молниеносно, инстинктивно, на грани интуиции. И в этом была своя логика. Своя неоспоримая правота.
От этой мысли стало не по себе. Потому что где‑то внутри я понимала: он не хвастается. Он просто говорит, как есть.
Мы продолжали почти двадцать минут. Его подача по‑прежнему была ужасной, но приём с задней линии становился всё увереннее – будто с каждым ударом он впитывал в себя правила игры, превращая ошибки в опыт. Я чувствовала, как во мне смешиваются противоречивые чувства: досада от его упорства и – неожиданно – искреннее признание. Глупое, нежеланное, но честное. Он был спортсменом. Настоящим. Таким же, как я. Только его путь был другим, словно мы играли по разным правилам, хоть и на одном корте.
Когда мы остановились, чтобы выпить воды у борта, воздух между нами изменился. Напряжение осталось, но теперь оно было иным – не враждебным, а соревновательным, почти дружеским. В нём таилось что‑то ещё, едва уловимое, будто невидимая нить, связывающая нас после этой игры.
– Так почему хоккей? – вырвалось у меня неожиданно. Вопрос родился из усталости и странного, нового понимания, которое я только что осознала. – При твоих… способностях к обучению. И с учётом твоего факультета. Отец‑дипломат, говорил? Можно было выбрать что‑то более… – я запнулась, пытаясь подобрать слово, которое не ранило бы, но он опередил меня.
– Приличное? – его губы тронула горькая улыбка. Он откинул голову, сделал глоток воды, будто пытаясь смыть с себя эти слова. – Да, можно было. Теннис, например. Или гольф. Или просто учиться, готовиться к посольским приёмам.
Он замолчал, взгляд устремился куда‑то вдаль, словно он видел перед собой не стену корта, а что‑то гораздо более далёкое и значимое.
– Потому что на льду слышен только лёд, – произнёс он тихо, но с такой чёткостью, что каждое слово отозвалось внутри меня. – Скребут коньки, бьётся шайба, стучит по пластику. И твоё дыхание. Всё остальное – отрезано. Никаких ожиданий, никаких разговоров о том, что «прилично», а что нет. Ни папиных намёков, ни маминых вздохов. Только игра. Чистая, простая, жёсткая. Там я могу быть просто собой. А не Станиславом Пожарским, сыном такого‑то, студентом такого‑то.