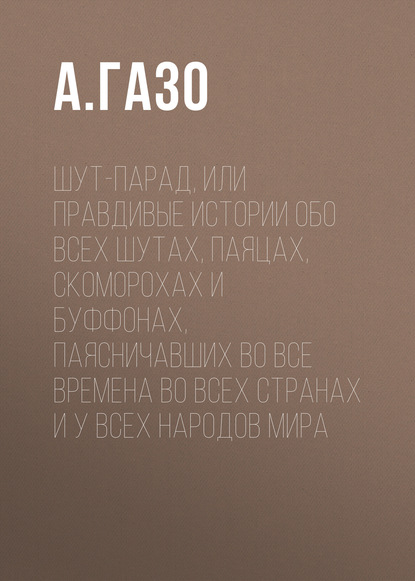В броне по дорогам жизни. Воспоминания офицера-танкиста
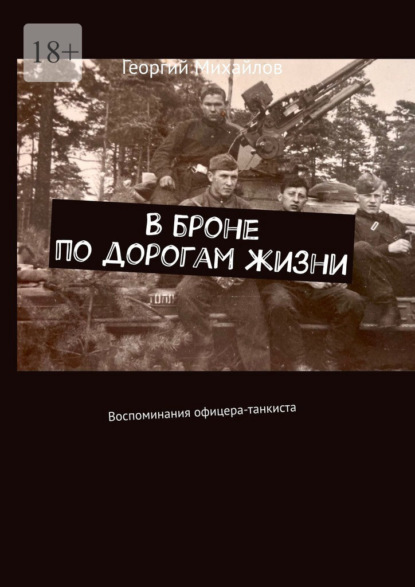
- -
- 100%
- +

Благодарности:
Валерий Павлович Киселёв
© Георгий Михайлов, 2025
ISBN 978-5-0068-2688-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Написанию повествования о своей жизни, родных, и о людях, связанных с нами в различной степени, способствовало настойчивое убеждение меня в этом моей младшей дочерью Ириной. Просьба ее заключалась в том, чтобы в семейной истории были сохранены сведения от старшего поколения с описанием быта, уклада жизни, интересных событий.
Ирина еще со школьных лет старших классов выработала аналитическое мышление. Если говорить проще, то на свои вопросы: «Кто я?», «Кто мои предки?» она хотела бы получить ответ в широком познавательном аспекте.
По долгу военной службы и судьбой я своей семьей с 1964 года «осел» в Поволжье, в Нижегородской области, где и родилась Ира в 1968 году. Предки мои и все родственники по линии моей мамы, родственники по линии моей супруги (Ириной мамы) проживали с конца 19-го века и начала 20-го в Ростовской губернии – хутор Казачий, рабочий городок Сулин. В 30-х годах окончательно переехали в Новошахтинск.
Ира в период своего детства и юности с нами – родителями – летом гостила у своих бабушек и дедушек. По ее воспоминаниям это оставило замечательное впечатление об «абрикосовом» крае при небольшом шахтерском городе Новошахтинске.
По просьбе и согласованию с Ирой в моих описаниях должны были быть изложены интересные события, сведения о жизни и быте родственников. Нельзя не сказать об условиях этой жизни, а это неотъемлемо в некоторых случаях от исторических событий в стране или в районе, где проходила эта жизнь. Гражданская война 1918 года, Стахановское движение в угольных районах Донецкого бассейна страны, Великая Отечественная война. Я мальчишкой перенес и помню до мельчайших подробностей оккупацию немецко-фашистскими войсками нашего города в 1942—1943 годах, и не хочу, чтобы те события были изжиты из памяти.
Война повлияла даже на выбор моей. В июне 1942 года, покидая город Новошахтинск, наши войска оставили неисправный танк прямо на дороге улицы недалеко от нашего дома. Именно этот танк сформировал мое желание быть танкистом.
Я не могу не написать, как моего отца, уже в ходе войны, несколько раз призывали в ряды Красной Армии, но в связи с нехваткой кадровых горняков-инженеров в Угольной промышленности возвращали к организационным горняцким делам.
Всю жизнь буду гордиться и помнить, что служил в знаменитой 1-й гвардейской танковой армии, что знал Героев Советского Союза генерала-майора Бочковского Владимира Александровича, генерала-майора Кобякова Ивана Григорьевича.
Моя Родина – Советский Союз, где все мы – и мои родственники, – и герои войны, были едины, патриоты земли Российской.
«На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим…»
Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы»

1. Великая Отечественная война. Детство. Оккупация. Освобождение. Юношеские и школьные годы. (1941—1954 гг. г. Новошахтинск Ростовской области)
– События начального периода Великой Отечественной войны глазами шестилетнего мальчишки (октябрь 1941 г. – июль 1942 г.)
Пятый месяц Великой Отечественной войны… Бои идут по всему фронту западных территорий Советского Союза.
Тот осенний день запомнился пасмурным, серым, однако достаточно теплым. Такая погода осенью характерна для южных районов Ростовской области. Все описываемые мною события периода войны происходят в окрестности небольшого города Новошахтинска и в районе угольного бассейна с богатейшими залежами угля-антрацита.
Мама и дедушка собирают скромные пожитки для переезда из пригорода с шахтой «Западная капитальная» непосредственно в город Новошахтинск. На той шахте некоторое время работал мой отец – Михайлов Александр Васильевич – на должности механика участка. В моих описаниях будет более подробно изложена трудовая деятельность отца более раннего времени, а пока описываю, что происходит в октябре 1941 года. С первых дней этого месяца отец с другими горными инженерами и рабочими срочно выехали на сооружение оборонительных рубежей по реке Дон. Так как отец на упомянутой шахте уже не работал, было принято решение: мама со мной и моим младшим братом Володей переедут к её родителям в Новошахтинск.
Для перевоза вещей дедушка получил подводу с лошадью. Машин в те времена было мало, к тому же в войну они предназначены для более важных дел.
Я не знаю, почему перед переездом многие книжки решили сжечь. Вполне понятно, что такие издания, как «История ВКП (б)» и другие партийные книжки в доме, если город займут немцы, могли стать опасными для их владельцев. Книги и некоторые ненужные пожитки выносили во двор и сжигали на костре. Мне запомнилась сжигаемая книга В. В. Маяковского с авторскими цветными картинками персонажей его стихотворений. Таких интересных картинок в новых изданиях никогда больше не печатали.
Очевидно, поддавших настрою взрослых, я бросил в костер и свою любимую книжечку с картинками танка и мальчика-танкиста. Было интересно рассматривать, как он изображался по-разному – улыбаясь или недоумевая, но всегда в комбинезоне, в шлеме с очками мотоциклиста. А на танке по периметру элементов его корпуса и башни маленькие заклёпки, которыми крепились броневые листы.
Дома или в детском садике, если я рисовал танк, то обязательно с заклёпками. Считал, что это – класс! Чем больше заклепок, тем лучше, а главное – красивее. Хотя и жалко было сжигать книжку, но надо, чтобы немцам не досталось.
Когда мы были во дворе, сжигая книги, в небе долго слышался приглушенный монотонный гул. На довольно большой высоте кругами летал самолёт. «Рама», немецкий самолёт» – сказал дед и добавил: «Разведку ведёт». Дед объяснил, почему называется «Рама»:
– Видишь, у него две полоски, от этого снизу он кажется какой-то рамой.
Самолёт долго безнаказанно кружился, потом улетел.
Погрузив, что нужно на подводу, дедушка уехал, а мы почему-то остались. Я не помню, как долго мы ещё оставались у дома. Но точно помню, что в Новошахтинск к бабушкиному дому мы шли пешком. Мама несла младшего брата и небольшой узелок, а я, как вольный, ничем не обремененный мальчишка, шёл, скакал рядом. Наш путь был, я думаю, не более 10 километров. В те далёкие времена все легко ходили пешком на большие расстояния, даже дети.
И вот мы в доме дедушки и бабушки, а точнее в квартире, где они жили со своими уже взрослыми детьми. Старшая дочь – Анна Давидовна Грибова (по фамилии первого мужа, потом был второй брак) 1910 года рождения. Дедушка и бабушка звали её Анютой. От первого брака у неё в 1933 году родилась дочка. Звали её Галиной. Первого мужа Анны я (возможно) никогда не видел, а когда мы тоже переехали к бабушке, Анна уже была связана по жизни с другим мужчиной. Звали его Андреем, фамилия – Файрайзен, работал водителем. В те годы войны я его в доме не видел. Возможно, он был где-то на работах, связанных с войной. В начале войны у них родился сын, назвали Александром.
Моя мама, Клавдия Давидовна, была вторым ребенком. Родилась 25 мая 1912 года. Третьим был сын – Александр Давидович Пешков, 1914 года рождения. Он стал военным, и я увидел его впервые перед самым началом войны, или когда она уже началась. Перед началом оккупации города немецкими войсками он жил при своих родителях, пока его на забрала полиция. Об том будет написано несколько позже.
В 1916 году родился последний ребенок бабушки и дедушки – Евгения.
Более подробно обо всех родных, родственниках, их судьбах вы, читатели, узнаете по мере описания тех или иных событий их жизни или исторических сведений о нашем городе прошедших лет.
А сейчас, пока война не докатилась вплотную до Новошахтинска, я сообщу о нашей семье. Как мы оказались в поселке шахты «Западная капитальная». За основу будут взяты автобиографии родителей.
Отец – Михайлов Александр Васильевич, родился в августе 1905 г. в городе Орле. С родителями он прожил до 1920 года. Его отец развелся со своей женой и женился на другой женщине, которая избивала неродных ей детей. Из-за частых побоев мой отец пятнадцатилетним мальчиком ушел из дома и некоторое время был беспризорным. Надо отдать ему должное: не скатился до беспутного положения. Устроился работать в типографию «Труд». Там его определили в детский дом, в котором и прожил до 1925 года. Еще в 1922 вступил в Коммунистический союз молодёжи.
Отец активно участвовал в работе комсомола. В 1927-м году комсомольская организация рекомендует его на учёбу в Елецком рабфаке в городе Елец. С 1927 года по декабрь 1930 года учился в Елецком рабфаке. В 1930 году вступил в ВКП (б). С мая 1931 года по март 1937 года учился в Москве, в Горном институте им. И. В. Сталина на горно-электро-механическом факультете. С 1937-го по 1939-й год работал на Украине, трест «Чистяковантрацитуголь», на шахте им. Лутугина в должности заведующего механической мастерской. С апреля 1939-го по 1941 год – парторг ЦК ВКП (б) шахты 9—43.
В июле 1941 года – переезд в г. Новошахтинск Ростовской области. Работал в должности механика участка шахты «Западная капитальная» треста «Несветайантрацит».
С октября 1941 года до января 1942 года – комиссар рабочего батальона в 8-й саперной армии. Участвовал в строительстве оборонительных сооружений по реке Дон.
В январе 1942 года вернулся в город Новошахтинск. Решением горкома ВКП (б) назначен председателем райкома Союза угольщиков.
В феврале 1942 года призван на военную службу в армию, но вскоре был отозван, как горный инженер. Дальнейшие сведения о его трудовой и служебной деятельности будут изложены в тексте по мере описания событий последующих годов.
Моя мама – Михайлова (Пешкова) Клавдия Давидовна, родилась 26 мая 1912 г. в городе Сулине Донецкой области. Отец её – Пешков Давид Антонович- родился в 1882 г., работал грузчиком металлургического завода в Сулине. С 1922 семьёй переехали в рабочий посёлок им. Коминтерна (в конце 30-х годов г. Новошахтинск). Работал на шахте №3, затем на шахте им. ОГПУ.
Моя бабушка по маме – Пешкова (Ольшевская) Устиния Михайловна – родилась в 1872 году в селе Петриковка Киевской области. До замужества работала на кирпичном заводе в г. Сулине. В 1908 году вышла замуж.
В 1923 году моя мама поступила в школу-семилетку, окончила её в 1930 году. С 1930-го по 1933-й год училась в медицинском техникуме в г. Ростове-на-Дону. С 1933-го по февраль 1937-го работала акушеркой в больнице им. 16-го съезда партии в рабочем посёлке – рудник им. Коминтерна (позже гор. Новошахтинск). В 1935 году вышла замуж и проживала по месту жительства и работы мужа (см. биографические сведения отца). В 1941 году – переезд в г. Новошахтинск.
Некоторые жители до прихода немцев уезжали из Новошахтинска на восток. Брали с собой только самое необходимое. Мебель и почти все имущество оставляли на попечение и сбережение соседям. Уехали и наши соседи, жившие в смежной квартире через стенку в этом же доме. Муж и жена. Он – прокурор, работал в городе. Как многие руководящие лица, наверное, был партийным, и оставаться таким гражданам на оккупированной немцами территории было опасно. С наступлением осени 1941 года в их квартиру перешли жить мы, т.е. мама с нами – детьми. В этот предоккупационный период, и к тому же перед предстоящей зимой, жители, исходя из своих финансовых возможностей, закупали впрок продукты. Я помню, как поздно вечером дедушка и бабушка в вырытой во дворе ямке, обложенной досками, решили спрятать небольшой хлопчатый мешочек риса. Уже много лет спустя, будучи взрослым, вспоминая, я удивлялся – как это дед и бабушка при их крестьянской и хозяйственной смекалке не подумали, что станет с этим рисом через полгода при хранении в нашем чернозёме в южном климате с частыми осенними дождями, с тающим снегом при довольно мягкой зиме. Когда через несколько месяцев в следующем году его отрыли, картина была удручающая – мешочек заплесневел, загнил. Но самое неприятное было в том, что сваренную кашу из такого риса есть было невозможно из-за запаха гнили.
Постепенно война приближалась и к нашему городу.
Всё чаще по радио объявляли воздушную тревогу. Звучало это так: «Внимание, внимание! Воздушная тревога!» … Такие слова повторялись подряд несколько раз. По этой тревоге жители прятались в вырытых блиндажах, погребах во дворе и в других укрытиях.
А на восток все чаще летели армады немецких бомбардировщиков. Тяжелый монотонный гул накрывал город. Я выходил во двор и смотрел в небо, считая эти самолёты. Их было очень много. Летели высоко и безнаказанно.
Как-то дедушка сказал: «Шахту будут взрывать». Чтобы немцы не могли добывать уголь для своих нужд. Раньше паровозы работали на угле, и им наш уголь очень бы пригодился.
Сделаем небольшое отступление в описываемых событиях. Пора читателя ознакомить с краткой историей возникновения города Новошахтинска и, в частности, шахты.
Прислушайтесь: «Новошахтинск», т.е. как бы новая шахта. Да! В двадцати восьми километрах на восток находится другой город – Шахты. Там, где рождался наш город, раньше были широкие степи.
Одна ковыль чего стоит! Мне повезло: я успел видеть и запомнить белые волны ковыли. Дует ветерок, и стебли белых мягких соцветий ковыли волнами под лучами солнца перекатываются до горизонта. А под землёй – несметные залежи угля, лучшего в мире – антрацита. Именно из него делают коксующий уголь для металлургической промышленности.
По рассказам бабушки, капиталист Парамонов передал своему сыну небольшой рудник, где и добывался этот уголь. Сын стал развивать производство, из рудника создали шахту. В России произошла революция 1917 года. Прокатилась Гражданская братоубийственная война «белых» и «красных». С рождением молодой Советской республики все капиталистические предприятия были экспроприированы и перешли в собственность государства. При шахте стал разрастаться посёлок. Если мне память не изменяет, то его называли «Несвитаевский рудник». Создавались рядом в этой округе и другие шахты. В том числе и шахта «Западная Капитальная». Для работы на шахтах надо было набирать рабочих. Насколько мне было известно, за развитие угледобывающей промышленности, по крайней мере у нас на юге, в Донбассе от правительства был назначен Серго Орджоникидзе.
Для шахтеров строились приличные дома – одноэтажные с двухкомнатными квартирами, кухней, кладовыми на две семьи. Подводились вода и электричество. Туалетов и горячей воды не было. Для каждой семьи при доме выделялись небольшие земельные участки. Часть домов были каменные из обработанных природных камней. Другие дома были заштукатурены, с арматурой из деревянной дранки. Именно такие дома были на улице Ворошиловской (после войны улица Отечественная), где проживали дедушка и бабушка.
Шахта разрасталась и получила название имени ОГПУ (Объединенное Государственное Политическое Управление).
Как все шахты, она имела копёр. Это металлическая конструкция, наверху которой установлены стальные колёса, по ручьям окружностей которых стальными канатами опускаются в клетях шахтеры в забой, где происходит выработка угля, или поднимаются «на гора» после смены. Наверху копра устанавливалась большая пятиконечная звезда, которая светилась красным цветом, если шахта выполняла плановую норму добычи угля. Звезда горела всегда! Так вот, копер нашей шахты должны были подорвать. Это происходило днём, где-то до середины дня. Время было назначено, и многие жители вышли из домов и стояли на улице, у своих домов. Смотрели и ждали. Стоял и я у калитки забора нашего двора. Смотрел на копер. Именно его верхняя часть со звездой была видна за крышами домов противоположной улицы Кирова. Всё замерло, затихло… И вот в тишине раздался взрыв! Копер стал клониться, но не упал, а остался стоять при довольно заметном углу наклона. Больше взрывов не последовало.
С боями наши войска отходили на восток. Как-то в один из дней я увидел, как по нашей Ворошиловской улице буксировали танк. Метров в двухстах от нашего дома тягач, который буксировал танк, остановился, а вскоре и вообще уехал. Танк же так и остался на булыжной мостовой, да ещё и гусеничная лента с направляющего колеса была отсоединена. Он так и простоял, оставленный нашими войсками, всю оккупацию. Кстати, немцы тоже его не тронули. А вот рядом с забором дедушкиного двора по улице наши оставили ещё и танкетку. Тоже неисправная, и так же простояла до возвращения наших войск.
Танк в какой-то степени сыграл роль в выборе моей будущей профессии. Он как-то постоянно меня притягивал, хотя моё первые знакомства с ним меня настораживали. Сказать честно – я даже вначале боялся и не мог к нему подходить. Ведь у него была пушка, а вдруг она бабахнет! В военные времена поколения малолетних мальчишек отличались от современных. Мы были вначале скованные. Возможно, на наш рост, развитие и сознание влияли факторы войны, разговоры и суждения взрослых, особенно женщин – матерей, оставшихся временно без мужей, мужчин.
Тем не менее, танк мне нравился, и я часто подходил к нему. Читатель, вы помните, у меня была книжечка о танке и танкисте, которую я сжег, чтобы она не досталось немцам? Так вот, думаю, что именно этот танк повлиял на мою судьбу. А когда после оккупации меня перед школой в 43—44-м годах определили в детский садик, я на детских занятиях из глины лепил только танки (о пластилине, да ещё цветном, ещё никто не знал). С 5-го класса я уже твёрдо принял решение стать танкистом.
Но это потом, а пока наши, как ни печально, отходят. Немцы все ближе…
– Начало оккупации. Первые «фрицы». (июль 1942 – февраль 1943 гг.)
Наступило лето 1942 г. Июль – абрикосовая пора нашего края. Солнце! Давно созрели тёмно-красные вишни, созревают красивее янтаря абрикосы. Прекрасная природная пора, но… исторически печальная. Войска вермахта уже шли по приграничным с Ростовской областью территориям. Взят Ростов. Скоро немцы придут и к нам…
И вот в одно утро… Тишина. На улице никого. Послышался звук машины. По дороге нашей улице проезжает военная машина с открытым верхам. Она не легковая, но и не грузовая, однако довольно широкая, в два ряда сидения, не считая мест с водителем! Потом уже, став военным, я узнал, что машина – марки «Хорх».
Впервые увидел немцев. На средней скорости машина проехала к главной улице (проспект имени Ленина). Остановившись на перекрёстке на одну-две минуты, она повернула направо. Через несколько минут я услышал звук ее мотора. Машина проехала в обратном направлении по параллельной улице вдоль городского парка. До второй половины дня в городе, по крайней мере в районе нашего дома, стояла тишина.
И вот повалили машины – группами и одиночные. В основном грузовые. Одна из них, с каким-то плоским наклонным «передком» при закрытом брезентом кузовом, остановилась рядом с нашим домом. Из кабины вышли два немца, и из кузова через задний борт выпрыгнули человек пять. Они были молоды. Вспоминая те события, думаю, что им было лет по восемнадцать – двадцать. Одеты были в свою военную далеко не новую форму. Выцветшие тужурки белесо-зеленоватого цвета под ремнем, такие же брюки в коротких сапогах. На правой грудной части тужурки – поблекший серебристый фашистский знак в виде орла с распростёртыми крыльями и свастикой в витом кружочке. Немцы весело и громко разговаривали, очевидно с шутками, так как разговор сопровождался смехом. Когда только эта машина остановилась, я, находясь во дворе, начал потихоньку приближаться к граничной части двора и улицы, осторожно наблюдая за немцами. Впервые услышал немецкую речь. Забора и былой калитки уже тогда не было – все это постепенно ушло на дрова для топки печи. Открытое пространство позволяло мне всё хорошо рассматривать. День уже переваливал за свою светлую половину, и немцы остановились «на обед». Солнце находилось в зените, а теневая часть от нашего дома как раз располагалась вдоль грунтовой дороги. На траве у стены дома под его тенью они и стали накрывать свой стол. Постелили что-то типа брезента, принесли свои ребристые термосы, кружки и т. д. Я находился метрах в шести от них и старался вести себя так, чтобы они не очень обращали на меня внимание. Но им до меня не было никакого интереса. Вели они себя уверенно, весело, беззаботно, как будто не на войне, а где-то у себя на пикнике. Они – завоеватели, а мы для них никто, «низшая раса».
Так называемая в наши дни «дедовщина» возможно в те времена и в их армии имела место. Во время своего обеда или перекуса они дважды посылали одного и того же немца что-то принести из кузова. Этот немец был малого роста и ниже каждого из них. Из-за своего роста он, подпрыгивая, пытался схватиться за верхний край заднего борта кузова, чтобы как-то подтянуться и влезть в него. Это ему никак не удавалось. Каждая неудачная попытка подпрыгивания вызывала взрыв хохота этих «веселых фрицев». Кое-как он все же зацепился и влез в машину. Поев, немцы быстро собрались и поехали дальше. Возможно, их через два-три месяца и «примет» Сталинград, а там уже будет не до смеха.
Начались наши оккупационные дни и ночи. Вот тут-то, почти с первых (и до последних) дней, стали проявляться истинные отношения отдельных жителей города к советскому строю и к немецким завоевателям.
Напротив нашего дома жила одинокая казачья семья Назаровых. Женщина и мужчина. Жили замкнуто, тихо. Мы не видели, чтобы они с кем-то общались. Наши родственники, хотя и соседи, насколько я помню, так же никаких отношениях с ними не заводили. И вот когда в город вошли немцы, через день-два у их дома, у калитки, появилась небольшая группа немцев, военных, и гражданских. Назаровы преобразились. Куда девалась их замкнутость, настороженность?! Оделись в белые блузки, рубашки, и с подносом, полотенцем расписным, хлебом-солью, с поклоном у калитки, распахнув её, встречают фашистов. Некоторые казаки, да и русские, пошли на услужение к немцам.
Неприметный до прихода немцев плюгавенький дедок, тоже казак, живший за тыльной стороной дедушкиного двора на соседней улице бесцеремонно, не спросясь, привёл в наш двор полицая и немца. Они нагло вошли в дом, и этот казак стал показывать в одной из комнат, где у нас раньше была якобы потайная дверь. Слово «потайная» я хорошо запомнил, возможно, как мальчишка, оно (слово) придало мне смысл какой-то таинственности. Этот дедок, очевидно, когда-то был в доме у деда нашего и видел ту «потайную» дверь. А суть вот в чём. Я уже писал, что через стенку жили соседи (прокурор), с которыми у бабушки и дедушки были хорошие отношения. Чтобы через дворы и калитки не ходить в друг к другу в гости и была когда-то в общей стене сооружена дверь.
Если говорить о донском казачестве, то политический смысл этого разговора далеко не простой. Обвинять всё казачество в предательстве было бы ошибочно и для многих казаков оскорбительно. В данном случае мне здесь не к месту писать, как исторически возникло донское казачество, как они верно служили российским царям, оберегая южные рубежи России от набегов татар. Да, у них была «своя вольница», и им политически трудно было сразу принять Советскую власть, строй и все законы. Вспомните роман М. Шолохова «Тихий Дон». В первые годы Советской власти русские люди и казаки отчужденно относились друг другу. В большинстве случаев обоюдные отношения были если не враждебные, то в большей степени пренебрежительные. Тем не менее, большая часть Донского казачества самоотверженно сражалась с фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Позднее, учась в старших классах, мы от школы ездили на экскурсию в Новочеркасский краеведческий музей, в котором находятся экспонаты и описания, свидетельствующие об этом.
Я думаю, что если бы руководящие деятели развивающегося Советского Союза и ВКП (Б) умело проводили политику национального развития, уважая веками сложившиеся традиции народов не русско-славянских национальностей, в том числе и казачества, то факты враждебности и предательства на оккупированных немцами территориях СССР появились бы в значительно меньшей степени.
Оставаться в городе дедушке и бабушке становилось опасно. Оба были партийные, дедушка вступил в партию ВКП (б) по призыву в год смерти вождя мирового пролетариата (в 1924-м году) Владимира Ильича Ленина. Шахтёр-стахановец, рабочий, передовик шахты им. ОГПУ. Бабушка вступила в партию ВКП (б) в 1928 году. К тому же до войны она была депутатом горсовета. Наши взрослые, очевидно, приняли решение, что дедушка и бабушка должны уйти из города и где-то пожить, где их никто не знает. Дедушка и бабушка тихо ушли. Где они жили несколько месяцев, я по детству не интересовался, однако в автобиографии моей мамы указаны места их проживания. Когда они ушли, мама и её старшая сестра Анна (моя тётя) подозвали меня, и мама сказала: «Сынок, если тебя кто будет спрашивать, где дедушка, бабушка, то скажи: «Ушли в деревню подыскать корову». И что же вы думаете?! Прошли день-два, как ласково подозвала меня по имени и доброжелательно зовёт в свой садик соседка – казачка Назарова. Раньше никогда не звала к себе, по имени не называла, она меня вообще не замечала, а тут вдруг таким ласковым голосом по имени называет и к себе зовёт. Я подошел. Она гладит меня по голове и елейным голоском спрашивает: