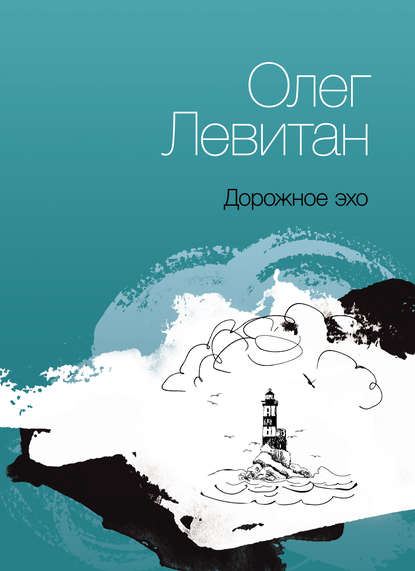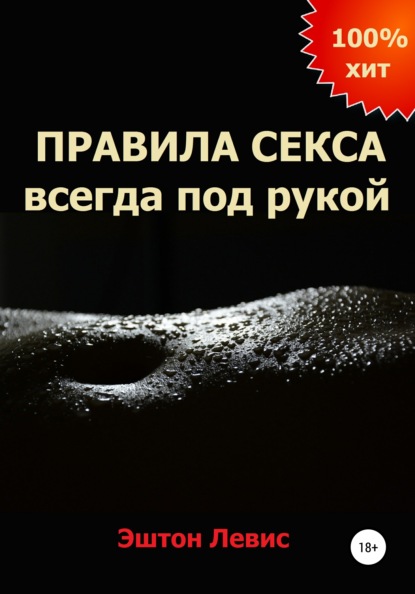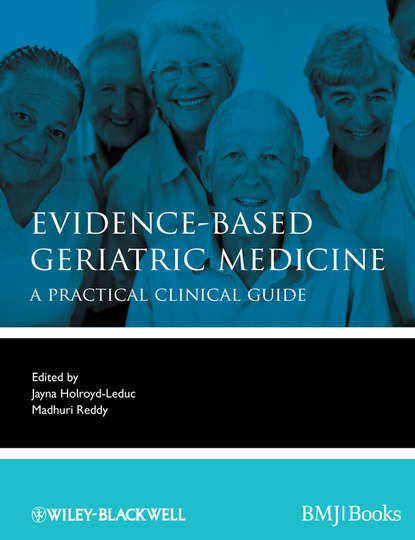В броне по дорогам жизни. Воспоминания офицера-танкиста
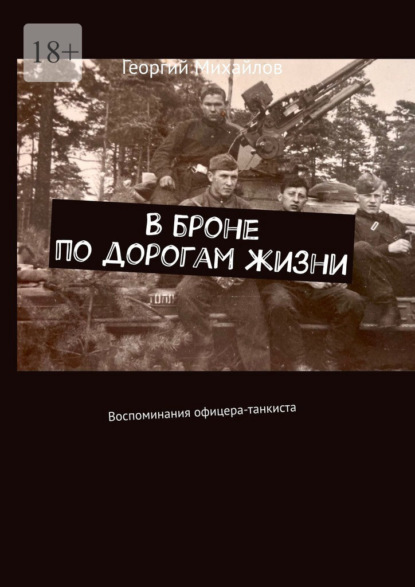
- -
- 100%
- +
– А где дедушка, бабушка?
Я, как хороший мальчик, отвечаю:
– А когда они придут?
В общем, я, как телёнок, уши развесил и все говорил, как мне мама сказала. Хорошо, что я больше ничего не знал. Как потом, спустя несколько лет, повзрослев, вспоминал об этом, меня мучила совесть, и мне было стыдно за свое предательство, что сказал этой подлой женщине. Лет до 40—45 это точно, вспоминал об этом с горечью. Потом уже, ближе к старости, я себя успокоил – ведь я был маленький, искренний, и, как все дети в том возрасте, откровенный.
А вот дядю Шуру немцы руками предателя взяли в гестапо, пытали, потом расстреляли. Он был военным, но где он служил и на какой должности, в каком звании, я не знаю.
Помню, что перед приходом немцев, он уже был в доме своих родителей. Прикинулся простачком, парнем-голубятником. Завел голубей. Но однажды, поздним осенним вечером, в дом нагрянули немцы, и полицай из предателей, знавших нашу семью. Взяли дядю Шуру, начался обыск в квартире, затем в сарае. Как оказалось – искали оружие. Искали долго и всё-таки нашли, что искали – дядин револьвер. Даже дедушка не знал, что в его сарае сын спрятал свой револьвер. Дядю увели.
Спустя много времени его сестры добились разрешения на свидания с братом по одному человеку. Один раз на свидание ходила моя мама. Позже она рассказывала мне, что ещё раньше, до войны, её брат, дядя Шура, больше, чем другим сёстрам, доверял ей свои суждения, знал, что она не болтливая и с пониманием относится к людям, которые ей доверяли свои мысли. Так вот, при свидании, дядя одними губами, без звука назвал одно слово – «фуфайка». Свидание проходило при надзирателе. Придя домой, мама, никому не говоря, стала искать фуфайку. Где-то в сарае или в летней кухне она нашла эту фуфайку и в подкладках нащупала листовку. Вытащила. В листовке – краткий текст призыва на борьбу против немцев.
Как потом, но не точно и конкретно, а предположительно, было выяснено, что в городе организовывалось подполье для борьбы с немцами. Я думаю, что в маленьком городишке, каким был в начале 40-х годов Новошахтинск, где все друг друга знали, и при предательстве некоторых из них это дело заранее было бы обречено на провал. Вспомните, в Краснодоне, кстати, недалеко от города Новошахтинск, десятиклассники-школьники организовали подполье «Молодая гвардия». Нашлись предатели. Почти все были схвачены, погибли. А дядя ещё в Красной Армии служил, многие знали об этом. При встрече с мамой он сказал, что его пытали, избивали. В январе, когда уже завершался разгром немцев в районе Сталинграда, и их погнали к Германии, дядю и других патриотов расстреляли в степи за городом. Расстреливал «свой же», знавший дядю и всю нашу семью, ставший предателем и палачом – сволочью.
Я ещё вернусь к этим событиям, когда буду писать об освобождении нашего города от оккупантов.
Продолжу прерванное описание начального периода оккупации и последующих событий.
Нагло и бесцеремонно вели себя завоеватели – и немцы, и румыны. На нас, советских людей, жителей своего города и своих квартир, они почти не обращали никакого внимания, кроме тех случаев, когда им что-то было надо. Входили во дворы, квартиры, как хотели и когда вздумается. И делали все по своим желаниям. Прошло более семидесяти семи лет, но моя детская память сейчас представляет многое, что я видел. Вот эпизод. На ступеньках деревянного порога к входной двери дома сидит в одних шортах немец. В те времена мы ещё не знали, что есть такая летняя мужская одежда – шорты. Возможно, он был офицер, так как жил один в одной из комнат нашей квартиры. В его руках сломанная им большая вишнёвая ветвь со спелыми тёмно-красными вишнями. Сидит на вымытых чистых ступеньках, наслаждаясь красотой дедушкиного маленького фруктового садика, срывает с ветви вишни, ест их, а косточки выплевывает во все стороны. Дедуля наш к каждому дереву с любовью относился. Старые ветви спиливал садовой ножовкой, оголённые торцы закрашивал масляной краской. А «фрицу» захотелось поесть вишен – сломал громадную ветвь. Победитель! Подождите, за всё расплата вас, гадов, все равно настигнет.
Вот ещё интересная картинка. Забегая вперёд, хочу сказать, что увиденное мною, пятилетним мальчишкой, рождало в голове мысли, что немцы здесь чужие, что мы сильнее. А теперь о «картинке».
Ещё с довоенного времени 1941-го года на стене второй комнаты почти во всю её длину висела большая карта – политическая карта Европы. Все страны на ней были обозначены определённым цветом. Европейская часть СССР, естественно, красным цветом с крупной надписью: «СССР», Германия – коричневый цветом, и так далее. Скандинавский полуостров мне представлялся, как какая-то собачка с двумя головами – впереди и сзади, где задняя голова была Кольским советским полуостровом. Левая же, передняя, голова как бы сверху наклонялась над другими странами, в том числе и над Германией.
Однажды к карте подошел немецкий офицер, живший у нас. Он стоял и очень долго смотрел на эту карту. Особенно долго он всматривался на ту часть карты, где значилась территория СССР. Интересно, что думал этот немец, видя красную громаду СССР с примкнувшей «скандинавской собачкой», склонённой к маленькой коричневой Германии? Это было в начале осени, возможно, в начале сентября. В это время, как писал в своих мемуарах маршал Жуков, возникло решение на разработку в Ставке Верховного Главного командования грандиозного стратегического плана на окружение фашистской группировки в Сталинграде. Немцы ещё были на подъеме, у них была уверенность выйти к Волге, но ход их военной машины уже тормозился, натыкаясь на стальную преграду русской самоотверженности. О чем же думал этот германский офицер? Возможно, у этого немца уже не стало той спеси, которую внушил им Гитлер о высочайшей арийской расе, о их непобедимости. Возможно, он подумал в этот момент: «Куда завёл ты нас, Адольф?» Ведь он понимал: Москва не взята, под Сталинградом затяжные бои почти без продвижения, второй год войны давно идёт – блицкриг не получился. Немец в задумчивости медленно отошел от карты и вышел из дома, ушел. Я, пацан, всё видел, находясь в этой же комнате. Таких «задумчивых» немцев пока ещё было мало, и ещё не назрело время на переосмысление. И мы все, находясь в оккупации, робко и боязливо, терпя голод и холод, переживали каждый день.
Учитывая постоянное проживание немцев в квартире маминых родителей, мама и тётя Женя с нами, детьми, перешли жить в пустующую квартиру соседей в этом же доме. Я уже писал – соседи до прихода немцев эвакуировались.
Приближалась осень. Угля давно не было, и, чтобы топить печь-голландку, в ход давно шли заборы уличного палисадника.
К середине холодных осенних дней и к нам пришел жить немецкий офицер. Естественно, он занял комнату дома на южную сторону. В смежной стене этой комнаты и прихожей по строительному плану была вмонтирована ещё одна простенькая одноконфорочная печь. В сильные зимние холода она затапливалась для дополнительного обогрева квартиры. Поселившийся немец был самым злым и надменным из всех немцев, которые проживали в наших квартирах. Он сказал маме, чтобы эта вторая печь топилась всегда. Как-то в ноябре он объяснил, что его не будет некоторое время, но печь топить все время. Немца не было сутки или двое, пошли следующие, и мама, чтобы не жечь зря дрова, печь не затопила. Прошёл день. Жизненные условия были далеки до благоприятных – электричества нет, голодно, осенний холод, поэтому лучше ложиться спать. Однако ещё и ночь не наступила, когда в дверь застучали. Немец из своей поездки вернулся. Приехал злой, а тут ещё и в квартире не тепло. Стал ругать маму за нетопленную печь и объяснять, чтобы затопила. Пошли вместе во двор к сараю. Надо было нарубить дров. Младший брат Володя спал, а я, боясь оставаться один в тёмной квартире, пошёл следом за мамой. Ей даже не было возможности дать мне какую-нибудь тёплую одежду, и я успел надеть только то, в чём ходил в квартире. Теперь уже не помню, что было на мне сверху – рубашка или кофта, но штанишки были простые сатиновые, до колен, с помочами, застёгиваемыми впереди крест на крест, на пуговицах. В те времена их быстро шили матери своим малым сыновьям. В тот поздний вечер или в ночь у сарая мама по-женски, как могла, рубит топором заборные доски, а немец стоит рядом и светит своим карманным фонариком. Я в двух-трех метрах от них. Помню, что было очень холодно. Запад ещё слегка светился чуть-чуть светлой полоской. В вышине – наши южные чёткие звезды. Первый колючий ночной морозец остро впивался в мои оголённые коленки. Когда пришли домой, это уже не помню. Очевидно, далее пошло все более спокойно, без ругани, поэтому и не запомнилось.
К началу зимы боевые подразделения немцев продвинулись далеко на восток (имею в виду от нашего района), где уже основательно увязли в боях в самом Сталинграде. В квартиру к нам вселились немцы тыловых войск. Запомнились двое. Как потом узнали, это были немцы чешского происхождения. Они не были офицерами, но и не рядовые. От всех предыдущих постояльцев отличались очень гуманным отношением к нам.
Как-то тётушка Женя стирала пелёнки и детские распашонки своей дочери Ольги. Последний обмылок мыла закончился, и она стала просить мыло у одного из этих немцев. Одного звали Ганс, другого – Фриц. То ли немец не понял, что у него просили, или у него не было в этот момент под рукой этого мыла, и он дает тётушке какой-то липкий брусочек. Тётушка продолжает стирку, но брусочек не мылится. Как все у нас в такие моменты нюхается и пробуется на язык. Попробовала она и говорит, что мол, сладкий. Это был немецкий искусственный мёд. В Германии он и после войны ещё долго был «в ходу», то есть был потребляемым продуктом. Стирку быстро закончили, а брусочек поделили на всех и съели. Как потом мне стало известно, эти немцы иногда немного помогали продуктами. И каждый из них, давая маме или тётушке что-нибудь, говорил: «Гансу не говорите». А другой так же: «Фрицу не говорите». Делая добрые дела, они друг другу не доверяли. Боялись! К доброте и человечности одного из них я ещё вернусь в своих описаниях.
Наступила зима 1942 г., а с ней и декабрьское Рождество по католическому календарю. Чешские немцы уехали, возможно, как армейские снабженцы, продвинулись ближе к Сталинграду. К нам же вновь поселились два непрошеных гостя. Эти выглядели попроще, победнее, ближе к рядовому составу. В эти дни одному из них, возможно, его родные, или его фрау, прислали посылку. Я, несмышленыш, гуляя от безделья по квартире, зашёл в большую комнату, которую они занимали. Немцы сидели у окна на стульях. Один из них держал открытый посылочный ящик, наполненный почти до верху печеньем, прикрытым изнутри белоснежной тонкой бумагой, усеянной большими, узорчатыми снежинками зеленоватого цвета. Немцы, о чем-то разговаривая, ели печенье. Ну а я… Моё бесцельное хождение по комнате и наверняка, поглядывание на коробку явно говорило о моем желании. Немец протянул мне одно печенье. Оно было круглое, тонкое, небольшого размера, в завитушках. Я его съел, даже не успев понять, какое оно было на вкус. На этом угощение закончилось, да я и сам быстро вышел из комнаты.
Пошли холодные зимние дни. О том, что скоро Новый Год (1943-й), никто из взрослых особо не говорил. Да какой там Новый Год?! Война! Мы под немцами. Есть почти нечего. Кукуруза при всех вариантах приготовления хотя и надоела, но других продуктов и овощей приобрести можно было с трудом. А то, что было – взрослые «растягивали», экономили. Еще с осени мужчины – соседи, знакомые, делясь друг с другом своим самобытном ремеслом, понаделали из тонкой жести, так называемые «рушки». Я не буду записывать их устройство и принципы работы. Кому это сейчас надо? Такими рушками в семьях злаки кукурузных початков перетирались в крупу. Из этой крупы, в большинстве случаев на воде, (коров почти ни у кого уже не было), варилась каша, называемая «мамалыгой». Если постараться и раздробить злаки более мелко, то можно было испечь лепёшки. Только на чем жарить? У кого что получится. Однажды мама решила пожарить оладьи на рыбьем жире. Он у нас остался ещё с времён, когда не пришли немцы и работала аптека. Пожарила… Противнее еды ни раньше, ни потом ещё раз мы не пробовали. Так и не съели их – выбросили. Что только жители не придумывали, чтобы прокормиться. Вот, к примеру, в наших краях появился термин «нардек». Наш южный народ не унывал и создавал свои деликатесы. Нардек – народный деликатес. Приготовление требует желания, терпения и времени. Берётся несколько свекл. Этот овощ почему-то у нас называют «буряк». Некоторые говорят «бурак». Протирается на тёрке. Получается сок и частично мякоть, долго выпаривается в духовке в какой-нибудь формочке до получения загустевший массы. Охлаждается, а затем нарезается квадратиками или полосками. Так иногда делались такие «сладости» к какому-нибудь праздничному дню.
Выручали людей небольшие земельные участки при домах, (у кого такие участки были), на которых росли фруктовые деревья, и овощи. Из просушенных под лучами солнца летом абрикосов и яблок зимой варили компот или заваривали кипятком и пили как чай. Собранные к осени тыквы хранились под кроватью, а зимой запекали в духовке или, порезанную кусками, запекали с какой-нибудь крупой и пшенкой, если такое ещё имелось.
Мама и тетки иногда ходили в ближайшие деревни и меняли у жителей свои одежды на овощи. В бывших совхозных – колхозных полях собирали оставшиеся на земле колоски ржи, пшеницы. Дома колоски толкли в деревянном корыте, полученные зерна просеивали на ветру, а затем варили как кашу. Голуби, которых когда-то завёл дядя Шура, давно были съедены.
Такое продолжалось и после ухода немцев, т.к. не сразу все восстанавливалось в стране. Мы, мальчишки, уже после ухода немцев делали рогатки и ходили летом по палисаднику, стреляли воробьёв. Ребята постарше научили нас, младших, общипывать сбитую птаху, разрезать ножичком. Почти каждый мальчишка стремился купить складной ножичек. Птичка потрошилась. Каждый мог разжечь небольшой костерик и на палочке зажарить тушку сбитого воробья. Съедался и без соли запросто. А в мае, когда зацветала акация, мы забирались на это дерево и набивали за пазуху рубашки кисточки её бело-кремовых с запахом мёда соцветий. Слезали с дерева, угощали поджидающих нас под деревом знакомых девчонок и вместе ели, несли домой подкормить младших братьев. Съедались и ягоды созревшего паслёна, росшего во дворах у заборов или грядок, если взрослые раньше не вырывали его, как сорняк. В ход шли недозрелые зелёные сливы или яблоки. Но от этого иногда были далеко не приятные последствия. Уже будучи офицером я был летом в отпуске в Новошахтинске и попробовал поесть и цветы акации, и ягоды паслена. Какая дрянь!
В январе 1943-го мы ещё не знали всей полноты событий под Сталинградом. Отдельные слухи доходили до жителей, взрослые делились друг с другом новостями. Конечно, о разгроме немцев в районе Сталинграда мы не могли знать. Но весть о том, что Сталинград ими не взят, это как-то стало известно. Потом мы узнали, что немцы отходят. А вскоре это стало и так видно. У людей появилась радость. Фашисты-же наоборот стали звереть. Уже давно не у кого спросить о достоверной дате расстрела захваченных фашистами наших людей, в том числе и нашего дяди Шуры. По моим предположениям, это произошло или в конце января, или в самых первых числах февраля 1943г.
Расстрелы наших людей были ещё и раньше. Вот что мне стало известно уже спустя несколько лет после войны. Вам, читатель, уже известно, что наша угольная шахта была специально подорвана при отступлении Красной Армии. Немцы, заняв Ростовскую область, начали предпринимать действия по восстановлению шахт и организации добычи угля для нужд Германии. В те годы все паровозы работали на угле, и немцам при растянутости их войск на оккупированных советских территориях очень нужен был железнодорожный транспорт. С целью привлечения шахтёров, рабочих и инженерно-технических работников для работы на шахтах немцы развернули свою лживую агитацию о доброй миссии их «прихода» в нашу страну. Разрешили работать школам и обучать детей в начальных классах. Ввели в обиход свои деньги – дойчмарки. Стали призывать шахтёров выйти на работу на шахтах, особенно горных инженеров и техников. В Советское время многие инженеры были партийные, члены ВКП (б). Не все партийные инженеры могли уехать из города до прихода немцев. Агитируя шахтёров на работы, немцы обещали не обращать внимание на партийность, и работа должна была оплачиваться. Семьи голодали, и надо было как-то кормиться. Понятно, что многие шахтёры, поверив фашистам, дали согласие на работы в шахте. И вот когда первоочередные работы на шахте были сделаны, шахта, будем считать, заработала, фашисты подло арестовали всех партийных работников и в один из дней повели за город, в балку на расстрел. Когда, спустя много времени, родственники расстрелянных забирали своих убитых отцов, мужей, братьев, то увидели, что у всех у них в карманах рубашек, в петличках пиджаков были цветки Мальвы. Обречённый на смерть по пути срывали эти цветы – это они прощались с нами, оставшимися жить. Не знаю, как сейчас относятся в нашем Новошахтинске к этому цветку, но после тех событий мальву у нас не любили и не сажали в своих цветниках и клумбах.
Первые дни февраля 1943-го года… Моя детская память неосознанно фиксировала и запоминала всё, что я видел в те времена. Мальчишкам всегда было интересно видеть машины. Болтаясь зимним днём во дворе своего дома, я автоматически смотрел на грузовые машины, проезжающие иногда по нашей улице. Неожиданно ближе к калитке входа в наш дворик останавливается крытый брезентом грузовик. Из кабины выходит добротно одетый немец. Решительно открывает калитку, на меня никакого внимания, идёт к дому. Открывает дверь, пошёл в квартиру. Минут через пять вышел, так же решительно и быстро прошел к машине и уехал. Мама открывает входную дверь и, выглядывая, говорит: «Сынок, а ты знаешь кто приезжал?» – и улыбается, как никогда. Я говорю, что мол нет, не знаю.
– Ганс! И знаешь, что он нам привёз? Буханку хлеба.
Я побежал домой смотреть на эту буханку. Дома мама говорит, что Ганс радовался, смеялся и без конца повторял: «Nach hаuse! Nach hаuse!» (Домой! Домой!). Вот и такие были иногда немногочисленные «Гансы» в войну. Интендантские тыловые подразделения в отличие от боевых частей входили на оккупированные территории последними, но зато покидали их первыми.
По историческим данным известно, что последняя окруженная группировка фашистских войск фельдмаршала Паулюса сдалась маршалу Рокоссовскому 2 февраля 1943 г. А войска наших южных фронтов, расширяя внешнее кольцо стратегического окружения, в боях с немецкими группировками Манштейна, ещё в декабре – январе продвигалась на восток, освобождая наши земли от захватчиков. В первых числах февраля драп немцев стал заметней. Мне было очень интересно смотреть на это отступление. Вот по нашей улице двигается группа машин. С лязгом и стуком приближается грузовик. В те далёкие ещё довоенные времена дороги наших улиц были выложены округлыми камнями- булыжниками, добываемые и обработанные в каменоломнях. У приближающегося грузовика переднее правое колесо без шины. Имея на одном уровне только три точки опоры, машина от движения сильно наклоняется под углом к стороне, где нет шины, и стальным барабаном этого колеса ударяется о мостовую. С грохотом булыжники выбивают сноп огненных искр. От удара передняя правая часть машины отбрасывается несколько вверх, но конструкция всей машины возвращает на свое место поднятые элементы корпуса машины. Инерция делает свое дело, и снова удар, и снова искры. Красиво отступают!
Чуть дальше от нашего дома, немного съехав от дороги, двое немцев возятся у своего грузовика. Машина не заводится. К вечеру я уже дома через окошко в коридоре периодически наблюдаю за немцами. Стемнело.
Утром, проснувшись, быстрей к окну – как там немцы? А во дворе красота! Все деревья, кусты в белом пушистом снеге. Красота сказочная! Тишина.
Машина на месте. Немцев нет. Ушли. Свою машину нам оставили.
– Освобождение. «Наши! Наши!» Похороны расстрелянных
Кто-то из взрослых узнал, что наши войска должны войти в город. Возможно, будет
стрельба, и нам лучше уйти из своих штукатуренных со слабыми стенами домов и временно переждать в каменных домах, расположенных на другой, смежной улице. Там в одном из домов жили наши хорошие знакомые, куда все мы и пошли сразу с утра, не мешкая. Нам, детям, сразу определили место под кроватью с панцирной сеткой. Если начнется стрельба, артобстрел, то мы, дети, должны немедленно лезть под эту кровать. Для интереса мы это опробовали. Взрослые же периодически выбегали наружу, по-соседски быстро общались друг с другом, интересуясь обстановкой. Слава Богу! Все обходилось без стрельбы.
И вдруг во дворе раздался возглас: «Наши! Наши пришли!». Из всех дверей этого «казарменного» каменного дома стали выходить люди – и стар, и млад. Радостный смех! Возгласы! Мы одни из первых все выскочили во двор. И как раз почти напротив нашего подъезда видим двух наших бойцов. Это разведчики! Они первые прошли в город. Я не знаю, что и как было в других местах города, но для нас, для меня, они были первые. Бойцы были одеты в добротные полушубки под ремнём, под которым на поясе у каждого было по две ручные гранаты. В руках ППШ (автомат Шпагина). А на шапках наши «красные звезды»! Это было 13 февраля 1943 года – день освобождения Новошахтинска.
Некоторые бойцов обнимали, звали в дом. Помню, что одна женщина даже сказала: «Пойдёмте ко мне – я борщ приготовила». Но бойцы отвечали: «Спасибо! Спасибо! Немцы, есть ли где немцы? Мы – разведчики, нам надо знать – есть ли немцы?!». Жители отвечали, что сегодня не видели, но вчера были. На радостях задавались всякие вопросы. Я стоял в трех метрах от них и вдруг, не знаю, какими силами подталкиваемый, спрашиваю: «Дяденька, а вы моего папу не видели?» Разведчик на секунду-две задумался и отвечает: «Видел! Он скоро придёт!» Как я был рад, что скоро папа придёт. (Вот детская наивность и вера во всё хорошее.)
Вскоре разведчики быстро ушли, а жители всё ещё стояли, разговаривали, радовались. Оккупация закончилась. Город освобождён без обстрелов, хотя очень сильные бои были у Санбека, под Новочеркасском, при освобождении Ростова.
Общий вздох облегчения – мы освобождены! Радость! Радость! Но печаль и горе тоже рядом. Пока февраль, до оттепели надо было перехоронить расстрелянных в балке (я в том возрасте не мог знать подробности). Горожане могли сами установить срок идти в заснеженное поле за городом, забирать своих расстрелянных родственников. В первых числах марта вернулись домой дедушка и бабушка. Дедушка подготовил большие санки, и все, кроме нас, детей, пошли за убитым дядей Шурой. Привезли, труп положили в летней кухне соседей (они ещё не вернулись из эвакуации) на печь-голландку. В наших южных областях печи-голландки мастерились печниками большие, плита поверху большая чугунная, с двумя конфорками, чтобы и обед готовить, и выварку воды согреть. (Мужчины шахтёры с работы приходили все черные от угля и мылись дома. Уже потом, много времени спустя, на территории шахты стала работать своя баня). В таких печках обязательно были объемные духовки. По нашему климату летние кухни и печки начинали использоваться с апреля и почти до середины сентября и даже позже.
На второй день, как привезли дядю, я, никому не говоря, преодолевая какую-то напряженность, волнение и немного страх, пошёл в эту кухню посмотреть на дядю. На нём была простая, не по зиме, одежда. Всё лицо и видимая часть тела имели неестественно розовый цвет. Лежали ведь несколько дней на снегу. Я всматривался в его лицо. В середине правой щеки небольшое округлое сероватое пятно, как дырочка. На левой щеке дырочка с выровом тканей щеки. Я понял, что это выходное отверстие от пули. Наверное, дядя отвернулся, чтобы не видеть, как в него целился и стрелял предатель-полицай. Куда попала вторая, смертельная, пуля, я не стал досматривать, с меня хватило для моей детской психики и того, что увидел. Вышел из кухни. Об этом я никому никогда не рассказывал до сегодняшней поры.
Похороны должны были состояться через несколько дней. Скорее всего задержка была из-за рытья вручную большого котлована. Какие-никакие городские власти приняли решение похоронить всех в одной братской могиле на территории городского парка. Вручную мужчинами был вырыт глубокий, длинный и широкий котлован. В день похорон народу пришло очень много. Кто из родственников смог где-то найти доски – сделали гробы. Дедушка и бабушка тоже как-то приобрели гроб. Хоронивших не в гробах укладывали на гробы последними. Никакого похоронного оркестра не было. Только плач и стон стоял, далеко слышимый, провожая несчастных убитых родственников. Одиноко и сейчас находится в парке эта братская могила. Редко, когда её приводят в порядок. Когда я приезжал в Новошахтинск, всегда заходил в парк, подходил к скромному обелиску и глазами отыскивал в списке фамилию дяди – Пешков Александр Давидович. Этот длинный список фамилий, напоминание оккупации, печального времени войны.