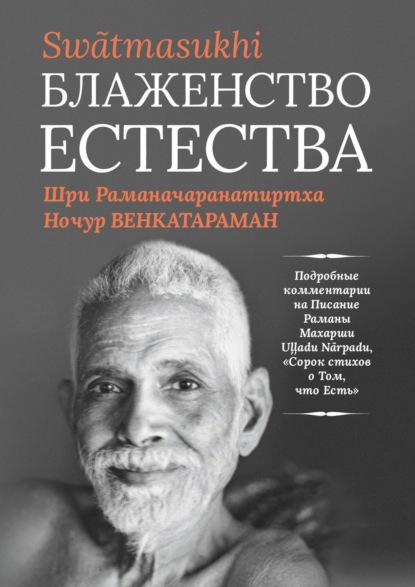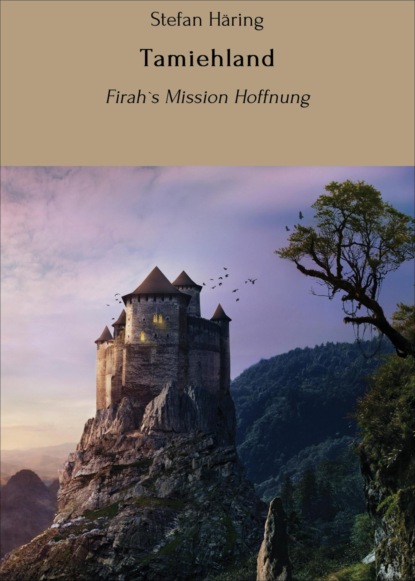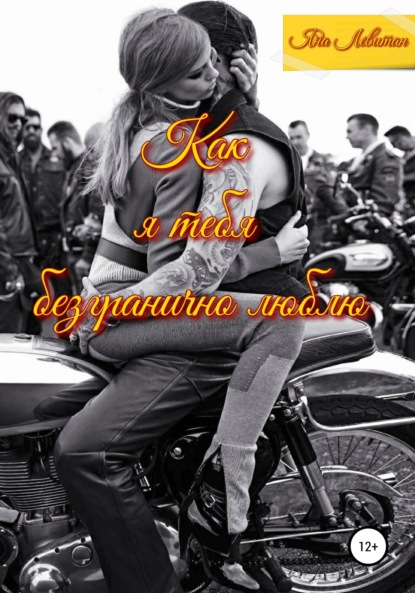В броне по дорогам жизни. Воспоминания офицера-танкиста
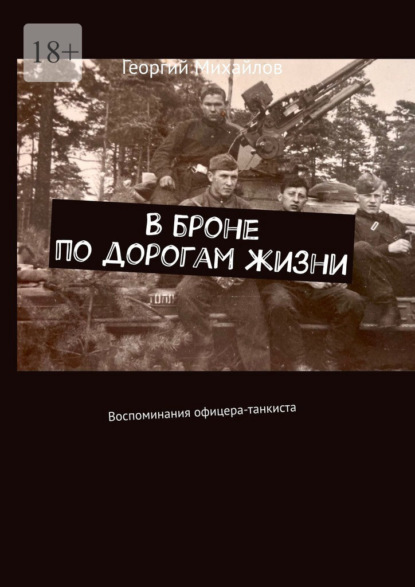
- -
- 100%
- +
До этого момента мы, курсанты, еще не знали об этом методе самовытаскивания танка из «снежного плена». Вот так подполковник Кавардаков за считанные минуты нас обучил. Но в этой истории меня удивляет другое. А тот офицер или штатные механики-водители, которые в основном были фронтовиками, они что? Не знали об этом методе? Это что за офицер в танковом училище? Для меня все это и сейчас остается вопросом. Может, механику-водителю лень было ночью в ЗИПе искать эти тросики? Мол, курсантов много, пусть лопатами «без конца» (пока танк на малозаснеженную вершину не выйдет) ковыряют пласты снега.
Но продолжаем те ученья. Где-то глубокой ночью наша наступательная деятельность прекратилась. Это была вообще в нашей жизни первая ночь, когда мы зимой спали в танке. Слово «спали» в это ночное время вряд ли подходило. Это был сон-бред с периодическим отключением своего сознательного состояния. От холода по очереди вылезали из танка по биологической надобности. В конце концов всем экипажем легли на полик боевого отделения, прижавших друг к другу. Механик-водитель также без конца возился отдельно на своем водительском месте. У меня на бушлате расстегнулась верхняя пуговица, но окоченевшим пальцами я так и не смог ее всунуть в петлю, чтобы застегнуться. Терпеливо ждали утро. Неожиданно один из членов экипажа Геннадий Жулев запел песню «Бессаме, бессаме мучо…». Он пел один. А мы все лежали и слушали. Хочу сказать, что этим он поднял настроение – мы душевно обогрелись.
Утро. Постепенно все расшевелились. После полевого завтрака наступил для нас второй этап учений. Я со своим экипажем стал «пехотинцем» -десантником на танке в должности командира стрелкового отделения. По замыслу учений мы – в обороне. Окопались в снегу несколько сзади и сбоку танка. Один раз пришел офицер – наш командир взвода. Проверил… Уходя, сказал, «чтобы на снегу не спали, а то замерзнете.» Я же, как командир, должен следить за этим. Кто-то из ребят узнал, что недалеко в поле есть небольшой стог сена. По одному незаметно каждый принес себе по охапке, чтобы уложить на уже умятый снег в своей ячейке. Всё теплее лежать.
Странные были эти учения для нас. Мы ни разу не слышали и не получали никакого приказа или распоряжения ни на оборону, ни на наступление. Возможно, нас просто использовали на учениях для «своих» учебных задач военного гарнизона, а заодно и «обкатывали». Пролежали весь светлый день, уже и вечер стали прихватывать – «держали оборону» (от ветерка с морозцем). Но вот поступила команда – от своих экипажей, подразделений послать по человеку с котелками к полевой кухне за ужином на всех. Темнеет зимой быстро. Ужин принесли вместе с наступившей темнотой. Кашу разложили по крышкам котелков – солдатские котелки были у каждого. Чай разлили по кружкам. Все теплое, уже остывшее. Расположились кто как мог – по бортам или на гусеницах танка. Только начали есть – команда: «Приготовиться к движению!». Сколько могли повпихали кашу в рот, остальное выбросили, чай вылили на снег. Спешно свои котелки убрали в вещмешки. Едва это сделали, опять команда, передаваемая от танка к танку: «По машинам! Заводи!» Экипажи сели в танки, а мы теперь «пехота» – десантники на танке. Залезли на танк. Знали, что в запасе несколько минут, так как механики – водители должны были прогреть двигатели после некоторого простоя. Пристраиваемся за башню, нас три или четыре человека. Танки начинают движение, вытягиваясь в колонну. Держась за край поручня на башне, болтаясь из стороны в сторону при движении танка по бездорожью, достаю из кармана бушлата недоеденный кусочек ржаного хлеба с кусочком пиленного сахара – доедаю остатки ужина. Как и что дальше происходило по ходу этих учений уже не вспомнить – слишком быстро чередовались картинки училищных занятий, как и самой жизни.
В первых числах апреля рота выехала в летние лагеря готовить базу для проживания и учебных процессов летнего периода. Ремонтировали ячейки земляных палаток с деревянными настилами для спанья, здание кухни и столовой, прочие постройки и сооружения. В мае все курсантские роты переехали в лагерь. Все основные полевые занятия проводились именно здесь.
В неделю два-три раза практические занятия – вождение на танкодроме с преодолением целого ряда препятствий, тактика или подготовка к боевым стрельбам.
Стрельбы. Параллельно несли суточную караульную службу или на сутки по одному, или по два человека находились в оцеплении по периметру полигона в районе полевых дорого с целью не допустить случайного въезда на полигон гражданских лиц, когда у нас проходили стрельбы. Хорошо, что такое оцепление снаряжалось только летом, хотя стрельбы были и в зимний период. Потому что вот как это происходило. Привозят к вечеру «на пост» на какую-то дорогу, ведущую на полигон. С собой у тебя только шинель вскатку и твой вещмешок, в который положил немного ржаного хлеба и банку мясных консервов, выданных тебе на все сутки. Естественно, ты сам должен догадаться иметь какой-то нож, спички и взять флягу с водой. Если рядом лесок, то костер разведешь, а если пост в поле и деревня еле видна… Спишь на земле, шинель – и матрац, и одеяло. За тобой приедут через сутки, т.е. где-то к началу вечера. Было еще одно мероприятие за все три года. После всех училищных стрельб наша рота получила команду прогнать цепью весь полигон по его ширине от линии падения снарядов и в длину километров на 15. С задачей находить неразорвавшиеся снаряды и рядом с ними ставить веху. Потом саперы определят, что с ними делать. Хотя при стрельбе до цели пролетал снаряд по упражнениям не более двух километров, но рикошетом он мог улететь на расстояние более десяти километров.
Утром после завтрака все мы заполнили фляги водой ключевой, прихватили с собой самими уже вырезанные из веток вехи и под руководством двух своих офицеров вышли к полигону. Прочесали его цепью, в нужных местах, повтыкали вехи и двинулись в обратный путь. Первый курс, мы еще не приобрели достаточной выносливости, как наши офицеры. День выдался не так уж и жаркий, но какой-то тепло-влажный, как будто или дождь собирался, или он уже где-то прошел. Воду свою из фляг давно уже выпили, естественно, от этого еще хуже некоторым стало – мокрые, потные. Зашли в какой-то лесок небольшой, прошли немного и в низинке увидели хорошую лесную лужу в неровном диаметре не более 10 метров. Кое-где коровьи следы, по воде зигзагами снуют какие-то насекомые в виде больших комаров и т. д. Самые измученные жаждой кинулись к воде, пилотками черпают воду и, подняв пилотку к верху, пьют стекающую из нее воду. Не удержался, попробовал и я испить из лужи, хотя терпение не делать этого у меня еще было. Офицера наши, как увидели этот водопой, забегали: «Что вы делаете? Прекратить! Дизентерией хотите заболеть?» Думаю, на третьем курсе мы бы уже такое не сделали.
В начале июля наш курс вернулся на зимние квартиры, чтобы собраться и разъехаться по воинским частям страны на стажировку. Наша рота в полном составе выехала в Белорусский военный округ. Глубокой ночью часть роты, в которую я попал, в открытом кузове ЗИЛа под начавшимся дождиком, привезли от железнодорожного вокзала к воинской части в районе населенного пункта Барауха. Днем стало известно, что танковая воинская часть не укомплектована до полного боевого состава. (Примечание автора: часть «кадрированная» и боевая техника находится на консервации). Через два дня нас перевезли в действующую воинскую часть в районе г. Полоцка, где и распределили по ее подразделениям. Все мы стажировку проходили в должности командира танкового взвода, причем – по два курсанта в каждом взводе, кроме меня. Мои товарищи по очереди готовились к занятиям, на второй день проводили их, я же в стажируемом взводе был один. Возможно, для пары не хватило, а вдобавок начальники рассуждали: «Михайлов справится и один». Я не хвалюсь, уже тогда заметил, что меня иногда посылали, где было потруднее. В последующем вы убедитесь в моих домыслах. Взвод, которым я стал командовать, обучать – проводить занятия – плавающих танков. Танк того периода – ПТ-76. Это легкий танк, плавающий, калибр пушки 76 мм. Штатный командир взвода – старший лейтенант – принял меня почему-то не очень дружелюбно. Как-то весьма суховато представил меня личному составу своего взвода, особо со мною на службе не общался. А в одном случае вообще проявил себя не по-товарищески. Мне надо было провести занятие по тактической подготовке на тему: «Танк в наступлении с преодолением водной преграды». Занятия не классные и должны были проходить на местности с практическими действиями, но, конечно, без стрельбы и без «противника». Надо было знать или найти подходящее место для этого. Для меня, не знающего хорошо местность, возникла «загвоздка» – найти срочно такой район, чтобы была возможность атаки (открытая местность для наступления), водная преграда для форсирования и последующего преследования противника. Спрашиваю штатного командира взвода, не скажет ли он – где обычно проходят такие занятия? Прошу назвать место, показать на топографической карте. А он как-то недоброжелательно и даже грубовато ответил, сходи, мол, сам к реке и подыщи такое место. Я уже знал раньше, что в районе этой воинской части протекает неширокая речушка, но местность должна быть подходящая для тактической задачи. И вот за день до занятия я получил в секретном отделе топографическую карту и пошел к реке выбирать район атаки и форсирования. Да, дорогие читатели, Белоруссия – это не Ростовские, Ставропольские степи – поля. Здесь леса, болота, речушки. Места красивые, но мне хоть немного простора к реке и после нее. Хотя тема касается одного танка, но наступательные действия или просто атака ведется не одним танком.
Исходил я эту речушку и по течению, и против течения, да и пешком в один раз много не находишь. Остановился окончательно только на одном единственном месте – на обычном переезде через речку в брод по существующей, действующей полевой дороге. Тут и подъезд открытый, и выход на противоположный берег подходящий для атаки – без обрывов, болота, без лесных зарослей. Единственное, что не будет соответствовать плановому занятию, так это то, что танк будет форсировать речку не в плавь, а как все машины, по дну своей «наземной» ходовой частью. На следующий день занятия мною были проведены, как и наметил. Тактическую подготовку вообще-то я оценивал серьезно и относился ко всем требованиям подготовки к ведению боя реалистично. Надо сказать, что солдаты и сержанты (командиры танков) меня слушали, понимали и незамедлительно исполняли все команды. Все шло как будто мы уже давно друг друга знаем и надежно «притерты» службой. Лично я занятиями остался очень доволен. Кстати, мне что-то и не вспомнить, чтобы кто-то нас, по крайне мере меня, на этой стажировке опекал, инструктировал, контролировал. В основном я действовал один, только перед занятиями сам осведомлялся с ротным или взводным по некоторым вопросам, а в конце занятий докладывал о проведении.
К концу июля наша стажировка заканчивалась, и к первым числам августа мы вернулись в Саратов. Некоторое время учебные занятия продолжались, но настрой у всех уже был на наш первый долгожданный отпуск. Мы закончили первый курс!
Чем же еще был интересен этот первый год нашей курсантской жизни? Все мы получали небольшое денежное довольствие на личные нужды. Покупали туалетные принадлежности, сапожный крем, подворотнички или просто белый материал, из которого подшивали себе подворотнички, в увольнении любили зайти в кафе, полакомиться чем-нибудь «вкусненьким» и т. д. Но еще зимой один курсант предложил небольшими группами сыграть «в котел». Несколько человек заключали между собой соглашение – определенную часть полученных денег в один из месяцев периода «котла» отдавать одному из участников. И так каждый месяц. Кидали жребий – кому в какой месяц отдавать намеченную сумму или договаривались между собой. Многие от такого котла купили себе часы и т. д. Я давно мечтал купить себе двуствольное ружье и договорился в своей группе получить деньги последним, к отпуску.
Деньги тогда «в ходу» были первой послевоенной реформы, по-моему, конца сороковых годов. Курсанты первого курса получали что-то около шестидесяти рублей в месяц, возможно, меньше. На втором и третьем курсах следовала небольшая прибавка. Много это или мало? Мы, курсанты, такие вопросы не задавали, тем более что были на полном обеспечении государства. Но для общей оценки этого вопроса скажу, что мой отец, как горный инженер, работал на шахте в должности помощника главного механика шахты в те годы получал около полутора тысяч рублей в месяц. Если шахта план выполняла, были еще премиальные выплаты.
Итак, конец учебы первого курса. Мы год не были дома. Такая была радость! Отпуск на целый месяц! В первых числах сентября вернуться в училище. Получили проездные документы. Нашли своих попутчиков – кому ехать в свои родные места. «Наши» вагоны все те же – общие плацкартные. Какие там постели?! Нам в училище, бывало, и простая русская земля служила местом постели.
Последний час езды к своему Новошахтинску простоял у окна вагона. Вот мелькают родные места – поля кукурузы, сады, все те же постройки. Последняя остановка на станции Михайло – Леонтьевская перед Новошахтинском. Давай, дежурный, звякай в свой колокол, отправляй поезд – домой, домой хочу!
Приехали! Лечу по улице как на крыльях. Вот и наша Ворошиловская улица. Первый бабушкин дом – все дома. Короткая встреча с ними, не задерживаясь, иду к своему дому. Мама и братья уже вышли к калитке. Обнимаемся… Такая радость! В конце двора за своей оградой наша верная собака – Тарзан – из породы овчарок, выращенная у нас еще от щенка. Она стоит неподвижно, навострив уши. Кричу ей: «Тарзан, Тарзан!» Услышав мой голос, она мгновенно срывается с места, размахивая хвостом, носится по своей территории. Бегу к ней, треплю слегка ее голову, глажу. Тарзан, как может, показывает свою радость. Это надо видеть! Нет ничего радостнее вернуться в свой родной дом, когда ты еще сам полный сил, и все твои родные живы – здоровы.
Отпуск проходит хорошо. По утрам с удовольствием рублю дрова про запас как для текущей топки кухонной печи, так и впрок на зиму. Кто из одноклассников был в это время в городе – договорились встретиться, поговорить друг о друге. Но вот зазнобы моей Нины Дубченко в тот период в городе не было.
Исполнил свою мечту – купил двустволку ИЖ-49 шестнадцатого калибра. Мой друг Женя Пристинский также был на каникулах в городе. Предложил ему съездить на велосипедах к водохранилищу реки Кундрючья, где в школьные летние каникулы ловили удочками рыбу. На этот раз решили, если повезет – поохотиться. Ему предложил свою одностволку. Лежим на траве у берега, не виделись больше года – говорили о всякой всячине. До уток не добраться – водоем широкий, и все утки маленькими стайками на его середине. Ружья – рядом, на предохранителях. И вдруг, с шумом от крыльев стайка уток – штук 5—6 – перед нами на высоте метров тридцать делает разворот в сторону водоема. Кричу: «Утки!» Вскакиваю с ружьем, снимаю с предохранителя и «на вскидку», не целясь через мушку, нажимаю первый спусковой крючок. Выстрел. Второй раз не стал нажимать, т.к. завороженно смотрел, как сразу после выстрела одна утка стала падать. «Жека, ты что не стрелял?» – спрашиваю своего друга.
– С предохранителя забыл снять, – отвечает.
Да он и сам замер и смотрел, как подстреленная утка падала на кромку берега у самой воды.
Отпуск пролетал быстро – в мелких повседневных домашних делах. Братья Владимир и Михаил росли. Дедушка, бабушка, мама и тетя все еще были в силе. Тяжелые послевоенные времена уже прошли, и вся жизнь, можно сказать, шла вполне счастливо, достойно.
2.3. Второй курс. (1955 – 1956 гг.)
Собраться в обратную дорогу по-солдатски было недолго, и уезжал я на этот раз из дома, доброжелательно со всеми попрощавшись.
Привет, Саратов! За два дня все ребята вернулись в училище. При встрече друг другу обрадовались. Наша учеба-служба началась. Второй курс… Мы уже не новички – и в армейскую жизнь втянулись, и друг к другу притерлись.
Считаю, что наш третий взвод был дружный и вполне уравновешенный в отличие от других взводов, особенно от второго и четвертого. Ребята во взводе друг к другу относились по-товарищески, дружелюбно. Особенно хорошо я подружился с Борисом Мурзабековым. Он с Кавказа, по национальности кумык. До этого я и не знал, что есть такая народность. Он первый проявил ко мне товарищеское внимание. Как многие в молодости, давали друг другу имена-клички, так и мы. Я его называл Гарри – шкипер, а он меня – Джонни. О тех временах остались только фотографии. Когда мы окончили училища и до отъезда по местам службы был целый месяц отпуска. Борис звал меня к себе в гости:
– Поехали! Поехали! Знаешь, как тебя у нас встретят?!
Сейчас, когда пишу об этом, с грустью вспоминаю всех ребят. Где ты, мой дорогой Гарри?
Володя Никандров, Коля Зубков, мой земляк Ваня Куликов… К сожалению, по окончанию училища мы не догадались взять домашние адреса друг у друга. Возможно, на это были некоторые психологические причины. Сказать откровенно – жизнь курсантов в училище была тяжеловатая. Физические нагрузки, ранние подъемы, порой полубессонные ночи. Но не надо думать, что мы страдали от этого, раскисали, сетовали на такую жизнь. Этого не было, все мы понимали, что так надо, что все мы должны переносить, даже не думая о трудностях. А физически развивались, тренировали себя даже в свободное время, помимо плановых занятий по физической подготовке. В училище висел лозунг —«Броня не любит дряхлых мышц». Мы просто морально устали от этого четкого распорядка, когда вся твоя жизнь расписана в сутках до минуты. Эта моральная усталость, в преддверии новой «свободной» жизни по окончании училища, лживо толкала нас психологически за пределы училищного бытия. Только теперь я могу окончательно аккумулировать наше тогдашнее состояние. Ну, по крайней мере лично свое состояние. Обмениваясь фотографиями по окончанию училища, прощаясь с грустью и товарищеской любовью друг к другу, мы не додумались обменяться адресами.
Простите меня, читатели, за такое лирическое отступление. Я возвращаюсь в тексте к описанию наших курсантских взводов роты. Первый взвод – направляющий в роте, ведущий. Ребята там подобрались, как специально, заводные, многие любители проникающего в нашу страну рока. Не случайно, когда к какому-то празднику, уже на третьем курсе, организовали группу концертных участников, то в нее вошли курсанты в большинстве из этого взвода.
Следующий взвод второй, но о нем напишу в последнюю очередь.
О своем взводе – третьем – уже кратко написал.
Четвертый взвод – замыкающие в строю роты, самые «малые» ростом. Вечно у них какие-то ссоры, шум. «Без конца» меняем своих младших командиров из своей же среды, до самого третьего курса включая. В принципе, ребята хорошие, но как гномики ворчливые.
И вот второй взвод. Весь первый год ничем особо не выделялся, но нашелся один негодяй, который создал ЧП. Возможно, еще на первом курсе, но точно на втором, у некоторых курсантов взвода после ночи стали пропадать деньги из карманов гимнастерки. Хотя курсантское денежное довольствие было не столь велико, но вполне хватало в месяц один-два раза в увольнении зайти в кафе порадовать себя пирожным, мороженым или соком. Многие в роте и не знали, что кто-то ворует деньги во втором взводе. Ребята взвода, у кого пропали деньги, никому не говоря, решили по ночам после отбоя по очереди дежурить, а именно – вести негласное наблюдение, лежа в своей кровати. И подловили. Их же, из взвода, курсант. Сын уборщицы – работницы нашего училища. Какие помещения и где она убирала, мы никогда не видели, т.к. свои казармы курсанты драили сами. Возможно, командование училища пошло женщине навстречу и приняли ее повзрослевшего сына в училище. Будет офицером, танкистом. Гордость матери! Только этот гаденыш не осознал – какую доброту и услуги предоставили ему и его матери.
Ребята второго взвода ждали воскресенье, когда нет занятий, а с утра еще не приходят офицеры роты. И вот сразу после завтрака ворюгу повели в туалет, положили на пол, накрыли матрацем и стали его избивать. Кто-то из ребят второго взвода пришел к нам и говорит:
– У вас Евдокимов деньги воровал? Идите бить его.
Не знаю, ходили ли наши ребята на эту расправу. Думаю, что с нашего взвода в этом никто участие не принимал – слишком это было дико и безобразно.
Позже мы с Иваном Куликовым сходили посмотреть на эту жертву – он все еще лежал на матраце с темными подтеками под перепуганными глазами. Этот самосуд мог бы быть гласным на все Вооруженные Силы, по крайней мере – на все военные училища страны. Командование училища, понимая это, срочно тихо прикрыло это дело. Никого не наказали, ничего не обсуждалось – как будто ничего не произошло. Евдокимова быстро «тихо» исключили. Как с матерью решалось – никто из нас не знает. Ни его, ни матери никто больше из нас никогда не видел.
Отбор достойных курсантов, а точнее – отчисление недостойных – продолжалось по второй курс включительно. Только из нашего взвода во второй год исключили двоих. Одного, возможно, за то, что он иногда любил выпить. Мы его пьяного никогда не видели. Думаю, что в этом был замечен в увольнении, а какие-то службы не зря работают… За что был уволен второй, мы даже не знаем. Но когда его увольняли, он плакал…
Описывая эпизоды происшествий и отчислений из училища, приходишь к выводу, что, возможно, и меня могла постичь участь быть отчисленным на этом курсе. Несколько позже мы вернемся к небольшому, но серьезному событию, которое и привело меня к тому выводу.
Второй курс характеризовался насыщенностью полевых занятий, особенно в зимнее время. В начале этой второй части я сообщал, что буду давать описание отдельных интересных событий, эпизодов. Занятия по некоторым предметам согласно программе и методике обучения предусматривались только как полевые в огневом, инженерном и т. д. городках. Некоторые предметы (радиодело, полит-подготовка) – в классах учебного корпуса. Поэтому в неделю два-три дня занятия были и в классах, и на улицах. После занятия в инженерном городке за время перерыва приходилось строем бежать в учебный корпус на занятия в классе по «Истории КПСС». В данном случае расстояние составляло примерно полтора километра. Здание учебного корпуса нашего командного училища только достраивали, и до третьего курса все классные занятия проходили в учебном корпусе Первого технического училища. Осенью и зимой все старались как можно быстрее «ворваться» в класс (Сейчас будете смеяться!). Лекции по полит-подготовке проводились в обширном полукруглом помещении, по центру которого стояли две колонны. Каждый старался сесть за столы, которые относительно стола преподавателя располагались как бы за колоннами. После «холодного», а то и «морозного» часового занятия в городке слушать и записывать монотонную лекцию по истории партии в теплом помещении минут через двадцать без сна было невозможно. Одно такое занятие в инженерном городке мне запомнилось еще и по другому поводу. Хотя уже и наступила осень с утренними морозами, но на зимнюю форму одежды мы еще не перешли. Первое занятие с утра было в инженерном городке. С ночи был мороз, и нам разрешили одеть только «свои» солдатские трехпалые перчатки. Но за ночь у меня из шинели их украли. И вот стоим в строю на занятиях в городке. Мороз делает свое дело. Преподаватель заметил, что я без перчаток. Спросил. Я ответил, почему без перчаток, и попросил у него разрешения держать руки в карманах брюк. Он не разрешил…
А вот учебный процесс, как и вся жизнь зимнего периода этого курса запомнились на всю жизнь. Возможно, это было в январе-феврале. На грузовых машинах, хорошо что с крытыми брезентовыми тентами, роту повезли на территорию училищных летних лагерей. Лыжи так же взяли с собой. Не доезжая до учебной полевой базы несколько километров, машины встали из-за глубокого снега. Сумерки наступали быстро. Не мешкая, все стали на лыжи, и офицеры-командиры взводов повели роту к лагерю. Вот тут-то мне, что давно уже не бывало, повезло. Меня и еще одного курсанта назначили сопровождать машины назад в училище. Ребята роты, ушедшие на лыжах, потом сказали, что все ночевали, прижавшись друг к другу, в стогу сена. А мы с товарищем приехали в лагерь через два дня в дневное время, когда туда пробили заснеженную дорогу. В лагере жили в специально построенном из бревен доме, рассчитанном для размещения людей, численностью до курсантской роты. В помещении по обе стороны закреплены сплошные деревянные нары в два яруса, а ближе к двери установлена печка-буржуйка.
Самая нужная задача суточного наряда заключалась в том, чтобы не иссякал запас дров, а наша буржуйка все время топилась. Помещение рассчитано было только для того, чтобы в нем спать. Умывание, все виды туалета, кроме банной помывки, тут же во дворе. Вода из обычной уличной колонки. Завтрак, обед и ужин – так же на улице, за общим деревянным столом. Но еду готовили училищные повара на большой передвижной кухне. За все время этого зимнего пребывания в лагере мне пришлось один раз рано утром разжигать громадную печь этой передвижной кухни, чтобы повара успели приготовить завтрак. Вот такой приказ был возложен на меня. Хорошо, что дома в Новошахтинске опыт по разжиганию печки мною был отработан. Но тут еще и дрова пришлось без конца рубить. А «поднял» меня дневальный «по хате» для этой работы часа в четыре ночи.