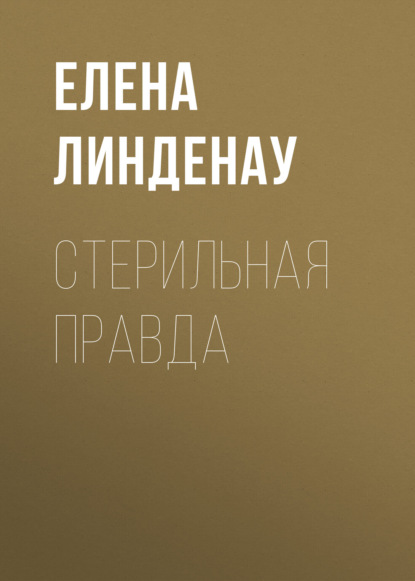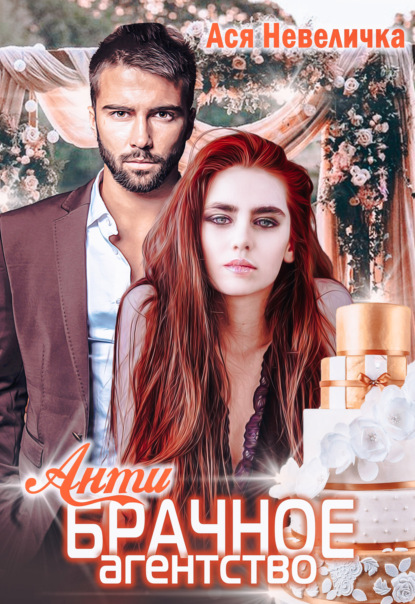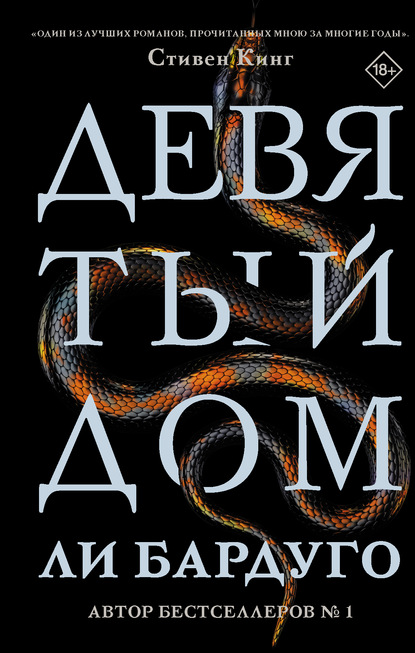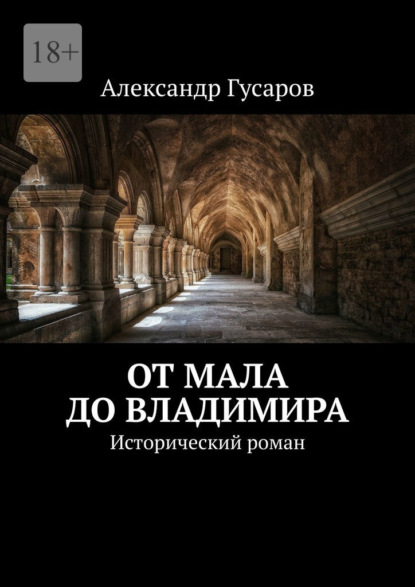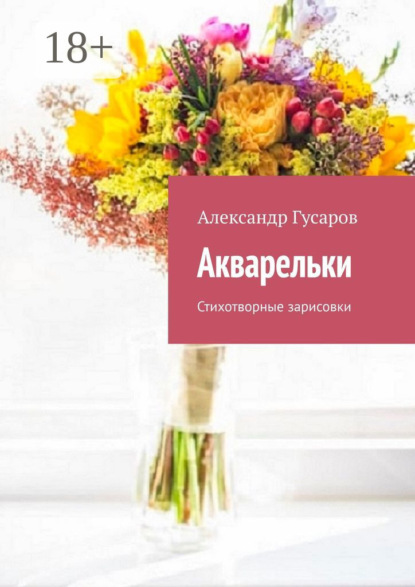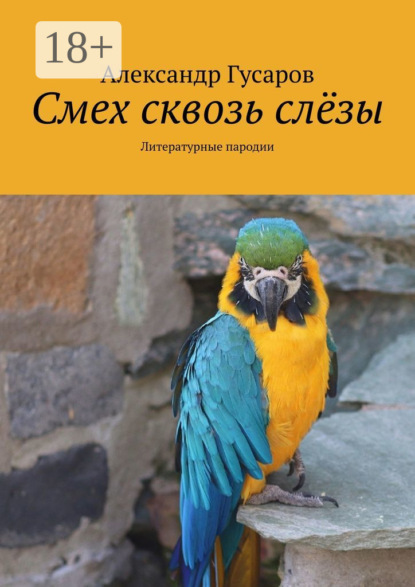Храм в душе. Исторический роман
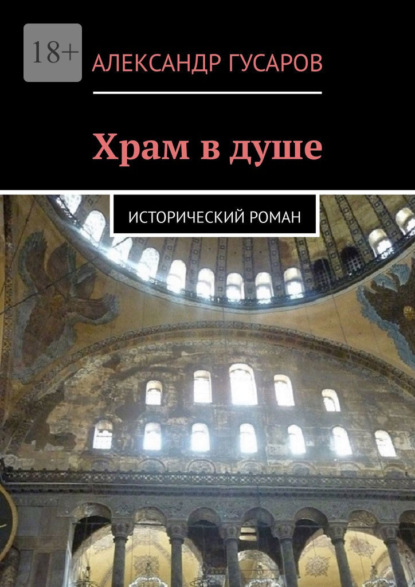
Исторический роман «Храм в душе», как и первые исторические романы автора: «Из варяг в греки» и от «Мала до Владимира», является продолжением повествования о Древней Руси. Картины периода феодальной раздробленности и татаро-монгольского нашествия, обрушившегося на русскую землю, предстанут перед взором читателя. О мужестве и стойкости, измене и верности, о любви и преданности своей земле поведает роман.