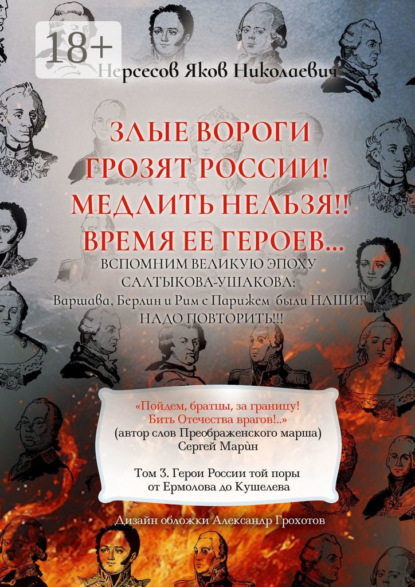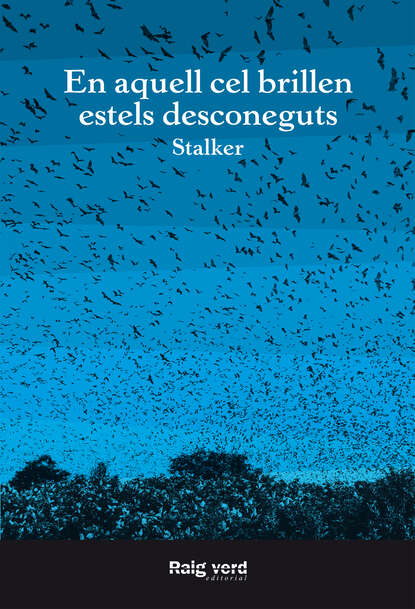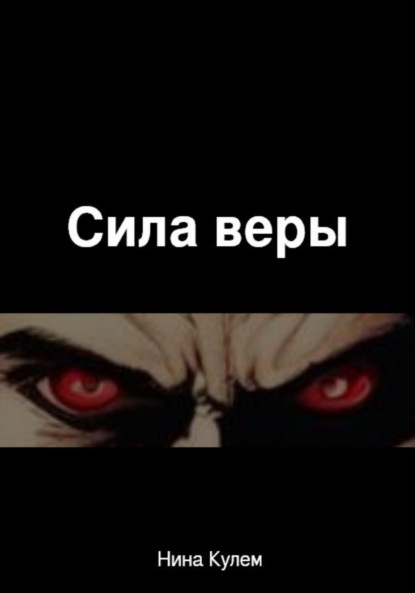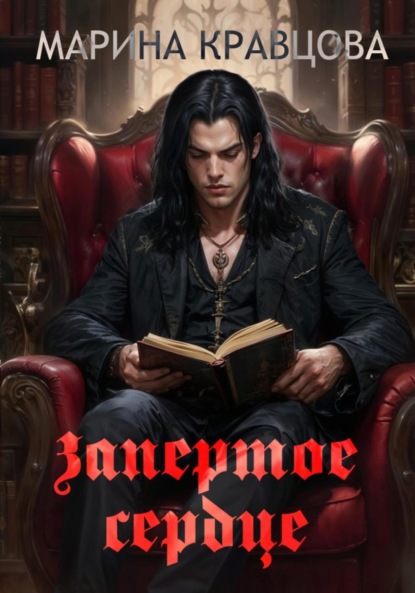Эволюция рациона. Что ели наши предки и что нам есть сегодня
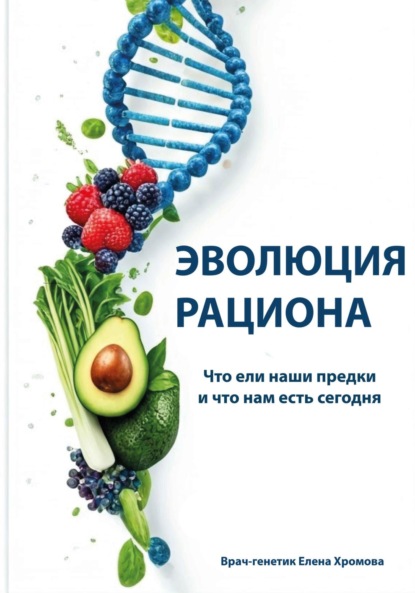
- -
- 100%
- +

ДИСКЛЕЙМЕР
Эта книга основана на моём практическом опыте работы с людьми, личной истории и многолетней увлечённости антропогенетикой. Она предназначена для ознакомления с принципами питания, связанными с генетическими и эволюционными особенностями человека. Представленная информация носит образовательный характер и не заменяет консультацию врача. При выборе индивидуального рациона необходимо учитывать состояние здоровья, хронические заболевания и результаты медицинских обследований. Для получения персональных рекомендаций обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту. Больше информации, статей и материалов вы найдёте в моих социальных сетях под именем dr.hromosoma.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В современном мире тема питания похожа на бесконечное поле битвы. Веганы доказывают преимущества растительной пищи. Сторонники карнивор-диеты клянутся в силе мяса и животных жиров. Сыроеды уверены, что любая термическая обработка лишает еду её пользы. Кето-адепты убеждены: именно жиры – ключ к здоровью. Среди этих шумных дебатов простому человеку легко потеряться.
Как врачу и человеку, который сам испытал влияние разных стилей питания, мне хорошо знакома эта путаница. На консультациях я часто встречаю людей, ищущих «идеальный» рацион. Они исключают то глютен, то лактозу, то мясо, считая их виновниками всех своих проблем. Иногда это помогает. Но чаще приводит к новым трудностям и серьёзным дефицитам, особенно у детей.
Можно ли вообще найти питание, которое подойдёт именно вам, не устраивая жестоких экспериментов над своим организмом? Действительно ли глютен, молоко или мясо вредны для всех без исключения? Или это очередная мода, которая может навредить больше, чем помочь?
В этой книге я отвечу на эти вопросы, опираясь не только на научные факты и современные исследования, но и на собственный врачебный опыт. Вы узнаете, как выбрать рацион, который «разговаривает» с вашими генами и учитывает особенности именно вашего тела. Чтобы питание стало не испытанием, а удовольствием и источником энергии.
ВВЕДЕНИЕ: ПУТЬ К СВОЕМУ РАЦИОНУ
В этой книге мы будем искать не универсальную диету, а именно тот индивидуальный рацион, который согласуется с природой человека, его эволюционным прошлым и особенностями генетики. Мой опыт работы с людьми, сталкивающимися с метаболическими, соматическими и психологическими трудностями, показал одно: универсальных решений не существует. То, что приносит пользу одному, может оказаться совершенно бесполезным для другого или даже вызвать серьёзный вред. Именно практика, длительные наблюдения и личные истории пациентов привели меня к пониманию, что нужен иной подход.
Я называю его эволюционно-генетический рацион. Это не очередная диета и не список запретов, а целостная система поиска питания, которое будет работать именно для конкретного человека. Она строится на трёх уровнях, каждый из которых отражает важную сторону нашей биологической реальности и взаимно дополняет другие.
1 уровень. Эволюция.
Миллионы лет наш вид жил в тесной связи с природой. Менялись условия среды, климат, образ жизни – и вместе с этим перестраивались внутренние механизмы человека. Метаболизм Homo sapiens формировался в контексте окружающей экологии и источников пищи, которые были доступны на протяжении истории. Именно эта глубинная эволюционная «память» продолжает определять, какие способы питания лучше согласуются с нашими генами.
2 уровень. Адаптация.
По мере развития культур и технологий человек открывал новые продукты и способы их использования. Организм, в свою очередь, искал возможности приспособиться: одни изменения закреплялись быстрее, другие оставались частичными. Так формировался баланс между внешней средой и внутренними возможностями. Но этот процесс никогда не был одинаковым: разные группы людей проходили путь адаптации по-разному. Поэтому сегодня у каждого из нас есть свои индивидуальные особенности усвоения и метаболизма.
3 уровень. Генетические различия.
Каждый человек несёт уникальный набор генов, влияющих на работу ферментов, скорость метаболизма, чувствительность к макро- и микронутриентам, а также на то, как организм реагирует на определённые продукты. Именно эти различия объясняют, почему универсальных схем не существует: питание, которое укрепляет здоровье одного человека, для другого может оказаться нейтральным или даже неблагоприятным.
Эволюционно-генетический рацион – это поиск личной гармонии: между нашей общей историей как вида и нашими индивидуальными особенностями. Каждая часть книги будет посвящена отдельному элементу этой системы:
• тому, как формировался человеческий рацион в ходе эволюции,
• как адаптация и кулинарная обработка меняют свойства пищи,
• какие продукты активируют защитные механизмы генома, а какие перегружают систему,
• и, наконец, как наши гены определяют, что именно подходит конкретному человеку.
Все эти уровни складываются в единую систему, цель которой – помочь вам найти собственный путь к питанию, которое будет поддерживать здоровье, давать энергию и укреплять долголетие!
ОТ АВТОРА
Тема питания сопровождает человечество тысячи лет. Уже в Древнем Египте, Греции и Риме существовали свои представления о том, какая пища полезна. Гиппократ ещё в IV веке до н. э. сказал: «Пусть пища станет твоим лекарством». В Средние века диетология приобрела системный характер: считалось, что тип питания напрямую связан с состоянием организма. В эпоху Возрождения и Нового времени появились первые рекомендации по сбалансированному рациону.
XX век стал временем научного прорыва: были открыты витамины и минералы, изучены макро- и микроэлементы, доказана их роль в метаболизме. Вместе с этим появились десятки новых диет – от низкокалорийных до высокобелковых, от вегетарианства до карнивор. Каждая из них обещала универсальный путь к здоровью. Вместе с ростом интереса к питанию возникли и крайности. Для некоторых людей выбор еды превратился в навязчивый контроль. Так появилась орторексия – болезненное стремление питаться «правильно», когда любая еда вне правил вызывает тревогу. Мы ещё вернёмся к этой теме в отдельной главе, ведь она напрямую связана с генетикой.
На самом деле история выбора правильных продуктов началась задолго до появления первых диет. Ещё в доисторические времена человек шаг за шагом оттачивал свой рацион: пробовал новые виды пищи, учился обрабатывать их огнём или ферментацией, приспосабливался к корнеплодам, дикорастущим травам и мясу диких животных. Этот процесс был неосознанным, но постоянным экспериментом, результаты которого сохранились в наших генах. Сегодня мы можем проследить его гораздо глубже: археогенетика позволяет восстановить, чем питались наши предки, а современные исследования генома показывают, какие продукты и стратегии питания действительно соответствуют индивидуальным особенностям организма. Эволюция питания не завершилась – она продолжается уже в постгеномную эпоху, когда выбор еды становится не универсальной догмой, а персональным решением, основанным на сочетании опыта предков и данных нашей собственной ДНК.
Лично для меня тема питания всегда была особенно значимой. Ещё в юности я начала задумываться о том, что ем, и постепенно интерес к составу продуктов превратился в стремление выстроить для себя максимально «правильный» рацион. Всё началось в медицинском университете, когда я впервые обратила внимание на добавки и консерванты, которые стремительно распространялись в пищевой промышленности. Тогда мне казалось, что достаточно просто исключить вредные вещества и следовать строгим правилам – и здоровье будет под надёжной защитой.
В начале 2000-х годов на волне восточных философий стремительно набирало популярность вегетарианство. Многие видели в нём путь к духовному очищению и гармонии. Под влиянием этих идей я на три года отказалась от мяса, не подозревая, что мой организм генетически плохо приспособлен к такому стилю питания. Позже я осознала, что именно в тот период у меня возник скрытый дефицит жизненно необходимых нутриентов: витаминов B12, A и D, омега-3 жирных кислот, карнитина, железа и цинка. Со временем это вылилось в серьёзные последствия – анемию, гипотиреоз, поликистоз яичников и синдром хронической усталости. Мне казалось, что я иду по самому правильному и благостному пути, но моё тело говорило обратное. И если бы я продолжила, то духовного роста я достигла бы уже в другой жизни – через скоропостижный цикл перерождения.
Спустя несколько лет я вернулась к привычному рациону, включающему мясо, молочные продукты, рыбу и яйца. Но вскоре в медицинском сообществе и среди нутрициологов всё чаще звучали рекомендации исключить молочные продукты, глютен, сахар и другие потенциально небезопасные вещества. Началась эпоха диетических экспериментов: кето, низкоуглеводные протоколы, палео, безглютеновое и безказеиновое питание. Я, как и многие коллеги, решила попробовать кето-диету, тем более что всегда любила жирную пищу и считала её источником энергии и удовольствия.
На первых порах этот стиль казался мне подходящим, особенно учитывая генетическую особенность – сниженное восприятие жирового вкуса из-за варианта в гене CD36. Я могла легко добавлять жиры в каждый приём пищи и не ощущать их избытка. Но именно здесь проявилась противоположность: мой муж, не имеющий такой мутации, чувствовал жирность в минимальных количествах, а его собственные особенности – синдром Жильбера и нарушения желчеоттока – делали жирную пищу для него тяжёлым испытанием. Наши противоположные реакции на один и тот же рацион стали для меня наглядной иллюстрацией того, насколько сильно питание зависит от генетики. Пока я с удовольствием добавляла кокосовое масло, сливочное масло и жирное мясо в каждый прием пищи, он с трудом переносил даже небольшие порции жирных продуктов. Неудивительно, что мои гастрономические предпочтения вызывали у него протест и тошноту. Ведь для него избыточное потребление жиров могло привести к ухудшению самочувствия, а для меня, наоборот, они были источником удовольствия.
Моя радость продолжалась недолго, после сдачи генетического теста, я осознала, что моя адаптивность к кето-диете оставляет желать лучшего, и это стало для меня настоящим разочарованием. Я искренне люблю жирную пищу, но теперь вынуждена ее контролировать. Дело в том, что у меня генетически нарушен липидный обмен и я хорошо усваиваю жиры, но это нехорошо! В идеале жиры должны перерабатываться с помощью микробиома, который синтезируют для нас полезные метаболиты, включая короткоцепочечные жирные кислоты. Но в моем случае жиры, поступающие с пищей, способствуют быстрому увеличению жировых клеток и набору веса. Более того, они провоцируют рост уровня "плохого" холестерина – липопротеидов низкой плотности. Вишенкой на этом метаболическом безумии стал генетический риск болезни Альцгеймера, связанный с употреблением насыщенных жиров. Мой организм неэффективно транспортирует жиры в головной мозг и не удаляет должным образом бета-амилоид. Кето и низкоуглеводные диеты на основе насыщенных жиров мне противопоказаны. И это стало настоящим ударом по моим вкусовым предпочтениям.
Экспериментировать со своей диетой я не перестала, жизнь ничему меня не научила. Я перенесла COVID-19 довольно тяжело, в результате чего в организме повысились титры антител к щитовидной железе и центральной нервной системе, но без манифестации тяжелого заболевания, за это я благодарна. Для снижения уровня антител и укрепления своего здоровья я пыталась пройти аутоиммунный протокол (АИП), который предполагает строгие ограничения в продуктах питания. Уже на третий день я почувствовала настолько сильную слабость, апатию и головокружение, что с трудом могла подняться с кровати. Возможно, АИП действительно мне подходит, как и многим, ведь он представляет собой крайнюю форму диеты охотников-собирателей. Но для организма, находящегося в состоянии стресса и истощения надпочечников после троих родов и COVID-19, это слишком тяжелое испытание. Этот опыт окончательно убедил меня: ключ к правильному питанию скрыт не в универсальных диетах и аскезах, а в нашей ДНК.
Понимание этого подтолкнуло меня к углублённому изучению медицинской генетики. Я соединила в единое целое опыт врача, исследователя и пациента и увидела: питание нельзя свести к готовым схемам. Оно должно опираться на генетическую индивидуальность.
Теперь я понимаю, что все мои поиски, эксперименты и ошибки были не случайны. Они обозначили границы универсальных подходов и стали основой для создания моего собственного – эволюционно-генетического рациона. Его фундамент прост и прочен: эволюционная история человека, культурная адаптация к новым продуктам и индивидуальные генетические различия. Этот путь был непростым, но именно моя генетика, требовательная и уязвимая, помогла мне увидеть: питание должно быть не универсальным шаблоном, а личной стратегией здоровья и долгой жизни.
Часть 1. ЭВОЛЮЦИЯ. КАК ФОРМИРОВАЛСЯ НАШ РАЦИОН
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Эволюция питания человека – это история длиной в миллионы лет о том, как наши предки учились выживать, приспосабливаясь к изменениям природы и находя пищу в самых разных условиях. Она началась задолго до появления нас – Homo sapiens и никогда не была прямой линией. Это была цепь многочисленных ответов на вызовы среды: иногда достаточно было собирать плоды и побеги, а иногда неожиданная засуха заставляла искать другие источники пищи. Именно необходимость добывать еду в меняющихся обстоятельствах шаг за шагом формировала гибкость поведения и широту рациона – качества, ставшие фундаментом будущей эволюции.
Чтобы понять, как происходила эта история, важно обратиться к её истокам. Африка была той ареной, где разыгрались первые акты становления человека. Археологические находки, данные палеонтологии и генетические исследования сходятся в том, что именно здесь сохранились самые древние следы линии, ведущей к человеку. Африканские ландшафты никогда не были однообразными: густые тропические леса соседствовали с редколесьями и саваннами, рядом существовали заболоченные и открытые участки. Такая мозаика создавалась под влиянием климата, который постоянно менялся. Это был не статичный фон, а динамичная сцена, где виды должны были приспосабливаться к новым условиям. В такой среде закономерно возникали и закреплялись разные формы жизни и разные стратегии питания.
Примерно 6–7 миллионов лет назад в Африке существовало существо, которое сегодня рассматривается как общий предок человека и современных человекообразных обезьян. Общий предок не был ни человеком в современном понимании, ни привычной нам обезьяной, а представлял собой переходную форму. Он был невысокого роста, примерно около одного метра, имел длинные руки и тело, хорошо приспособленное к лазанью по деревьям. При этом ему удавалось время от времени подниматься и передвигаться на двух ногах. Такая сочетанность привычных и новых приёмов поведения отражала условия, в которых приходилось выживать [1].
Климат в Африке того времени не был стабильным. Примерно 7 миллионов лет назад в Африке начался длительный процесс, который некоторые учёные называют «Великим африканским высыханием» [2]. Климат становился всё менее предсказуемым: периоды обильных дождей сменялись долгими засухами, лесные массивы то расширялись, то исчезали, уступая место саваннам и редколесьям. Ландшафт постоянно менялся, и для древних популяций это означало, что привычная среда могла исчезнуть буквально за несколько поколений. Там, где ещё недавно были густые кроны с плодами и водой, вскоре оставались лишь сухие травы и редкие деревья.
Эта нестабильность особенно сильно отражалась на питании. В дождливые годы леса приносили богатый урожай фруктов, и рацион строился в основном на них. Но когда наступали засушливые сезоны, плодоношение резко сокращалось, листья грубели и теряли питательность, и тогда приходилось искать другие решения. Предки спускались на землю, выкапывали корни и клубни, собирали семена, ловили мелких животных и насекомых, а иногда пользовались остатками добычи хищников. Такая вынужденная гибкость становилась частью повседневной жизни, и именно она помогала сохранять равновесие в непредсказуемой среде.
Не менее тяжёлым испытанием была вода. Ручьи пересыхали, озёра становились мельче, болотистые места исчезали, и группы вынуждены были перемещаться всё дальше в поисках влаги. Те, кто мог преодолевать большие расстояния, получали преимущество, и постепенно именно такие перемещения закрепляли наземные навыки передвижения и повышали выносливость.
Климатические качели усиливались ещё и сезонностью. Дожди могли начаться позже обычного или закончиться раньше, и целые месяцы превращались в «голодное время». Рацион теперь зависел от сезона: во время плодоношения можно было питаться фруктами, а в сухие месяцы приходилось переходить на менее привычные, но доступные ресурсы. Постоянное повторение таких циклов формировало универсальность как главное средство выживания.
«Великое африканское высыхание» стало не просто очередной чередой климатических перемен, а настоящей поворотной точкой, которая изменила траекторию эволюции. Именно в этих условиях неустойчивого климата началось разделение линий общего предка [3]. Там, где сохранялись леса, группы продолжали древесный образ жизни, и из них позже возникли современные шимпанзе и гориллы. Там же, где леса отступали и открытые пространства становились нормой, закреплялась новая стратегия: больше ходьбы по земле, способность преодолевать большие расстояния и включать в питание всё более широкий спектр продуктов.
Эта непредсказуемость среды заставляла популяции искать новые формы поведения, расширять рацион и осваивать новые пространства. Те, кто справлялся с этим вызовом, закладывали фундамент будущей линии Homo, в которой универсальность, гибкость и способность адаптироваться к переменам стали определяющими чертами. Так постепенно оформились две линии.
Популяция оказалась в ситуации, когда одни группы сохраняли привычный уклад, а другие вынужденно меняли его. Постепенно различия закреплялись, обмен генами сокращался, и это разделение становилось необратимым. При этом процесс не действовал одномоментно: поколение за поколением предки сталкивались с нестабильностью среды, и именно она шаг за шагом разводила их пути, закрепляя всё более заметные различия.
Современные палеоантропологические данные подтверждают эту картину: раскопки в Чаде и в Эфиопии показывают постепенное появление признаков, связанных с наземным передвижением и более универсальным рационом [2]. Эти находки вписываются в модель, где климатическая изменчивость Африки сыграла ключевую роль в формировании разных эволюционных траекторий.
Схема ниже наглядно отражает это ключевое разделение эволюционных линий: от общего предка разошлись пути, один из которых привёл к человекообразным обезьянам, а другой – к Homo sapiens.

Рисунок №1 «Схема: общий предок и расхождение линий эволюции»
С детства многим знакома формула, что человек произошёл от обезьяны. Она звучит убедительно и легко запоминается, поэтому прочно закрепилась в учебниках и популярной культуре. Однако такая версия упрощает и искажает реальную картину. Современные обезьяны не являются нашими предками. Они представляют собой отдельные виды, которые прошли собственный путь развития. Научно корректнее говорить, что и человек, и человекообразные обезьяны имеют общего предка, жившего миллионы лет назад. Неверное представление рождается именно из упрощённой формулы. Она будто выстраивает линейную лестницу, где человек стоит на вершине, а обезьяны остаются внизу как «недоразвитые существа». На самом деле эволюция работает иначе. Её движение похоже на разветвляющееся дерево, и обезьяны пошли по одной линии, а человек – по другой. Их развитие не менее успешное, чем наше, но ориентировано на собственную среду и собственные формы приспособления.
Отсюда становится понятным, что вопрос о том, почему современные обезьяны не эволюционируют в человека, изначально бессмысленен. Он основан на ошибочном представлении, будто у эволюции есть конечная цель и все виды обязаны однажды достичь одного и того же результата. На деле каждая линия развивается по-своему и не должна превращаться в другую. Человек не является «следующим шагом» для обезьян, а обезьяны не являются «незавершёнными людьми». Их путь продолжается и сегодня, с собственными изменениями и приспособлениями, которые делают их успешными в своей среде.
Эта мысль наглядно отражена в рисунке, где показан контраст двух объяснений. Слева древний человек рассказывает детям о том, что люди произошли от общего предка с обезьянами, что ближе к реальному пониманию эволюции. Справа учительница повторяет привычную формулу «человек произошёл от обезьяны», которая звучит просто, но искажает суть. Сопоставление этих сцен показывает, как разные формы подачи знаний формируют разное восприятие: одно приближает к верному пониманию, другое закрепляет миф.
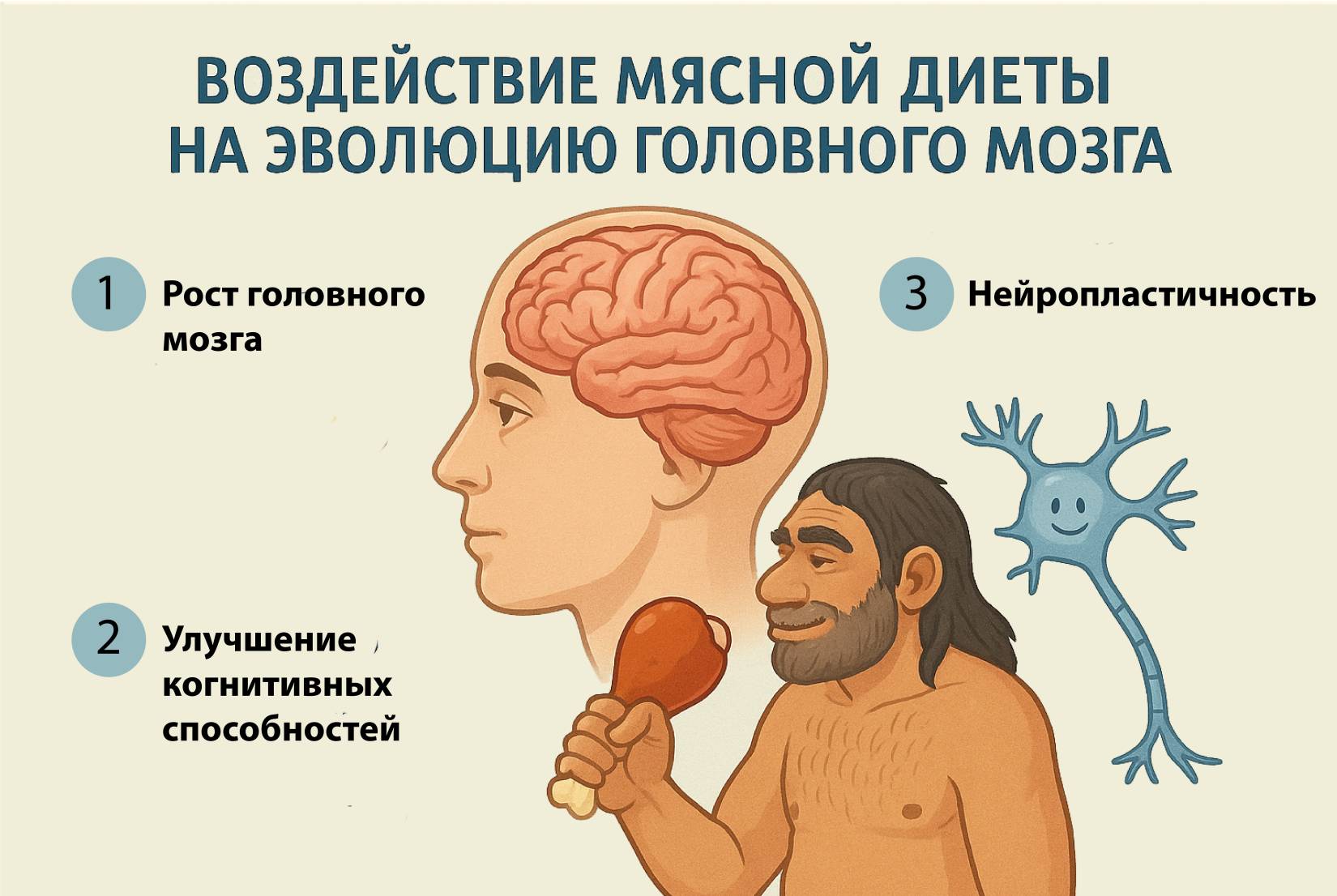
Рисунок №2 «Люди и обезьяны – разные ветви одного древа»
Следующий рисунок подаёт ту же идею в лёгкой и ироничной форме. Человек обращается к обезьяне почти по-дружески, словно извиняясь за давнее расхождение. В этой шутливой сцене заключена серьёзная мысль: миллионы лет назад общие предки оказались в разных условиях, и именно выбор среды определил дальнейшие траектории. Те, кто вышел из лесов в открытые пространства, столкнулись с новыми вызовами и постепенно изменились, а те, кто остался в привычной среде, продолжили развиваться в своём направлении.
Такой приём помогает увидеть эволюцию не как абстрактные термины и схемы, а как историю расхождения путей, где каждая линия пошла своим маршрутом. В дружеской реплике слышится напоминание, что между людьми и современными обезьянами нет отношений «кто главнее» или «кто правильнее». Мы – разные потомки одного корня и каждый со своими стратегиями выживания.

Рисунок №3 «Наши эволюционные братья, которых мы покинули»
ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ ВСЕЯДНОСТЬ
Когда отдельная ветвь общего предка оказалась в условиях редколесий и саванн, перед ней открылась совсем иная реальность. Здесь было меньше сочных фруктов и меньше тени, зато больше сезонных колебаний, чередующихся засух и кратких дождливых периодов. Источники пищи и воды располагались дальше друг от друга, и выживание требовало новых решений. Нужно было пробовать корни и клубни, семена и мелких животных, двигаться на большие расстояния и всё чаще использовать наземное передвижение. Постепенно именно такая пластичность поведения и умение приспосабливаться оформили новую линию – первых гомининов. Они объединили все формы, предшествовавшие человеку, и стали отправной точкой дальнейшей эволюции, приведшей к роду Homo.
Главным преимуществом ранних гомининов была оппортунистическая всеядность (opportunistic omnivora) – способность питаться всем, что оказывалось доступным [4]. В отличие от животных с узкой пищевой специализацией, гоминины не ограничивались одним типом ресурсов. Изотопные исследования и анализ микроструктуры зубной эмали показывают, что их рацион в целом напоминал питание современных человекообразных обезьян: основу составляли фрукты и молодые побеги растений. Однако уже в это время в пищу активно включались более жёсткие продукты – семена, орехи и корневища, требовавшие длительного пережёвывания и особой морфологической приспособленности зубов [5]. Увеличенная толщина эмали и характер износа зубов указывает на то, что гоминины умели справляться с твёрдыми частями растений и могли использовать их в периоды дефицита мягкой пищи.
Со временем спектр питания становился всё шире. Съедобные подземные части растений – клубни, корневища и луковицы – давали доступ к значительным запасам крахмала и энергии. Но такие продукты были защищены жёсткими оболочками или горькими веществами, и для их использования требовалось либо длительное пережёвывание, либо элементарная предварительная обработка [6]. Исследования показывают, что именно эти крахмалистые корнеплоды могли служить своеобразным «резервным пайком» в засушливые сезоны, когда плодов было особенно мало. Такая стратегия позволяла компенсировать нехватку привычной пищи и обеспечивала стабильный приток калорий.