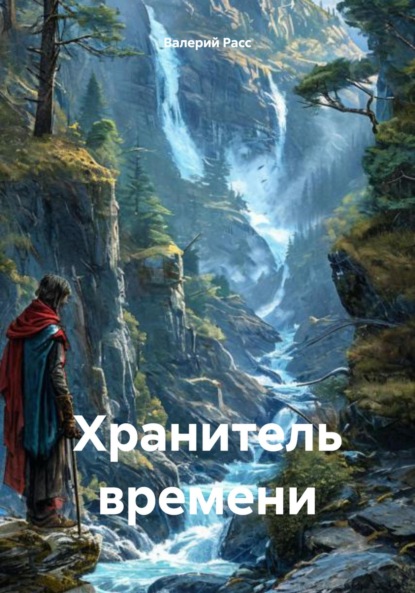- -
- 100%
- +
Юдж не ответил, а лишь вновь зарубил эту истину у себя на носу.
Той ночью он не жаловался, а просто лежал в постели, слушая, как ветер гудит за окнами, как дрова потрескивают в очаге, как стражники шагами меряют каменный пол за стенами. Но именно тогда впервые он понял, что больше никто не даст ему шанса стать частью этого мира. Теперь он будет жить, зная, что ему не простят ни одной ошибки. Теперь они будут ждать, когда он оступится. Теперь они будут искать повод.
Он не знал, когда это случится, но он знал, что это случится. И однажды он увидит перед собой открытые ворота, увидит только белизну снегов и тёмную линию леса на горизонте, и поймёт, что эта солсмена была предрешена с самого начала. Что его изгнание было всего лишь вопросом времени.
Дворец Карула был огромен. Его замок возвышался над долинами, как сторож, что веками следил за своими землями. Его стены были прочными, как нерушимые законы рода, его башни уходили в небо, но Юдж не чувствовал там простора. Он чувствовал только узость – коридоров, взглядов, жизни.
Он не мог сказать, когда впервые нашёл пруд. Возможно, в тот момент после избиения, когда снова остался один. Или в тот, когда кто-то из мальчишек молча вытолкнул его из игры, даже не взглянув. Он бродил вдоль стен, среди садов, сжимая кулаки, когда услышал воду. Глубокий, тихий плеск.
Юдж свернул за угол, пробрался через узкую тропу, скрытую зарослями. И увидел её.
Птица стояла в тёмной воде, ослепительно белая, будто упавший снег, который не успел растоптать грязный сапог.
Лебедь был огромным – широкие крылья, длинная, изогнутая шея. Но он не двигался.
Юдж сделал шаг вперёд, взгляд его опустился вниз, к самому краю воды. И тогда он увидел цепь.
Тяжёлая, железная, чёрная от сырости. Она уходила вглубь пруда, сковывая лапу птицы.
Лебедь мог плыть, мог махнуть крыльями, но не мог уйти. Он был здесь, но не был свободен.
Юдж не мог отвести глаз. Какой смысл в крыльях, если ты всё равно не можешь взлететь?
Он начал приходить сюда почти каждую солсмену. Когда другие играли в рыцарей, когда шумели на плацах, отрабатывая удары, когда делили добычу в придуманных поединках, он шёл к пруду. Лебедь был его единственным собеседником.
– Тебе не скучно?
Птица не отвечала.
– Ты же мог бы улететь, если бы не эта штука.
Лебедь не двигался, но пристально смотрел на него своим черным глазом.
Юдж присаживался у кромки воды, бросал в неё маленькие камешки, следил, как расходятся круги.
– Я тоже не могу уйти.
Он говорил тихо, но слова зависали в воздухе.
– Я вроде бы не заперт.
Лебедь чуть приподнял голову, будто вслушиваясь.
– Но и уйти не могу.
Он не знал, сколько прошло времени. Возможно, собы.
Он вырос, ему уже десять и пруд уже не казался таким глубоким, а птица – такой громадной. Но цепь всё ещё была на месте. Однажды ночью Юдж пробрался через сад, босыми ногами по холодной земле, затаил дыхание, когда услышал шаги стражников, и, когда пронёсся последний порыв ветра, приглушивший шум, бросился к воде.
Лебедь долго всматривался в него, а Юдж встал напротив, выхватив ключ, что выкрал не так давно у дворцового зоолога, не думая о последствиях. Его пальцы крепко сжимали холодные звенья цепи. В тот момент, спасая птицу, он сам не понимал, почему поступает так. Лишь спустя время пришло осознание – эмпатичное, почти интуитивное – словно, спасая лебедя, он надеялся, что и ему кто-то окажет подобную услугу. Разрешит все его тяжбы, в которых сам мальчик, подобно и лебедю – выхода не видит.
– Ты свободен.
Он не знал, поймёт ли его птица. Но когда замок щёлкнул и звено раскрылось, лебедь сделал первый шаг назад. Юдж затаил дыхание. Лебедь не улетел сразу. Он стоял на месте, будто не мог поверить в происходящее а потом всплеснул крыльями, ударил по воде, взметнулся вверх.
Белое тело прорезало воздух, тяжёлые взмахи крыла сотрясали ночной воздух, и Юдж задрал голову, следя, как он поднимается выше, выше, выше… И исчезает в темноте.
Мальчик смеялся. Тихо, в себя, но так, что грудь сдавило чем-то новым, неизведанным, но хорошим.
Впервые он освободил кого-то, даже не разобравшись кого, и тогда еще не понял, что только что приговорил себя.
На следующее зарено Карулукан жил своей обычной жизнью. Во дворе стучали молоты, отбивая ритм тренировок, звон клинков разносился по плацам, а в холодных коридорах слуги спешно пробирались по своим делам, не задерживаясь в проходах дольше, чем следовало.
Ничего не изменилось кроме одного. Юдж знал, что рано или поздно кто-то заметит. Но он не ожидал, что это случится так быстро. Он услышал это в разговоре двух стражников у ворот, когда пробегал мимо в поисках еды.
– Ты слышал?
– О чём?
– О лебеде.
Юдж замер, чувствуя, как холод пробирается под кожу.
– Исчез.
– Как – исчез?
– Его нет. Не всплыл, не утонул. Просто… исчез.
Стражник говорил так, будто сам не верил в свои слова.
Юдж сжал руки в кулаки и поспешил дальше, сделав вид, что ничего не слышал. Но теперь он знал – это было началом конца.
Разговоры о пропаже птицы быстро разошлись по замку. Лебедь был не просто птицей. Он был даром монарху Карулукана от одного из его союзников, знаком уважения, символом привилегии, чем-то гораздо большим, чем просто животное. И теперь его нет. Слухи разрастались, как пламя, которому дали воздух.
Кто-то шептал, что его унесли волки. Кто-то говорил, что он наконец сорвался с цепи и улетел сам. Но все знали – он не мог сорваться сам. И тогда появился самый важный вопрос. Кто его освободил? Юдж ждал. Он понимал, что этот момент станет для него последним в этом доме. Он не знал, как именно всё произойдёт. Но знал одно – теперь повод найден. И теперь он будет отвечать.
Карулукан жил по своим законам. Здесь не было случайностей, не было исчезновений, на которые можно было бы закрыть глаза. Всё, что принадлежало монархам, оставалось у них до тех пор, пока они сами не решали иначе.
Лебедь исчез, и это не было мелкой неприятностью. Это было оскорблением. Юдж чувствовал, как в стенах замка возникло напряжение. Слуги шептались между собой, стараясь, однако, делать это как можно тише. Взгляды, которые раньше просто скользили по нему, не задерживаясь, теперь останавливались на мгновение дольше.
Как будто они знали. Как будто они догадывались. Но всё оставалось на грани слухов, пока он не пришёл в оружейную. Он искал спокойное место, где можно было пересидеть это утро. Но вместо тишины он услышал разговор.
– Я видел, как он ходил к пруду.
Юдж остановился у двери.
Голос принадлежал Агнеру, одному из мальчишек, с которыми он когда-то играл в детстве.
Или, вернее, среди которых он просто был, но никогда не принадлежал.
– Часто. Почти каждый день. Говорил с ним. О свободе. О том, что тот должен летать.
Сердце глухо стукнуло в рёбрах.
– А ты уверен?
Второй голос был старше, резче.
Юдж не знал, кому он принадлежит, но этого и не требовалось.
– Я сам видел. Он не играл с нами. Никогда. Но к лебедю ходил. Всегда.
Наступила тишина.
Она продлилась несколько секунд, но для Юджа она растянулась на целую вечность.
Он не стал ждать конца разговора, но развернулся и ушёл. Бежать не имело смысла. Теперь они знали. Теперь это был не слух, не догадка, не молчаливый шёпот. Теперь это была вина.
Мальчик не помнил, как дошёл до зала. Возможно, его позвали. Возможно, привели. А возможно, он просто понял, что пора. Суд уже шёл. Только без него.
Отец сидел в центре, спиной к окну, за которым бушевал ветер. Его лицо оставалось непроницаемым – ни гнева, ни усталости, только отстранённость. Как у человека, который подписывает бумаги, решая судьбу кого-то не слишком важного, не слишком нужного. Рядом стояли советники. Чужие, неподвижные, словно высеченные из камня. По левую руку сидела мать. Она не смотрела на него.
Юдж искал в ней что-то – хоть тень беспокойства, хоть проблеск сомнения, хоть намёк на то, что она скажет что-то в его защиту. Но она просто была. Он сделал шаг вперёд. Отец не ждал пояснений.
– Ты освободил его?
Голос ровный. Тяжёлый. Как звук закрывающейся двери.
Юдж сглотнул.
– Да.
Просто. Тихо. Зачем говорить больше?
Напряжение в комнате стало почти осязаемым. Никто не удивился. Отец кивнул, будто уже знал ответ и просто дожидался момента, когда его услышат вслух.
– Ты даже не понимаешь, что совершил.
Юдж сжал кулаки.
– Я освободил птицу. Она должна была летать.
Он не знал, почему сказал это. Это было неправильное объяснение. Они хотели слышать другое. Они хотели извинений. Они хотели, чтобы он сказал: «Я не думал». Но он думал.
– Это был дар, Юдж.
Отец вздохнул. Не с раздражением, не со злостью – со скукой. Будто это не гнев, не обида, а простая формальность, разговор, который давно пора закончить.
– Этот лебедь был символом власти. Он принадлежал не тебе. Не мне. Всему дому Карулукан.
Он говорил это так, как говорят о старых вещах, которые давно уже перестали быть интересными. Но этот разговор давно уже не был о лебеде.
Тут, в зале на общем вече, все знали – это не просто случайность, не просто ошибка мальчишки. Это удар по чести семьи. Другие материалисты презирали их за то, что они столько соб позволяли этому ребёнку жить среди них. Монархи не держали обид, но раздоры в их семье их явно смущали, хоть и приходилось учить всех о ценности человеческого нэфэш, все же большинство одержало вверх – главы семей – больше не потерпят этого проклятого мальчишку.
Гнев падал не только на Юдж. Гнев падал на его мать, на его отца, на всю их семью.
– Вы не справились с собственным сыном.
– Вы позволили ему опозорить ваш дом.
– Вы вырастили его, и теперь вам за это платить.
Они не могли простить его. Но ещё больше они не могли простить себя.
Юдж стоял перед ними, словно подсудимый, которому уже вынесли приговор. Он чувствовал взгляд отца, ледяной и непоколебимый. Чувствовал, как мать напряглась, держа на руках младшего сына – крохотного, белокурого, с глазами светлыми, как рассветный лёд. Двое других её детей прижались к её ногам, прячась за складками её юбки.
– Доколе мы будем мучиться из-за тебя? – голос отца гулким эхом разнёсся по залу.
Мать всхлипнула. Губы её дрожали, но она молчала. Маленький сын в её руках захныкал, как будто чувствовал, что происходит. Двое других детей крепче вцепились в её одежду.
– Ты – единственный, кто не такой, – отец говорил негромко, но в его голосе было больше железа, чем в стенах замка. – Все мои дети нормальные. Все мои дети – гордость моего рода. Кроме тебя.
Слова били больнее, чем любой удар. Юдж открыл рот, хотел что-то сказать, но не знал что.
– Просто уйди.
Голос матери был хриплым, будто выдавленным через силу.
– Просто уйди, чтобы нам не жить с этим позором.
Юдж смотрел на неё, не веря в то, что слышит.
– Мама…
Он не понимал. Он был всего лишь ребёнком. Десяти соб. Он ещё не был взрослым, ещё не был готов к жизни в одиночестве. Но это не имело значения.
Все взгляды были устремлены на него. Все глаза – полные осуждения, презрения, раздражённого облегчения. Он видел, как мать смотрит на него, как на чужого. Как её руки крепче прижимают младшего сына к груди, как будто пытаясь сказать: «Этот – мой. А ты – нет.»
– Ты слышал, что тебе сказано?
Отец шагнул к нему. Рывок. А потом – удар. Резкий. Жёсткий. Не первый, но единственный, который останется в памяти навсегда.
Он не понял, когда оказался на полу. Он просто почувствовал холод камня.
В зале было тихо. Никто не вскрикнул, никто не отдёрнул отца, никто не бросился к нему, не поднял.
Юдж поднялся на ноги. Не потому, что хотел. Потому, что он должен был уйти сам. Они не выгоняли его. Они заставили его уйти. Он не смотрел на них. Не ждал, что мать скажет «стой». Не ждал, что отец добавит «прощай». Он просто развернулся. И ушёл.
За его спиной не было ни слов, ни шагов. За его спиной Карулукан уже забыл, что он здесь был. А он плакал.
Снег хрустел под ногами, но Юдж почти не слышал этого. Он шёл медленно, словно провалившись в тягучую, вязкую пустоту, в которой не было ничего – ни голосов, ни мыслей, ни чувств. Замок остался за спиной. Он не оборачивался.
В воротах не стояли стражники. Никто не пытался его остановить. Ему не нужно было выбивать себе дорогу. Всё случилось именно так, как и должно было. Карулукан вычеркнул его, словно его никогда здесь не было.
Он не знал, сколько прошло времени. Может, несколько минут. Может, час. Мир вокруг был размытым, холодным, белым. Всё казалось одинаковым – снег, ветер, серые тени деревьев. Он шёл туда, куда шли все, кого не ждали дома. В снег. В никуда.
Замок Карулукана постепенно терялся среди тумана. Он ещё мог его разглядеть, но уже не чувствовал его присутствия. Словно он никогда там не жил. Словно его никогда там не было.
Он остановился. Стоять посреди этого пустого белого мира казалось таким же бессмысленным, как шагать дальше.
Тело ныло. Щека горела. Но всё это было пустяком по сравнению с тем, что болело внутри. Он не мог осознать, что это уже конец. Он думал, что мать скажет что-то ещё. Но она не сказала.
Он думал, что отец хоть раз назовёт его сыном. Но он назвал его выброшенным грузом, который слишком долго таскали за собой.
Он думал, что кто-то запомнит его лицо. Но Карулукан уже забыл.
Юдж сжал пальцы. Не от холода. От пустоты. Где-то далеко пронёсся ветер и Юдж сделал первый шаг.
Без замка. Без дома. Без прошлого. Без них.
Шаг – и он стал сиротой.
Шаг – и он стал чужим.
Шаг – и он стал никем.
Он шагал в снег. И никто не собирался его звать обратно. Так и должно было быть.
Глава 3
Сомнительная свобода
Когда Юдж очнулся, он обнаружил себя в какой-то комнате с высоким потолком. Поначалу даже казалось, что и вовсе небеса стали каменными, сводчатыми, как потолки здания администрации в Жезэ, но позже картинка сама сложилась.
Он чуть повернул голову и заметил окно. Свет вливался в помещение настоящим фонтаном, озаряя все вокруг в золотистый. На мгновение сердце ёкнуло, и тяжесть с плеч было упала, ведь он так долго не видел солнца, но вместо этого злобно прокряхтел, что было сил:
– Ненавижу!
Все это время, все три собы, пока он гнил в темнице, люди каждую проклятую солсмену выходили на улицу, открывали ставни и встречались с этим самым голубым притворством, с этим лживым светом, от которого не было ни капли сочувствия или помощи для него, для того, кто погибал в недрах земли.
При всей его злобе, он никак не мог оторвать взгляд от окна. Не далеко, у купола здания Администрации стая птиц пролетела, едва ли не касаясь шпиля. Ветер гнал пушистые облака, по пути заглядывая и в палату. Один такой поток притянул слезинку, стекавшую по щеке Юджа, потом вторую и третью он уже пролил на матрас.
Тонкая тень скользнула по полу – дверь, открытая без скрипа, едва заметно, будто для кого-то, кто не хочет быть узнан.
Он удивился, что первым вошёл не охранник, не глашатай, не солдат – а человек в чёрной тунике с серебряной окантовкой на рукавах, в одежде, которую можно было принять за лохейскую, если бы не сумка, набитая туго и аккуратно, так, как набивают её только те, кто привык нести в ней инструменты, а не оружие. В воздухе стаяла терпкая пряность: обугленный мёд, перемешанный с травами, которые сжигают для очистки воздуха, или держат во рту, при болях в горле, они обычно вызывают жжение, если ты болен и безобидны если здоров.
– Ты всё ещё дышишь, – сказал он, не приближаясь, и только в этот момент Юдж узнал голос.
Грат – фельдшер, сопровождавший Манакру в былые выезды на край – тогда ещё, когда Гром Юдж был капитаном, когда его имя значило больше, чем просто кличка для канала связи. Тогда он видел, как этот человек перевязывал сенатору руку, порезанную о стекло окна в доме сопротивлявшихся. Тогда – без слов. Сейчас – тоже.
Грат не задал ни одного вопроса. Не стал говорить, сколько прошло с момента пробуждения, не считал дни, не называл имен, не спрашивал о боли. Он просто подошёл к небольшой жаровне у стены, зажёг её щепоткой красной пыли и, подставив над пламенем две округлые пластины из серой керамики, принялся разогревать их, а потом – с точностью хирурга, с холодной нежностью, – наложил одну на грудь Юджа, вторую – на спину, туда, где лёгкие уже привыкли к жжению и боли.
Жар от них был особенный – не обжигающий, а вытягивающий, как будто изнутри, и кожа под ними не трещала, а пульсировала. Это было больно, и вызывало резкий кашель.
– М-да… – слушая неугомонный кашель пациента, протянул фельдшер. – Лунью тебе поставят дымовую ингаляцию. Полностью тебя не вылечить уже. Ты уж прости, – как бы между слов изменился он, говоря в совсем безразличной манере, – А вот подлатать, подлатаем. Терпи.
Больше ничего. Он ушёл, как и вошёл, – бесшумно.
Юдж не спросил, где он. Не пытался встать. Не искал выхода. Он лежал и смотрел в потолок – в этот свод из белого камня, который напоминал не палату, а дворец монархов, только без росписей и пения.
Ветер заходил в окно редкими порывами и приносил с собой запахи улицы – не жареного мяса и навоза, как в портах, а скошенных трав, побелки и разогретого металла.
Он не слышал криков, никто не командовал ему что есть, а когда приносили еду – просто ставили на столик неподалеку. Никто не звал его по номеру. Никто не ставил его к стене, чтобы выпороть, а даже наоборот, сменили бинты под зарену – аккуратно, почти бережно. Ни одного резкого движения. Пальцы были тонкими, уверенными, и всё происходило так, как будто он был не узник, а кто-то гораздо более важный, чью смерть здесь не планировали.
Позже – отвар. Горький, как всё, что лечит. Тепло растеклось по горлу, а потом вернулось кашлем – тяжёлым, глубоким, с примесью старой боли. Он не сопротивлялся. Просто глотал, как привык.
Когда солнце уже клонилось в сторону шпиля, и над куполами цитадели растянулся блеклый лоскут нуарета, в палату принесли медную жаровню, дымящую редкими вспышками.
Запах – резкий. Травяной. Немного мятный, но с примесью чего-то старого, как прокопчённый платок.
Юдж не отводил взгляда. Он вдыхал – глубоко, тяжело, так, будто должен был запомнить каждый вдох, будто не знал, будет ли следующий. Прорезался острый кашель – сухой, звонкий, и вскоре в нём проступила влага.
Он не разговаривал ни с кем, даже с самим собой. Он уже всё знал. Если его лечат – значит, он нужен – а значит, он скоро снова станет частью чужого плана. Им опять хотят воспользоваться.
Интересно, был ли хоть кто-то, кто по-настоящему был добр ко мне просто так? – почему-то вдруг промелькнуло в его сердце что-то очень мерзкое и сентиментальное. Он быстро отбросил эти мысли на потом. А пока… пока – этот воздух, эта палата, этот свет. Слишком чисто. Слишком тихо. И потому – подозрительно живо, чтобы спокойно наслаждаться.
И все же однажды был такой человек… – возвращала его какая-то забытая часть самого себя. – Альбиноска… Не приснилось ли мне все это? – уголки губ невольно поднялись.
Он просунул руку в свой затертый кожаный сапог, что спасал его от обморожения в темнице зимой, недолго поковырялся там, и даже чуть не свалился с кровати, пока вдруг не нашел что-то. С томящимся ожиданием он вытянул кулон цветка выгравированного из красного камня.
Он был здесь. Значит его не заметили.
Масахи – кто же она такая?
Воспоминание 3
О Масахи 1
Луна величественно парила над сводом Северного мира, заливая своим светом редкие клочки земли, прячущиеся за густыми кронами деревьев в этом таинственном лесу.
– Ловите воришку! – кричал продавец фруктовой лавки.
Юдж бежал что было сил. Тот апельсин он в итоге съел поздно вечером, спустя целых двадцать градусов преследования, которое так и не прекратилось. Тогда, борясь с тяжёлой отдышкой, доставшейся ему в хроническом состоянии после многочисленных ночевок на сырой земле, он спрятался в полом стволе старого дербя, куда свет попадал из верха ствола, что насквозь прогнил и по какой-то причине его оболочка продолжала стоять, став для отрока замечательным убежищем.
– Ищите его, – рыскали взрослые, пробегая неподалеку от старого дербя, – он не мог скрыться далеко.
За воровство отрубали руки в Хромном городе. Собственно, мало где на севере вообще хоть какое-либо преступление оставляли безнаказанным, а Хромный город, он же территория прогресса и в нём – зеваки-патриоты твердили как один – наше будущее.
Так и случилось, что ещё когда Юдж был вынужден покинуть территории Карулукан, то решил укрыться в гористых местностях Арбирея – надела наименее влиятельной семьи на Севере, хаба-рахом которого был Самоктарт Завуил Арбирей – дукэс династии, жадно удерживающий от своих потомков титул. Было ли это правдой или нет – сложно было сказать, но по крайней мере так о нем отзывались в кругах торговцев.
Ходила молва, что Самоктарт был четвёртым сыном Купа Превосходного – дукэса всех северян. И еще в те времена, а было это далеко в эпоху Человека, среди всех лучших земель, батюшка выдал ему выбирать земли между Пустошью на западе, где и по сей день не живёт ни одного поселения, и Горными землями в центре. В тот же самый момент остальным своим отпрыскам он раздал владения в плодородных землях своего надела, а первенцу Карулу – и вовсе отдал целый надел – полуостровные земли – идеальное положение для господства во Внутреннем океане. Да и старшей дочери, которая была, вообще-то младше даже Самоктарта, не поскупился, а передал Подводные Земли, названные теперь наделом Лим-Квиноу в честь дочурки Квин, дословно «Земли потопленные для Квин».
– Стоит ли отдельно упоминать о тайных обидах и недоговорённостях, что разрослись в этой семье? – рассказывала какая-то старушка вечером у костра, куда собирались многие бродяги, погреться, куда и пришел Юдж когда только-только прибыл в Хромный город, и еще не знал ничего о местных установлениях. – Гордый Самоктарт выбрал своей долей горные земли, ныне известные как земли Арбирея. Однако эти владения превратились в неприступную баррикаду между состоятельным старшим братом на западе и не менее богатой младшей сестрой на востоке. Собы словно воздвигли горный хребет не только как физическую преграду, но и как политическое разделение. Арбирей избегал лишних торговых связей с роднёй, предпочитая выращивать собственные культуры. За самым необходимым он обращался к купцам, прибывавшим из отцовских портов ещё при правлении дукэса Купа.
Чтобы долго не вдаваться в политические интриги, а задеть только особо важные детали повести, которые и приведут нас к особенностям жизни мальчика с алыми прядями, важно лишь упомянуть самобытность арбирейцев и их противостояние потомкам Карула, выраженное в своем остром патриотизме.
Гордость арбирейцев, выработавшаяся у них через поколения как защитный механизм от хвастовства карулуканцев с их «замечательными рыцарскими доблестями», двигала всей эволюцией этого народца. Небрежными силуэтами и мощными мышцами казались их мужчины: большебородые, не стриженные, крепкие добытчики пропитания в скалистых аграрных фермах – а это отдельное искусство, пришедшее именно из их отраслей. Их женщины были такими же крупными, с увесистыми костями, и основательными фигурами, круглолицые – чистые блондинки с чуть ли не полностью пожелтевшими глазами, собственно последнее относится и к мужскому населению, за редким исключением, что все же прямые потомки Арбирея имели тёмно-русый окрас волос.
Карулуканцы же больше чем за тысячу соб разрослись в крупнейший по численности надел, и уже включали в себя владения вторые и третьи, разделив власть среди разных кланов и родов, чего конечно же не было в беспорядочных горных землях Арбирея, если не считать его столицу – Хромного города.
У карулуканцев во всем был порядок и дисциплина. Их доблесть, генетика, а то и климат соткал их отличительные черты лица: серебристые волосы, переливающиеся шёлком на солнечном свете, такие же, как и у арбирейцев глаза – характерные янтарно-жёлтые. Чистая кожа, совершенно не подверженная пятнам или родинкам, чего уж о веснушках и прочих кожных пороках говорить. Тела им достались утончённые – как у дукэса с его женою, так и у прочих потомков: высокие, жилистые, не хлипкие, а скорее лёгкие – легче арбирейских, гибкие, готовые к манёвру в любой момент.
Когда пришло разделение мира на фракции, среди этой семьи и их ветвей находилось наименьшее количество материалистов. Королевскими книгочеями подмечается, что это произошло благодаря консервативному учению Карула и его семьи. Но, как бы то ни было, практически все доверенные Карула остались монархами, и не утратили титула при Фракционном Решении. А потому указом Королевского Совета от 1753 с. было постановлено решение о миграции материалистов из перенаселённых семей – в их владения.