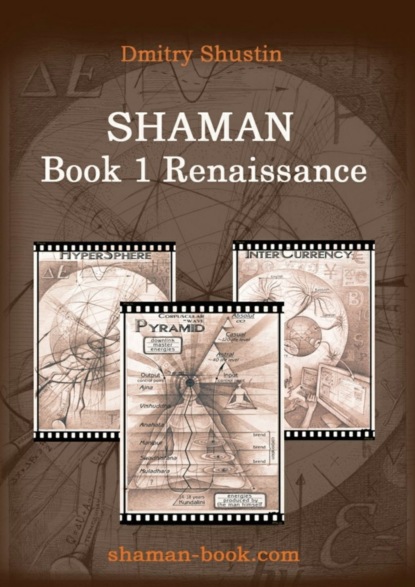- -
- 100%
- +
– «Эврика. Эврика!»
Он улыбнулся – её словечко слетало с её губ даже во сне. Улыбка резко ушла, когда он вспомнил, в каких ещё обстоятельствах она произносила его. Стримы калечили её психику. Это происходило со всеми.
Рассеянный свет попадал в палату через окно. Это было привычно: если оставались силы, многие из них просто смотрели из больших окон студии на тёмные очертания мёртвого города, освещённые звёздами и луной. Электричества за пределами студии не было. По крайней мере, Инцелл так думал, пока не попал в больницу. Как-то раз он залезал в апартаменты, которые были расположены высоко над их студией на огромных белых сваях, оттуда он пытался рассмотреть другие светлые точки в городе. Тогда он убедился, что они одни, больше светлых окон в зоне видимости не было. Ему даже было приятно, что он ошибся, по крайней мере, где-то ещё были намёки на присутствие людей. Точнее, хотелось верить, что люди тут где-то были, ведь больницу не могут держать только под стримеров с его студии. Иначе вся эта медицина выглядела бы слишком дорогой декорацией для кучки живых кукол.
От мыслей об одиночестве и одичания города он плавно перешёл к теме, которая его интересовала больше всего: кто платил за их стримы? Где они живут? На кого работают и чем занимаются? Ведь кто-то установил порядок, в котором они оказались. С какой целью?
И как обычно мысли стали сами угасать, растворяться. Иногда Инцеллу казалось, что так действует имплант, но и это осознание быстро растворялось. Поэтому, когда он подбирался к этим мыслям, его всегда охватывало беспокойство, причин которого он не понимал. Было смутное чувство, что он уже пытался подумать об этом, но к чему в итоге пришло его рассуждение, вспомнить не удавалось.
Когда мысли растворились, он вновь оказался в темноте с проникающим сквозь окно рассеянным светом. Было тихо, лишь один звук не давал тишине стать абсолютной: в погоне за постижением тайны их мироустройства он незаметно для себя стал гладить волосы Степаны.
С чего, собственно, они вдруг стали так близки? В его памяти был свеж эпизод полугодовой давности, когда он робко попытался проявить к ней чувства и её едкие публичные насмешки в ответ. И эта безобразная сцена, когда она кинула ему в голову что-то тяжёлое, из-за чего он и оказался в больнице. Это произошло буквально пару дней назад. Такую перемену было трудно осмыслить. Наверно, где-то в глубине они давно нравились друг другу. Он вдруг ощутил небольшое злорадство к себе из недавнего прошлого: тогда ему приходилось терпеть и отвечать на насмешки, а сейчас он гладит её по мягким волосам. И это было важно, а прошлое – уже нет.
Начало светать. Из старых роликов Инцелл знал, что в это время по дорогам начинали с шумом ездить машины. Сейчас тишину не ломало ничто. Сладкое посапывание Степаны на животе было единственным звуком. Интересно, как бы себя чувствовали родители в Москве сейчас? Наверно, им эта тишина показалась бы пугающей. А ему было хорошо. Рассвет хотелось остановить, чтобы навсегда остаться здесь с девушкой, которую он, по всей видимости, любил, не думая о том, что за ним наблюдают. Он впервые за много лет чувствовал себя не контентом, а просто человеком, который лежит и дышит.
Голова не болела, лечение сработало. Приятные мысли и ощущения разогнала мысль, что он должен выписаться утром. Утро уже наступило.
Неизвестно, как бы сложились их отношения со Степаной, если бы не её удар, но теперь, он надеялся, всё пойдёт иначе.
Он пошевелился, ноги совсем не ощущались – настолько всё затекло. Девушку не хотелось будить ещё потому, что это был её первый нормальный сон за очень долгое время, но нужно было вставать, иначе больница могла начать списывать с него штрафные суммы за нарушение режима, а это отдаляло откуп.
Чёрт.
Он легонько встряхнул Степану за плечи. Та нехотя подняла голову.
– Нам надо идти, – шёпотом, стараясь причинить ей как можно меньше дискомфорта, сказал он.
Девушка спросонья плохо соображала. Состояние после пробуждения от нормального сна было для Степаны чем-то давно забытым, тем более вокруг было почти совсем темно, и воспитанные эволюцией инстинкты говорили, что нужно спать.
– Надо идти, – повторил он.
Не совсем поняв, что он имеет в виду, она всё же оторвалась от него и села на кровати, спустив ноги на пол. Инцелл приподнялся на локтях, спустил ноги и дал им налиться кровью, перетерпев обычный в таких случаях поток противного нутряного щекотания.
Тело было на удивление отзывчивым, медикаментозная кома не прошла даром. Он был в лучшей физической и психической форме, чем когда-либо, не считая почти забытого времени из детства.
Инцелл встал, влез в хлопчатобумажный комбинезон, который дожидался тут несколько суток, взял Степану за руку, и они пошли.
Тёмный, мрачный коридор слегка освещался из окон – так же, как палата. Световые пятна рассеянными облаками свисали со стен, указывая путь к выходу.
Двери больницы открылись легко, как будто за ними приглядывали. Это был барьер, отделявший цивилизацию от запустения улиц. Пустота снаружи накинулась с давящей, физически ощутимой силой. Было бы легче, находись они в поле, потому что городская застройка, рассчитанная на десятки миллионов человек, в отсутствие этих миллионов выглядела как гигантский некрополь.
Молодые люди инстинктивно взялись за руки и пошли в темноту.
Инцелл в детстве очень хорошо ориентировался в полях и лесах вокруг родительского дома. Родители всегда удивлялись его способности выбирать правильное направление, шли они к дому или на грибную поляну. Сейчас Инцелл не смог бы определить направление по солнцу, зато он понимал, что в первую очередь нужно найти реку, а уже идя вдоль неё, они выйдут к зданию, где расположена студия. «Может, как-нибудь вызвать транспорт?» – подумал он, но по-настоящему он этого не хотел. Использование импланта напоминало об их зависимости. Он осознавал, что это глупо, и он подвергает риску не только себя, но и Степану, но его тошнило от мысли, что к нему относятся как к вещи, которую надо двигать с места на место, чтобы она не сломалась. Вещи перевозят в ящиках, людей – в историях. А у него из истории пока что была только стримерская анкета и смазанные воспоминания о жизни на природе с последующим кратким обучением под присмотром робоняни.
За одним пройденным километром тянулся следующий, такой же. Дорожное покрытие потрескалось и местами вспухло, и из этих нарывов торчали пучки жёсткой травы, давая представление о том, что ждёт этот город через сотню лет. На стенах зданий тоже появились признаки деструкции: зияли проплешины в облицовке, а на крышах на фоне света звёзд и восхода торчали деревья. Окна были разбиты, а двери выворочены. Следы активности жителей в период, когда город уже перестал быть городом, а стал просто сборищем случайных людей. Инцеллу вдруг стало не по себе: а вдруг одичавшие люди всё ещё были здесь? Может, те, кому не нашлось места в этой реальности, всё ещё обитают среди этих стен, как тени, отброшенные погибшей цивилизацией в будущее?
Но как всё к этому пришло? По какой причине всё это благоустроенное великолепие вдруг стало никому не нужно?
– Все просто бросили это место, – шёпотом сказала Степана.
Видимо, она наконец проснулась, и её одолевали те же мысли, решил Инцелл.
Ненужными теперь были не только эти здания, но и они все – большинство людей на планете. Где-то в старых обучающих роликах сообщалось, что машины заняли место людей в грязной работе, и у людей освободилось время для творчества. Где все эти счастливые творцы? Инцелл подумал, что с необходимостью трудиться как будто пропала потребность людей в других людях, как будто праздность сделала их лишними в новом типе отношений.Одни научились жить без труда, другие – без смысла, и вторых стало слишком много. Он вдруг очень ясно ощутил, что они со Степаной как раз из этих лишних.
Он остановился. Степана встала вместе с ним.
– Ты что? – спросила она.
– Я просто пытаюсь понять, – он закрыл свободной рукой лицо, потирая большим и указательным пальцем виски.
Степана молчала.
Мысли таяли. Он забывал их, едва они становились хотя бы сколько-то очерченными. Он тряхнул головой.
– Пошли, – Степана потянула его за руку.
Инцелл двинулся, но, сцепив зубы, остановился опять. Он силился что-то понять… Нет, он даже это понял – только что сложил какой-то пазл в голове, но исчез. Не рассыпался, а растаял. Целиком, как будто Инцелл ни о чём не думал. Но он ясно знал, что несколько секунд назад о чём-то очень интенсивно размышлял, это было понятно даже по напряжению в голове и мышцах лица.
– Люди… Люди исчезли, – с трудом выговорил он.
Степана повернулась к нему.
– Стали не нужны друг другу и исчезли. О чём это я… Ммм…
Мышление было болезненно. Он прорывался сквозь какую-то блокаду в голове. Никакой боли не было, но было чувство, как будто он пытается использовать конечность, которая давно атрофировалась, как только что его ноги, когда он вставал с больничной койки, только гораздо хуже. Заученная привычка не думать сопротивлялась, мысли путались, долгая и короткая память растворялись туманом, на который нельзя опереться.
– Ммм… – опять замычал он.
– Что с тобой?
В голосе Степаны звучал сильный страх. Его это укололо. Он увидел себя со стороны – резко остановившегося, схватившегося за лицо.
Но сдаваться он не хотел.
– Да понимаешь… Это же какой-то абсурд. Нам поддерживают жизнь… По идее, это делают какие-то машины. Но машинам не нужна еда и вода. Почему тогда всё так?
– Ты опять?!
– Нет, послушай. Техника должна служить благу людей. У нас, студийных, явно не всё хорошо. Но у тех, кто нам платит, всё хорошо, раз они могут платить, так? Но откуда у них деньги, если всё за всех делают машины? Машинам ведь не нужны деньги. Как они их зарабатывают? Нас держат как… – он не знал, с чем сравнить их положение, потом вспомнил курятник в сарае родителей, – словно кур, понимаешь? Я пытаюсь понять, зачем и кому такое могло понадобиться? Это абсурд, понимаешь? Абсурд!
Девушка молчала. В утренней темноте он не видел её лица, но видел, что она внимательно смотрит на него. Наконец он полностью взял себя в руки, и тогда его настиг стыд. Он только вышел из больницы, они шли в темноте по незнакомым местам, и вдруг он останавливается, начинает кричать. Он напугал её.
– Извини, – сказал он, – просто это важно, понимаешь? Я сам не знаю, почему это важно, но это важно. По-настоящему.
Она молча обняла его.
– Ты всегда таким будешь, – сказала она.
Он помолчал.
– Каким «таким»?
Она молча прижалась к нему.
Инцелл обнял её и погладил по спине. Она ничего не поняла. Да он ведь толком ничего не объяснил, только покричал что-то бессвязное. Хуже было то, что он уже не помнил даже тех обрывочных мыслей, которые пять секунд назад пытался выразить, не то утверждая, не то спрашивая.
– Извини, – сказал он снова, – идём.
Степана одёрнула его и заглянула в лицо. Инцелл улыбнулся и кивнул ей. Она не видела движений его головы и мимики, но догадалась, что он её заметил.
Они шагали по тёмной дороге, иногда спотыкаясь о торчащие куски асфальта. Было прохладно. Они больше не держались за руки, держа их в карманах тонких комбинезонов. Хлопчатобумажный комбез Инцеллада выглядел чуть лучше их обычных, сделанных из целлюлозы, и держал тепло чуть лучше, но от утреннего московского холода это не спасало. Но их поддерживала невидимая связь, плотно протянувшаяся между ними. Степана шла чуть впереди, Инцелл смотрел на неё, и ему было приятно. Она была очень красивой. Это и согревало, и подбадривало.
Двое двигались в бледнеющей темноте, окружённые мёртвыми высокими домами. На улицах было тихо. Два маленьких тела не могли оживить этот пейзаж, они ничего не значили. Но в голове одного из них, выжженные титаническим волевым усилием, бились вопросы, сам смысл которых был не до конца ясен:
«Зачем?» «Кому это нужно?»
«Зачем?» «Кому это нужно?»
Глава 3
У каждого должна быть мечта. Так говорит социальная реклама, которой подбадривают стримеров при появлении суицидальных мыслей. Это абстрактное послание по чьей-то задумке должно вытащить из пропасти городского трудягу, потерявшего перспективу откупа. Но какой должна быть эта мечта? Обычно в плакатиках, транслируемых в мозг, рисовали дом у озера с размазанными по стенам абстрактными рисунками. Такое облучение создавало магнит, тащащий стримера вперёд. Никто не замечал очевидного противоречия, ведь чем быстрее и упорнее стример шёл к мечте, тем быстрее она убегала. Чем больше стримов они устраивали, тем сильнее изнашивались их организмы, снижая качество трансляций и сокращая денежный поток.
Нельзя просто взять и вынести студию на природу. Нельзя подавать в города чистую воду в достаточном количестве. Такое положение дел воспринимается как должное, и никто даже не возмущается этому.
По задумке, они должны были приносить какое-то общественное благо, чтобы накопить на колоссальный экологический сбор. Это тоже принималось на веру, хотя никто не понимал, как перевод собственных денег на неизвестные счета спасает планету. Но какое благо несли их стримы? Инцелл видел, как сгорают его ровесники, сжигая своё здоровье в попытке прищемить себе нервы, чтобы выдать как можно больше сильных эмоций, которые станут для кого-то развлечением на пару минут. Ему повезло – за его стримами признали медицинскую ценность, но общая полезность их работы казалась сомнительной.
Во всём этом механизме присутствовал какой-то элемент обмана, о котором невозможно было думать.. Каждый раз, когда Инцелл устраивал себе мощный мозговой штурм, уже через несколько секунд он забывал всё, до чего додумался, а другие даже не видели проблемы. Анимации поступления новых денег стимулировали сжигать себя дальше, и все, даже сам Инцеллад, заглатывали наживку. Все его значительные прорывы в больнице и во время прогулки со Степаной до студии канули в Лету. Они жили как будто в игре с автосохранением, только сейвы кто-то постоянно стирал.
Время шло, наступила очередная зима. Панорамные окна студии впускали белый свет, отражённый от снега, толстым слоем закрывшего всё видимое пространство. Даже лента реки зарылась в покрывало так, что берег нельзя было отделить от затянувшегося льдом потока.
Занятый мыслями об окружающем мире и попытками подавить ярость от чавканья за их столом, Инцелл сидел, пережёвывая комочки белковой каши.
– А вот ты как думаешь?
Инцелл медленно пережёвывал свою порцию, смотря в одну точку, но инстинкт подтолкнул его посмотреть вокруг. Все смотрели на него.
– Что? – спросил он.
Главный чавкун махнул рукой.
– Как всегда. Мы тут разговаривали на твою любимую тему. Как думаешь, зачем люди нам платят за нашу работу?
Инцелл сморщился. Это не было его любимой темой, а вопрос казался глупым. Но он вежливо ответил:
– Если кто-то готов платить за эмоции, значит, этот кто-то испытывает их постоянную нехватку, так?
– Ну, наверно, так, – подтвердил собеседник, неестественно громко причмокнув, поглощая последнюю ложку каши.
– Лучшего объяснения у меня для вас нет. Люди ведь просто так не расстаются с деньгами, так? У меня вот не бывает мыслей потратить их на что-то, кроме откупа. Мы корчимся, значит, кому-то это нужно.
Эта мысль пролетела мимо ушей собеседников, но их заинтересовало другое.
– А на что бы ты потратил свои деньги?
Вопрос Чавкуна ударил Инцелла в череп. Он задумался.
– Да как будто и не на что, – пожал он плечами. – Нам ведь ничего и не предлагают купить.
Ещё одна странная вещь. А ведь действительно, никто им ничего не продавал, кроме личной свободы. Что-то остаточное шевельнулось в его мозгу: ведь раньше, наверно, деньги можно было тратить как-то иначе, а не только на откуп.
– Вы не помните, – спросил Инцелл, – когда вы жили с родителями, они покупали что-нибудь?
Все, кто сидел с ними за столом, переглянулись.
– Эм… – промычал кто-то: – н-нет. А зачем? Вот странный ты человек, Инцеллад. Вроде не глупый, медлицензия есть, а поговоришь с тобой – одна ерунда в голове. Ну если у нас даже в Москве всё есть, то уж там на природе-то и подавно всё было. Зачем что-то покупать?
Инцеллу нечего было отвечать. Логика вопроса была до зубного скрежета безупречной. Но опять, тут явно было что-то, чего никто не видел. И он этого тоже не видел. Ответ как будто лежал перед ними на столе, рядом с мисками, но был прозрачным.
Инцелл напрягся, пытаясь что-то вспомнить. Он знал, что всё забудет, но сам навык концентрации, не связанный со стримами, отпечатался в его подсознании, так что, если он хотел что-то вспомнить или о чём-то подумать, то знал, как к этому подойти.
Серьёзно сосредоточиться мешал галдёж в столовой, но случай был не слишком срочным. Между бровями свело, он прикрыл глаза и попытался нырнуть в детство. В свалке памяти закрутилось что-то про отпуска и больничные, но он понятия не имел, что означают эти слова. Наверно, он слышал их от родителей, а может, от бабушки, но всё было не то. Деталей обмена с внешним миром он не вспомнил и сдался. В конце концов, сейчас на его жизни эти знания никак не скажутся. Инцелл отцепился от своих далёких воспоминаний, и имплант тут же всё стёр. Память щёлкнула, как выключатель, и в голове стало сухо и пусто, и… Легко.
Степана тоже была в столовой. С тех пор, как они вернулись из больницы, она стала молчаливой, замкнулась и не участвовала в разговорах. Казалось, её привычная искристость забилась в самый дальний угол и больше не решалась высунуться. Раньше Инцелла всегда ждал колкостей с её стороны, но теперь он нервничал из-за того, что с ней происходило.
Что именно происходило, он не знал, но предполагал, что это как-то связано с имплантом. Она, как и он, пережила непривычные для себя эмоции, и это могло послужить спусковым крючком для коррекции памяти. Раньше он никогда не замечал, чтобы стирались воспоминания из обыденной жизни, но предполагал, что это возможно – почему нет, если они могли проделать это с их детством. У Степаны, в отличие от него, и детства-то не было кому вспоминать – про родителей она почти не говорила.
«Они? Кто они? И зачем это нужно?»
Его тряхнуло как от удара током. Поток мыслей оборвался.
Что-то со Степаной.
– Степана! – неожиданно крикнул он.
Все замолчали и посмотрели на него. Степана не подняла глаз от тарелки, которая уже была пуста.
Инцелл встал, подошёл к ней и предложил пройтись с ним.
– Куда ты хочешь идти?
Голос и даже сам вопрос сообщали, что её состояние с момента их прогулки от больницы до студии сильно изменилось. Трансформация произошла за пару дней. Сначала она перестала на него смотреть, потом стала сторониться.
– Не знаю, давай просто пройдёмся здесь, по студии.
Все смотрели на них, Инцеллу было ужасно тяжело.
Степана встала, Инцелл протянул руку, но она обошла его и быстро вышла из столовой.
Присутствующие заулыбались, стали перешёптываться, кто-то хихикнул.
Инцелл прикусил щёку. Он тоже вышел из столовой и направился в свою стримерскую. Он лёг на кровать и задумался об их будущем. Почему-то он никогда раньше об этом не думал. Ведь если они успеют откупить себя до творческого иссушения, когда их стримы станут никому не нужны, кроме самых бедных, как они найдут друг друга за пределами этой студии? Но он понимал, что это невозможный вариант событий. Математика была против этого – он просто откупится раньше, а Степана останется тут. Эта поразительно ясная мысль пришла именно в момент яркого эмоционального волнения, как будто туман, который гасил их сознание, развеивался только в моменты, когда они испытывали сильные чувства. Не примитивные ощущения, как когда кто-то транслировал эротическое переживание или вкус на большую аудиторию, а сложное, глубокое чувство.
Он поднялся с кровати. Подростковая психика требовала немедленного действия, он не знал, как ещё он может разрешить их ситуацию, поэтому решил заняться тем, что умеет лучше всего, – начать стримить в необычное для себя дневное время, несмотря на риск приближения творческого иссушения.
Сев в потёртое кресло, он огляделся вокруг. Было светло, он встал, закрыл жалюзи – так привычнее. Теперь можно было сосредоточиться. Интерфейс принял сигнал о том, что он готов стримить, и разослал его сенсикам. Инцелл немного подождал, пока те соберутся на его стрим. Было даже интересно: ведь он не знал ничего о мире тех, кто принимал его подсознание в себя, а смена времени могла кое-что сказать об их распорядке дня. Система показала обычное количество сенсиков. «Значит, они могли подключаться в любое время», – понял он. В углу зрения вспыхнули знакомые цифры подключений и тонкая полоска донатов, ползущая вверх.
Обычно глубина его погружения в уютную комнату с кроватью и любимой подушкой объяснялась просто: он действительно хотел спать. На этот раз он сильно хотел как-то помочь себе и Степане вырваться из этого состояния, непонятно кем и как созданного для них. На секунду появился страх, что он не справится, потому что условия и мотивация на этот раз были иными, но он отбросил страх и приступил.
Начал, как обычно, с самогипноза: насильно поддерживая состояние между сном и явью, он оказался на тонюсенькой ниточке подконтрольного почти-сна, которая давала власть над материей первичного и бессознательного. Здесь, на грани сна и яви, Инцелл мог создавать переживание безграничной интенсивности. Но чтобы не потеряться там самому и не увлечь сенсиков в бездну, из безграничного набора образов он сконцентрировался на подушке. Она была не только объектом трансляции, но и якорем. Никто не понимал всего сложного комплекса эмоций и волевых актов в плетении его стрима, но принимающие умы могли наслаждаться конечным результатом. Стрим потёк в Сеть, а оттуда ощущения пошли напрямую в мозг сенсиков. Их разум выключался, и на время они забывали, кто они.
В отзывах на стримы Инцеллада был один повторяющийся мотив: о прикосновении к настоящему. Всё: будущее, прошлое, идеальное и реальное, болезненное и весёлое – всё становилось пуховой подушкой. Вход в это состояние предвосхищался почти оргазмической иннервацией центров мозга, связанных с удовольствием, а потом всё таяло, и реципиенты его стримов теряли себя.
Но эта потеря не была тем же, что при употреблении шума – самоуничтожающегося программного вируса, нарушающего работу нейрочипа и приводящего к разрыву ткани реальности. Потерять себя на подушке Инцеллада означало прикоснуться к чему-то вечному в себе, к некоей истине, которую в детстве ощущает каждый, но в процессе жизни всё больше отдаляется от неё. Погружение в его стрим сворачивало спираль обратно, а не разбалтывало её, как шум, оно возвращало к исходной точке индивидуального бытия. Через мягкую уютную подушку миллионы людей, готовых заплатить, возвращались к истоку своего существования, словно становясь беззаботными детьми.
Это приносило ему огромные деньги. По неизвестно кем написанным правилам, после откупа на стримера налагался запрет на эту деятельность, как им говорили, из-за невозможности разместить вне города мощные усилители сигнала имплантов. Таковы были официальные экологические требования.
Но сейчас это было неважно. Инцелл создавал, испытывал и транслировал ощущение уюта, безопасности, чего-то бесконечно родного и всепринимающего. Он делал это так долго, что на подкорке заплясали искры предупреждений о мозговой перегрузке, но он не хотел сейчас задумываться о проблемах и ограничениях этого мира, о том, что он сейчас сидит в комнате старого и неоднократно перестроенного здания, в чужом пространстве, выполняя работу на неизвестных ему людей, что он желал таким образом спасти себя и любимую из сырого, серого ада, где их участь была предрешена неизвестными силами, с которыми ничего нельзя было поделать, потому что он даже не знал, что это за силы.
Он просто хотел ощущать тёплый древесный запах родного дома, мягкий пух белой подушки, приятно поскрипывающей в ухо при движении головы, вдыхать слегка щекочущий ноздри воздух и быть в полной уверенности, что никто за ним не следит.
Глава 4
У ментального стримера есть около двух лет пиковой мощности переживаний для хороших продаж, потом воображаемые образы теряют в резкости, и острота ощущений падает. Падение качества трансляций ведёт к уменьшению количества сенсиков, а вслед за этим пересыхает денежный поток. Инцелл понимал, что с возрастом чувственность становится сложнее и глубже, но всё это не делает стримы более привлекательными. Первая молодость – вещь абсолютно уникальная, и этот период никогда уже не повторится вместе с остротой его переживаний. Около восьмидесяти процентов откупных успешный стример зарабатывает за первый год, оставшееся он может собирать десятки лет, опускаясь сначала до визуальных стримов, а потом и до чавкунов. Эти люди жили надеждой, что до подвалов под студией очередь не дойдёт, но все подспудно понимали, что именно там они и окажутся.