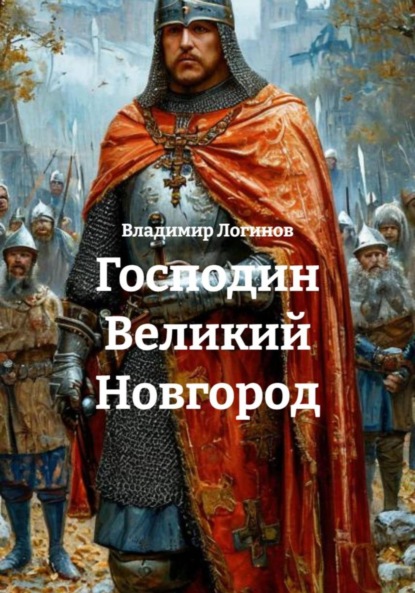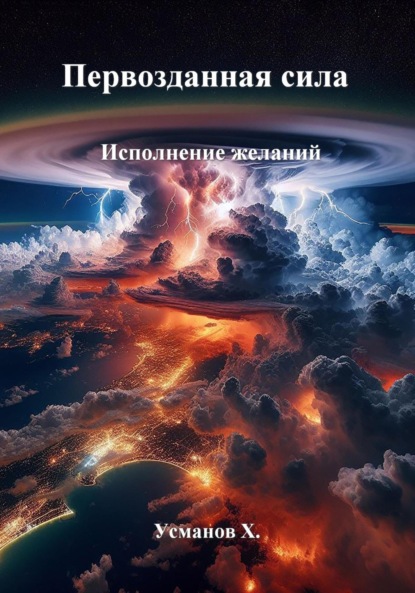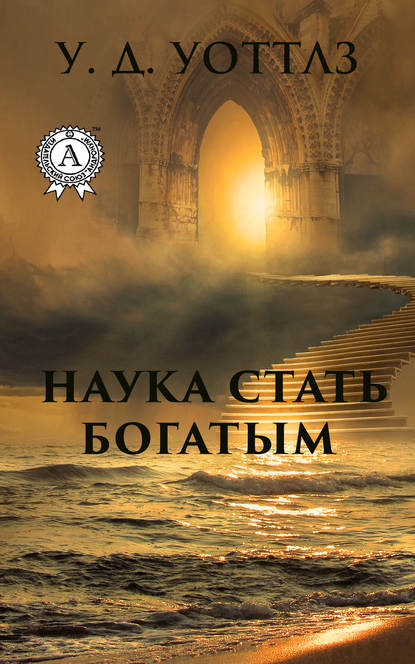- -
- 100%
- +
Сынок-то у тебя, Теппана, вежливый, не то, что ты.
По выговору видно было, что старуха к русским людям отношения не имеет, скорей всего она из скандинавок.
–– Тебе, Пекка, – старуха строго взглянула на Петра, – повоевать вскорости придётся! И немало – года три, а то и поболе.
Пётр обомлел от таких вестей и, не шелохнувшись, молча взирал, почему-то, на старухин зуб.
–– И вам, старым хрычам, – старуха перевела свой взгляд на Степана с Микко, – тоже войны хлебнуть придётся сполна.
–– Какие мы тебе хрычи? – неприязненно прошипел Степан.
–– Ну, не молоденькие же? – криво усмехнулась старуха. – С Пеккой вон не сравнишь. Ничего, повоюете и вы – это я вам говорю, Хозяйка Севера, а я зря своих слов на ветер не бросаю.
Троица молча и заворожённо смотрела на старуху, а та продолжала вещать:
–– Ты, Пекка, не бойся, – скрипела она, – живым из войны выйдешь, моя рука всегда будет выше, чем рука твоего недруга, мало того судьбой тебе предначертано, что женой тебе будет северная дева и имя ей будет Бланка. Запомни это, парень, с другими девами у тебя ничего не получится. Ладно, жарко тут у вас стало, надо перебираться в Лапландию.
Старуха замолчала, улыбнулась Петру и медленно растаяла в вечерних сумерках. Троица, обомлев, долго, словно застывшие истуканы, сидела и молча смотрела в пустоту, вернее, на место, где только что разыгралась странная мизансцена. Наконец, Пётр глухо спросил:
–– Кто это?
Первым очнулся Микко и, перекрестившись, деревянным голосом ответил:
–– Так, Лоухи! Хозяйка Севера!
–– Да не-ет, – глухо протянул Степан, – не могёт того быти, так, привиделось нам, морок то.
–– Да говорю же, ведьма Лоухи, – настаивал Микко.
–– Да откуда ей тут быть, Михаил? – опомнился Степан, тоже накладывая на себя крестное знаменье. – Здесь ведь не Похьяла, не страна Суоми, скорей, это тутошняя, местная ведьма.
–– Ты что, не слышал? – встрепенулся Микко. – Она же прямо заявила – Хозяйка Севера.
–– Так ведь по-русски говорила-то? – не сдавался Степан.
–– Тхе, да она на любом языке, аще это нужно, говорить может, – пояснил Микко. – На то она и Хозяйка Севера.
–– Здесь же не север.
–– Новгородская земля тоже север! – отпарировал Микко.
–– А яко поверить-то тому, что она тут наговорила? – вклинился Пётр.
Микко повернулся к Петру, участливо погладил плечо парня.
–– Судьбу простого человека, Пекка, – мягко заметил он, – она предсказать может, но и хитрость в её предсказании тоже может быть. Будь настороже, парень.
–– Тако, дядя Микко, почему она упомянула имя Бланка? – засомневался грамотный Пётр. – Ведь известно же, что Бланка Намюрская есть жена Эрика Магнуссона, герцога Сёдерманландского.
–– Ну, что на Бланке Намюрской свет клином сошёлся, Пекка? – возразил Микко. – Для тебя жена герцога старовата будет, видно, ведьма Лоухи про другую Бланку речь вела, про молодую деву, и, пожалуй, старухе можно верить, уж, если она напророчила, то сбудется. Думаю, понравился ты старухе Лоухи, а потому знаю одно, Пекка, аще кто по нраву пришёлся северной ведьме, то помогать будет.
–– Да, что у нас, у русских, дев мало? – воспротивился Пётр.
–– Думаю, что только юная дочь Похьялы, или кто-то из шведок, придётся тебе по нраву, Пекка, – медленно заговорил Микко. – Имя Бланка и там, и там встречается. Советую тебе, парень, не перечить старухе Лоухи, она над тобой длань свою распростёрла, не один вражеский меч не обрушится на твою голову, говорю же понравился ты ей, а уж почему, про то не ведаю.
–– Да я ж христианин! – возразил Пётр. – Что мне эти старухи? Мало ли чего они там наболтают.
–– Я тоже христианин, Пекка, – рассуждал, умудрённый жизнью, Микко, – но старуха Лоухи относится к высшим силам, прислушиваться тоже надо, хоша бы и краем уха, где тут грех, или не грех, попробуй разбери.
Пётр подкинул на красные угли костра несколько крупных веток валежника и огонь весело заплясал на сушняке, осветив потемневшую поляну. Весеннее небо над головой из бирюзового превратилось с тёмно-синее и звёзд на нём прибавилось значительно, где-то в лесу проухала сова, ищущая себе пару, тишину позднего вечера нарушали только иногда пофыркивающие поодаль кони. В это время к костру подошёл высокий человек в небрежно накинутом на плечи зипуне.
–– Я до ветру вышел, – заговорил он с небольшим акцентом, – слышу вроде голос знакомый. Ну, буди здрав, Микко Пелтонен!
Микко обернулся и, увидев освещённое костром лицо подошедшего, воскликнул по-русски:
–– Юхан! Ты ли это? Давно ведь не видались, года три уж! Ну подсаживайся к нам. Вот, Теппана, – обратился к Степану Колоде Микко, – ты ведь тоже знавал Юхана из рода Тойво?
–– Да я уж и тако гляжу, что рожа-то знакомая, – пробубнил Степан. – Садись, Юхан, да выпей вот горячего чаю. И то верно, давно не видались.
Вновьприбывшему зачерпнули из котелка лесного напитка и, пока он не отхлебнул несколько глотков, помалкивали. Наконец, Степан задал вполне законный вопрос:
–– Ты чего тут оказался-то, Юхан? До нас слухи дошли, что ты торговлю пушниной забросил, ко двору короля Магнуса прилабунился, в Сигтуне сейчас живёшь, – и, усмехнувшись, добавил, – небось, король тебе уже землю дал и титул графа присвоил.
–– Ага, сейчас! – встрепенулся гость. – Как же дождёшься от него. Он ведь до того скуп, мужики, что даже церковную десятину в Рим перестал высылать, себе присвоил, а Папа Римский ему за то отлучением от церкви грозит. А еду я, парни, с делегацией в Великий Новгород, к архиепископу вашему Василию, к «Золотым поясам». Вон и повозки наши и кони.
–– Ну-ка, ну-ка! – подстегнул, оживившись и посуровев, Степан. – Что за делегация, зачем? Аль секрет? Ты ведь знаешь, Юхан, что я сам из «Золотых поясов» и еду вот на сход Совета Старейшин, он у нас каждую весну.
–– Да какой там секрет, Теппана! – начал выкладывать гость. – Ты же знаешь, что толмачу я по-русски не хуже вот Микко. Везу вот по приказу короля двух пасторов, да специального королевского посланника с пятёркой охранников. Вон в избе все дрыхнут.
–– Посланник-то ладно, на Совете Старейшин он скажет зачем приехал, а пресвитеры-то католически чего у нас забыли?
–– Едут по приказу короля для диспута с вашими епископами! – отчеканил Юхан. – Чья, стало быть, вера лучше.
–– Тьфу ты! – рассердился Степан. – Делать, что ли им нечего? Только диспутов нам и не хватало, чего зря болтать?
–– Моё дело толмачить, Теппана, – отрубил Юхан, – остальное меня не касается. Королевский посланник Ульрик грамотку везёт, что в ней я пока не ведаю, королевской печатью она закрыта, запечатана – вот на Совете я её вам и прочитаю. Король Магнус флот свой пригнал к Берёзовому острову, с наёмниками, чего-то, думаю, затевает, пока не знаю, но вот, на Совете у вас всё и прояснится.
–– Флот, говоришь, пригнал, – задумчиво бросил Степан. – К чему-то готовятся твои хозяева, Юхан. Сколько кораблей-то?
–– Да не менее четырёх десятков, Теппана, – беспечно выложил Юхан. – Пять двухмачтовых галеасов на девяносто вёсел, Пять трёхмачтовых шнек, остальные одномачтовые кнарры и когги, но вместительные, до ста человек пехоты могут взять на борт. На галеасах полсотни строевых коней, на шнеках, кроме пехоты тоже кони есть. Наёмников много – датчан, немцев, их привёл с собой граф Герман Голштинский.
–– Не к добру это, видать, не зря тут старуха, намедни, про войну языком своим непутёвым чесала.
Степан многозначительно посмотрел на Петра, на Микко.
–– Какая ещё старуха? О чём ты, Теппана? – насторожился Юхан.
–– Да только что тут была ведьма одна, вот тут сидела, всё войной пугала, – зло бросил Степан. – Чего доброго, и в сам деле накаркала старая кочерыжка, накликала войну, сволочь трухлявая, всё настроение испортила, Господи прости мою душу грешную! – взвыл он. – А ты, Юхан, вот взял и выложил секрет воинский посторонним людям, совесть тебя не гложет?
–– А чего она меня будет глодать, Теппана? – тут же с вызовом бросил Юхан. – Вы мне люди давно знакомые, тем более, что ты сам из «Золотых поясов» и член Совета Старейшин. А что касаемо шведов, так я королю Магнусу на верность не присягал. Я ведь из народа емь, сын Похьялы, плевать мне на шведскую корону. Моё дело перевод с русского на шведский и наоборот. Рагнар Ульф, королевский казначей, заплатил, мне от щедрот королевских, яко нищему пять крон серебром, с тебя, говорит, хватит и этого, невелика работа истолмачить русским то, что, мол, скажет королевский посланник «Золотым поясам» в Великом Новгороде. Так что никому я ничем не обязан, Теппана.
–– Перетолмачить с одного языка на другой, Юхан, – это дело ответственное, – назидательно заговорил Степан. – А ну, да в пользу противной стороны переведёшь, тут ведь точность нужна.
–– Нужна! – тут же подхватил гость. – Но и ты меня пойми, Теппана, – честь сына Похьялы уронить, для меня страшней любой клятвы. Речь иноземную толмачу я честно. Я хоть и христианин, но великий Вяйнямейнен незримо и глубоко сидит у меня в душе. Да и учти, Теппана, исказить перевод, да ещё в пользу противника – это добровольно надеть на свою шею верёвку.
–– Ну ладно, ладно, понимаю, Юхан, а как ты вообще попал в толмачи? – поинтересовался Степан. – Торговля пушниной, по-моему, гораздо прибыльней.
Юхан смочил пересохшее горло чаем, пояснил слушателям:
–– Ещё три года назад привёз я пушной товар на рынок Стокгольма. Торговцев иноземных там оказалось тогда немало, были и ваши, новгородцы, торговали бухтами верёвок, дёгтем, бочками с тележной мазью. Ну, а я, видно, громко орал по-русски, по-шведски. По рынку тогда проходил любимец короля Магнуса молодой повеса Беннет Альготссон, ну, услышал меня, подошёл, поговорили, он тогда приобрёл партию меховой рухляди у меня, заплатил щедро, золотом. Он уже тогда был герцогом страны Суоми, то-есть номинально моим владыкой – вот и взял меня в свою свиту на должность толмача, ослушаться я не мог, пришлось торговое дело бросить. Правда герцог платил хорошо, грех жаловаться. Ну, а в этом случае королевский казначей Рагнар Ульф меня обидел, посчитал, что моя работа толмача плёвая, ничего, якобы, не стоит.
–– Ульф, – это по-русски будет волк, – усмехнулся Степан, – ну, а от волка, что можно получить? Он сам смотрит, где бы что ухватить.
–– Шведы, Теппана, – подхватил Юхан, – издавна на мою страну стараются свою загребущую лапу наложить, сынов Похьялы закабалить, да наших ярлов меж собой стравить. Шведы и так ведут себя на моей родине как хозяева, так за что мне их любить?
–– Ага, а я люблю! – ядовито заметил Степан. – В Швеции рудники, железная руда богатая, но короли шведские, Юхан, уж шибко капризные: одни разрешают нам руду закупать, другие запрещают, хотя товары наши: тележную мазь, к примеру, канаты и парусину для своих кораблей охотно берут. А соль?! Соль-то наша шведам и норвежцам, да и другим заморским фрягам ой как нужна. Вот дед нынешнего Магнуса король Ладулос Фолькунг не препятствовал поставкам железной руды в Новгород Великий, а внук Магнус запретил. У нас, конечно, и своя руда имеется, но она болотная, бедная, а шведская из каменной руды, а потому богаче по содержанию железа. Не зря же шведское оружие высоко ценится в мире, но и наше оружие не хуже шведского, а, может, даже и лучше. Крепость оружия ведь от мастера, от кузнеца, зависит, как умело сработает.
–– Согласен с тобой, Теппана! – охотно поддержал Юхан. – То-то, король Магнус недоволен, что вы, новгородцы, продаёте оружие сыновьям Похьялы, но ведь кто к народам емь и карелам ближе? Ясно ведь – опять же новгородцы, шведы-то за морем, а вы тут, рядом. Люди Похьялы никогда не воевали с вами – только торговали, всем было и есть хорошо, а шведам завидно, потому и недовольны, злобствуют.
–– Ладно, парни, давайте спать, – закончил беседу Степан, – ночь уже, утром вместе поедем до Великого Новгорода…
*****
Глава 2. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УПСАЛА
Утром все: и гости дипломатические, и гости торговые, растянувшись в колонну, отправились по Волховской дороге вместе и с короткими остановками по пути к вечеру прибыли в Великий Новгород. Несмотря на вечер город встретил прибывших несмолкаемым и привычным шумом: звонким перестуком кузнечных молотков, который тонул в блеянии овечьих стад, возвращавшихся с поля, в рёве коров, которые искали своё подворье и призывали хозяек, а ещё гоготали гусиные стада, идущие с Волхова домой, да мало ли какая скотина крякала, гоготала и ревела в городе, когда наступает вечер, и люди, и скот, и домашняя птица торопятся закончить свои дневные дела до темноты.
Солнце уже скрылось за синей полоской горизонта на недружественном западе, но оставило роскошную красную зарю на позеленевшем небе, что предвещало ветреную погоду на утро, но тёплый и ясный день. Переводчик Юхан повёз своих подопечных в гостевой дом, а у Степана в Новгороде был ещё один дом, поменьше, чем в Ладоге, но вместительный, с подворьем и огородом.
Следила за этим домом двоюродная сестра Степана, тётка Дора. Женщина степенная и хозяйственная, она держала на подворье двух коров, гурт овец и в лето не менее четырёх подсвинков, не считая кур и гусей, а огород у неё был засажен капустой. Жила тётка Дора торговлей на городском рынке: продавала квашенную капусту, сало, свинину, яйца куриные, творог, масло коровье, из овечьей шерсти она предлагала покупателям вязанные носки и варежки. На сено для коров и разный фураж для скотины, да на дрова в зиму, брат Степан давал Доре деньги, или сам закупал, когда случался наездом в Новгороде.
У тётки Доры была дочь, долговязая Елизавета, она и помогала матери по хозяйству. В кого уродилась девка соседям было непонятно, но женихи прозвали девушку оглоблей за рост чуть ли не в косую сажень, брезговали такой невестой, угловатой, плоскогрудой и замуж не брали, хотя на лицо, так девушка была красавицей с косой из светлых волос. Из городских невест Елизавета числилась перестарком, двадцать лет – это уж перебор, а потому дочь тётки Доры давно уж махнула рукой на своё замужество, смирилась и всю заботу и нерастраченное чувство перенесла на дворовую животину, на собаку, на домашний быт, а ещё на песни. Пела девушка красиво, проникновенно, но песни её часто были не очень-то весёлые.
Степан с Микко и сыном на подворье тётки Доры приехали поздновато. Степан и Микко сразу прошли в дом, а Пётр, распряг коней, напоил их из дворовой колоды, завёл усталых лошадок в конюшню, засыпал в кормушки овса, после чего тоже прошёл в дом. Пока не совсем стемнело, Дора с дочерью поторопились накормить гостей ужином: кашей и рыбным пирогом, творожными ватрушками с чаем. Пётр, попивая чай, всё посматривал на хлопотливую Елизавету. Глаза у девушки на странно детском лице были очень уж красивые: большие, выразительные, серые с загадочными полутенями, они завораживали, но вот рост, видно, останавливал потенциальных женихов, потому как они в большинстве своём были вровень с невестой а то и на полголовы ниже, а кому ж охота быть ниже жены. Степан, жалостливо поглядывая на племянницу, и, зная о её проблеме с замужеством, грубовато успокоил:
–– Ничего, Лизавета, найдётся и на твою шею какой-нибудь дурак.
–– Тхы, – вздёрнула головой племянница, убирая со стола пустую посуду, – зачем мне дурак-то, дядя Степан?
–– Ну, как же? – густым басом заговорил Степан. – Знамо дело: дурак женится – умному дорогу кажет.
–– Дурак-то, дядя Степан, – заметила племянница, – всё наше хозяйство промотает, на дым пустит.
–– Я его сам на дым пущу, девонька! – пригрозил, ядовито усмехнувшись, Степан. – А потом, Лизавета, ты не кручинься, не горюнься, я за тобой такое приданое дам, что к тебе не дурак, а рассудительный, умный мужик явится и не посмотрит, что ты дылда. Видать ты в деда Ивана пошла, он ведь тоже долговязый был, руки длинные, а с мечом тако ещё длинней, не зря же его князь Александр Ярославич в бою в первый ряд ставил. Он ведь как таран был, от него, долгорукого, да с мечом противник с воем, говорят, разбегался. А потом, Лизавета на рожу-то ты ведь красивенькая, баская. Да вот погоди, завтрева на сходе боярском, я этак, вскользь, специально пущу слух, что даю за племянницей дом на реке Мсте, да землицы к нему двести десятин, да коней, да коров, да овец со свиньями. Сейчас там у меня арендаторы вкалывают, догляд добрый, хозяйский нужон, а у меня на всё времени не хватает. И-и… Вот клянусь тебе Крестом Святым, что через неделю от сватов у вас тут отбою не будет.
–– Я уж старая, дядя Степан, – зарделась девушка, даже в сумерках стало видно, – кому я нужна.
–– Ничего, вот умному, да хозяйственному и понадобишься, – заключил Степан. – Дураков нам в роду не надобно.
–– Я по любви хочу, – вырвалось у девушки.
–– Э-э-э, милая моя, – рассудил Степан, – без моей помощи так в девках и сгинешь, а я же чую – семью свою хочешь, о семье мечтаешь.
–– Да я уж к своему незамужнему положению притерпелась, дядя Степан, – печально улыбнулась Елизавета.
–– Надо было мне раньше судьбу твою устроить, – проворчал Степан. – Всё дела, да дела, разъезды торговые, всё богатства наживаем а о душе, о родне и подумать некогда. А любовь, Лизавета, дело наживное, коли, мужик придёт добрый, да хозяйственный, тако и полюбишь. Известно ведь, вы бабы вечно на красивеньких, да наглых дураков падки, а потом слёзы проливаете. Дурак он ведь наперёд не думает, ответственности мужеской у него отродясь не бывает, а вы же на рожу его наглую западаете, на ухажи его притворные. Так-то милая. Всё, решено, будет у тебя муж добрый – это я тебе говорю, Степан Колода. Тако что шей, да украшай рубаху жениху, да не какую-нибудь, а из шёлка китайского, красного.
Степан взглянул на молчащих Микко и Петра, подмигнул им и тут же распорядился:
–– Петра! Иди-ка на двор, да принеси там из брички свёрток в рогожке.
Парень мигом сносился на двор и принёс свёрток. Степан развернул рогожку, там оказалась штука голубого шёлка с диковинными цветами по полю аршин на двадцать и две шкурки норки.
–– Вот, Лизавета, сходишь завтра в Торговую сторону, на Готский двор к греку Никосу Леонидису, там у него мастерская возле собора Святого Олафа, небось, ведаешь?
–– Ведаю, дядя, – коротко ответила племянница.
–– Скажешь ему, что от меня, ну и закажешь у него себе платье новое с меховой оторочкой, да, чтоб красно сладил. Леонидис меня хорошо знает – вот и разнесёт по всему городу, что, мол, племянница Степана Колоды платья дорогие заказывает, женихи-то в городе сразу уши свои навострят. Вот тебе деньга.
С этими словами Степан вынул из кошеля серебряную, шведскую крону и положил на стол.
–– Тут тебе, девонька, хватит и на платье, и на ленты, и на нитки, и на всё прочее, и Леонидис доволен будет. За такую деньгу он уже через день другой тебе платье сладит.
–– Спаси тя Христос, дядя Степан! – смутилась девушка и низко склонилась перед родственником.
–– Та-ак, Степан, – вставила слово тётка Дора, до того молча слушавшая обнадёживающие речи брата, – а яко ж я? Племянницу замуж отдашь, а я как тут одна с хозяйством твоим?
Степан на сестру взглянул и быстро нашёл выход:
–– Не тужи раньше времени, Дора, – весело усмехнулся он. – Я тебе младшенькую свою, Ксюшу, привезу – вот и приучай её по дому хозяйствовать.
Все девушки любят наряды, обрадовалась и Елизавета, но, главное, в душе её зажглись какие-то тайные надежды, какие-то смутные ожидания. Оптимистичный и богатый дядя энергично взялся осуществить её мечты и ведь добьётся своего, Елизавета хорошо знала жёсткий характер своего родственника.
Утром вся родня вместе с гостем Микко сходили к заутрене в ближайшую церковь Богоявления, после чего Микко со своей телегой отправился закупать наконечники для стрел, а это несколько сотен, а ещё нужна льняная ткань на рубахи карельским охотникам, кожаные мокроступы, бухта тонкой верёвки на полсотни саженей и бухта скотских жил, специально выделанных для силков на мелкого зверя в лесу.
–– Пойдёшь с Михаилом, Петра! – распорядился Степан. – поможешь ему с закупками. Ну, а я пошёл на сход «Золотых поясов» в городскую управу.
*****
Город Великий Новгород уже в первой половине четырнадцатого века занимал в плане четыреста гектаров земель и делился на две неравные половины рекой Волхов. Одна сторона называлась Софийской и там действительно располагался огромный собор Святой Софии, видный издалека и отовсюду, была вечевая площадь, детинец с резиденциями наёмного князя и избранного посадника, казармами дружинников, конюшнями, кузнями и другими необходимыми службами. На этой же стороне была и большая съезжая изба для заседаний городского совета. Кроме храма Святой Софии на этой, да и на другой стороне высилось не менее десятка церквей поменьше, стояли двухэтажные терема богатых новгородских торговцев и бояр, дома простых горожан, ремесленников, семей дружинников. На Софийской стороне было три основных конца: Загородский, Неревский и Людин, а на Торговой стороне располагалось ещё два конца: Славянский и Плотницкий; все эти концы имели ещё и переулки с ремесленным людом.
Вечевая площадь с большим колоколом для созыва собраний не могла вместить всё население города, да и не было в том нужды. Вече собиралось только по очень важным, чрезвычайным случаям, например, в случае военного положения и тяжёлому, басовитому голосу вечевого колокола на площадь бежали, бросив все дела, делегаты от городских концов. У каждого конца было ещё несколько концов-переулков, например, в Плотницком конце были тележный, бондарный, корабельный или лодочный и так далее, а в Славянском конце были свои подконцы и вечевые делегаты от текстильщиков, канатчиков и парусных дел, а, скажем, в Загородском конце были свои подконцы и делегаты от них: гончарный, кузнечный и так далее. Так что на Вечевую площадь являлись делегаты от разных концов и собиралось их более двух сотен.
В городской Совет Старейшин выбирались граждане именитые, часто богатые, так называемые «Золотые пояса», но были среди них и делегаты от концов, особенно оружейные кузнецы, которые и сами были богаче многих новгородских бояр и торговцев, так что в городском собрании были представлены все социальные слои городского самоуправления, потому что Господин Великий Новгород, как и многие города Европы, был республикой и князя с дружиной мог пригласить для обороны своей территории, а мог и послать, если надоел, куда подале. Кстати, рядом с огромной по территории Новгородской республики, к западу, на реке Великой, была ещё одна средневековая республика – Псковская, которая только и занималась тем, что почти постоянно отражала набеги немецких и датских рыцарей Ливонского и Тевтонского орденов, а ещё разбойничьи набеги литовских князей, но всё же успевала и торговать с тем же Западом.
Надо сказать, что на Руси во времена Раннего Средневековья было немало городов имевших республиканское самоуправление и удельным князьям приходилось считаться с волей народа. Вообще, огромную Восточно-Европейскую равнину, вплоть до Уральских гор, заселённую различными славянскими и угорскими племенами можно рассматривать как конфедерацию славянских государств. И над всеми ими распростёрла свою объединяющую всех руку Православная вера церкви византийского толка и власть московских великих князей.
Широкий мост через Волхов, по которому могли вполне разъехаться две, гружёные большой шапкой сена, повозки, держался на двух мощных, из морёной лиственницы, быках. Эти быки, заострённые с одного конца, и, встречавшие весенний ледоход, уже не одну весну спокойно кололи наползавший на них лёд, на котором, к тому же, по приказу тысяцкого городские стражники ближе к весне делали с десяток лунок. Мост соединял Торговую и Софийскую стороны, по нему ежедневно, с утра до вечера шли по своим делам горожане, катили пустые и гружёные товаром телеги. Очень уж важное сооружение для города этот Волховский мост.
Население в городе постоянно колебалось: иногда проживало тридцать тысяч, а то доходило и до семидесяти тысяч, но постоянно проживающих славян в Новгороде было меньше половины, большая часть населения состояла из людей ближних племён води, ижоры и иноземных торговцев с семьями и наёмной челядью с Запада и не меньше было торговцев с юга. Торговцы из городов Ганзейского союза понастроили себе в Новгороде дома с подворьями, получилась целая улица и не одна. Вместе с торговцами с острова Готланд этих купцов, постоянно проживающих в городе, было уже более двухсот, а ещё надо прибавить сюда их семейства. Кроме этих северных торговцев, которые со временем образовали в Новгороде Готский и Немецкий дворы с лавками, разными службами, своими католическими храмами: Святого Олафа у одних и Святого Петра у других, в городе временно или постоянно находилось огромное количество торговцев с юга, у которых тоже были свои дома и свои семьи.
Это, в первую очередь, греки со своими товарами и валютой: фолла, милиариссиями и золотыми византиями, это и восточные торговцы со своими товарами, и тоже со своими деньгами: дирхемами, курушами, пиастрами. Одним словом, в большом северном городе собрались торговцы со всего света, потому что товары, словно реки текли с севера на юг, и наоборот, и с востока на запад. Новгород стоял на перекрестье мировых торговых путей и только за год товарооборот приносил в казну города неимоверный доход. А, если прикинуть с девятого века, со времён Рюрика и князя Олега Вещего? А уж сколько оседало денег в мошнах бояр и новгородских торговцев одному Богу известно. Богатый город всем зарубежным соседям застил глаза, потому и назывался устно и в документах – Господин Великий Новгород…